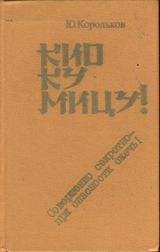
Текст книги "Кио ку мицу !"
Автор книги: Юрий Корольков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Корольков Юрий
Кио ку мицу !
Юрий Михайлович Корольков
Кио ку мицу!
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО – ПРИ ОПАСНОСТИ СЖЕЧЬ!
ПАСТЕУРЕЛЛА ПЕСТИС
ПРОЛОГ
В далеком забайкальском городе стоял памятник человеку, подвиг которого сейчас забыт... Помнится, когда разгромили Квантунскую армию, когда закончилась вторая мировая война, обелиск этот еще стоял на площади недалеко от вокзала. Но уже тогда памятник приходил в ветхость – облицовка на нем отваливалась плоскими, как фанера, кусками, обнажая кладку из могучих лилово-малиновых кирпичей, таких кремнистых, что бери хоть любой на огниво. Таких кирпичей у нас давно не делают, взяли их на памятник, скорее всего, из разбитого купеческого лабаза или развалин церквушки, прекративших существование в гражданскую войну.
Цементные буквы на постаменте, что составляли простую русскую фамилию, тоже осыпались, и памятник сделался безымянным. Памятник стоял чуть не со времен гражданской войны. Может быть, теперь его уже нет, не знаю,– давным-давно не был я в том далеком забайкальском городе...
А воздвигли памятник человеку, который спас, быть может, миллионы людей, предотвратил народное бедствие, нависшее вдруг над Россией, над молодой и неокрепшей Советской республикой. Был тот человек по специальности доктор-эпидемиолог.
По некоторым причинам я не стану пока называть настоящего имени доктора. Не пришло еще, видно, время говорить все до конца... Я назову доктора Александром Никитичем Микулиным...
Из близких Александра Никитича никто уже не помнит, при каких обстоятельствах он вернулся на Дальний Восток. Происходил он из ссыльнопоселенцев – отца угнали в Сибирь еще в конце прошлого века за участие в крестьянском бунте в средней полосе России. Семья Микулиных жила на Аргуни у Нерчинского завода. Перед войной четырнадцатого года студент последнего курса медицинского института Александр Микулин, не успев получить диплом, угодил в армию. Считали, что он легко отделался, – за участие в студенческих беспорядках ему полагалась каторга.
В семейном альбоме сохранилась его фотография того времени: молодой прапорщик лет тридцати с перевязанной рукой сидит, опершись на бутафорскую балюстраду. Здоровой рукой он придерживает эфес сабли, на коленях лежит фуражка. Волевое лицо, задумчивые и одновременно дерзкие сосредоточенные глаза.
Говорили, что после германской войны он партизанил в отряде Сергея Лазо. Воевал с Колчаком, бароном Унгерном, японскими интервентами. Какое-то время учительствовал, потом вернулся к своей специальности.
Вот тогда все и случилось. Александр Никитич заведовал в то время противочумной эпидемиологической станцией, что стояла в стороне от города, за высоким непроницаемым забором, под надежной охраной. Врачи имели дело с активной вакциной чумы, содержавшейся в стеклянных колбах, проводили опыты над грызунами – разносчиками заразы. Лаборатория находилась в центре противочумной станции за вторым забором, охранявшимся еще более строго.
Работали врачи посменно – неделю одна группа, неделю другая. После такой вахты в центре противочумной станции проходили карантин и только тогда возвращались домой. В лабораторию шли через два кордона и связь с внешним миром поддерживали только по телефону.
Стояла зима, морозы были суровые, близился Новый год. В добровольное заключение, как обычно, ушли вшестером – три врача, лаборантка, истопник и уборщица. Вечерами после работы собирались в "кают-компании", как прозвали тесненькую столовую, распивали сибирский чай, крепкий, как чифир, разговаривали, спорили, вспоминали, мечтали о встрече Нового года. Но встретить праздник довелось не всем. Однажды вечером занедужилось уборщице-санитарке, женщине тихой и робкой. Сначала думали – простудилась. Но все же Александр Никитич распорядился ее изолировать, сам смерил ей температуру. Пока ничто не вызывало особой тревоги, а наутро картина стала ужасающе ясна: надрывный, мучительный кашель, невероятная слабость, высокая температура, а главное – кровавая мокрота подсказывали диагноз – чума!
Ошеломленный Александр Никитич вышел из комнаты, остановился в дверях "кают-компании" и глухо сказал:
– Спокойно, товарищи, здесь, несомненно, пастеурелла пестис... Немедленно принять меры для индивидуального карантина. Ухаживать за больной буду я. Со мной – никаких контактов!.. Температуру измеряйте каждые два часа.
Лаборантка слушала, сжимая виски концами пальцев. Лицо ее стало бледным, испуганным.
– Александр Никитич, ухаживать должна я, вам это...
– Никаких разговоров! – сухо прервал Микулин. – Выполняйте распоряжение... А вам спасибо, Елена Викторовна, – глаза его потеплели. – Спасибо вам, но я уже был в контакте с больной, мне рисковать нечем...
Он улыбнулся болезненно-грустно, ушел в свой кабинет и стал звонить в горздравотдел, долго крутил ручку эриксоновского настенного телефона, наконец на той стороне провода услышал знакомый добродушный голос:
– Ну как, товарищ Микулин, все в порядке? Новый год встречаешь?
– Нет, не в порядке. Беда у нас!..
– Что за беда?..
– На станции случай пастеурелла пестис... Больна санитарка.
– Что ты сказал?!.. Пастеурелла пестис!.. Да ты что?!
– Да, да, к сожалению, это так... Сообщите в обком, надо немедленно принимать меры. В городе следует объявить карантин. Для профилактики. Иначе пастеурелла пестис может распространиться на область.
Александр Никитич упорно называл чуму латинским термином – мало ли кто может слушать их разговор.
– Но ты уверен в диагнозе?
– Да, это так... Будем ждать, – заключил разговор Микулин, может, дай бог, обойдется одним случаем...
Но одним случаем не обошлось. Состояние больной все ухудшалось. Александр Никитич мучительно думал – откуда могла прорваться зараза? Расспрашивал санитарку, та отвечала: не знаю.
Умерла она вечером следующего дня. Перед смертью подозвала Александра Никитича. Он склонился над ней. Санитарка говорила тихо, едва слышно:
– Однако, худо мне, товарищ Микулин... Вот как худо... Помирать, видно, приходится... Значит, не дожгла я эту заразу. Простите вы меня, Христа ради!
– Какую заразу? – Микулин стоял перед ней в халате и плотной маске.
– В склянке которая... Винюсь перед вами, Александр Никитич. Боязно было признаться... Как заступили мы на дежурство, так на другой день и случилось. Уборку делала, хотела как лучше. Ну, рукавом склянку задела, разбила... Я тряпкой затерла и в печку... Вас-то не хотела тревожить...
– А склянка? – ужаснулся Микулин.
– Склянку тоже в печку кинула. Всю до последнего кусочка собрала. Может, зараза-то на халат села, не сообразила его скинуть, думала, обойдется...
Микулин снова звонил в горздравотдел. Теперь эпидемиологическую станцию держали на прямом проводе. У аппарата установили круглосуточное дежурство.
– Больная умерла... У остальных температура нормальная... У меня?.. У меня тоже нормальная... Благодарю вас...
Наступили тревожные дни. Шуточное ли дело – пастеурелла пестис!.. Чтобы не вызывать паники, страшную болезнь даже в шифрованной телеграмме в Москву называли латинскими словами, непонятными для непосвященных людей. А посвященные знали, что это такое: в раннем средневековье Юстинианова чума унесла сто миллионов жизней, эпидемия длилась пятьдесят лет. Еще через несколько веков чума в Европе бросила в могилу четвертую часть всего населения. И вот в Забайкалье, в научно-исследовательской противочумной станции, пастеурелла пестис...
На станциях по всему Забайкалью объявили негласный карантин, перестали продавать железнодорожные билеты. В городе закрыли вокзал, и пассажирские поезда миновали его без остановки. На случай эпидемии подняли войска, чтобы закрыть, изолировать чумные очаги. Все ждали с тревогой, что будет дальше. Ждали и на противочумной станции, оцепленной теперь вооруженными нарядами, которые никого не допускали близко и сами не подходили к ней на ружейный выстрел.
Александр Никитич сам вынес тело умершей санитарки, положил в отдельное строение, накрыл саваном. Здесь ее предадут огню...
Инкубационный период подходил к концу. Температура у всех оставалась нормальной, самочувствие хорошим. Александр Никитич почти перестал тревожиться... Прошел еще день, и доктор-эпидемиолог почувствовал легкую слабость и головную боль, смерил температуру повышенная. Грозный симптом: он заболевал пастеурелла пестис...
Болезнь развивалась стремительно. Уже слабея от надрывающего грудь неотвязного кашля, он снял трубку.
– Кажется, все в порядке, – сказал он, с усилием сдерживаясь, чтобы не закашляться. – Инкубационный период кончился. Заболел только я. Главное теперь – дезинфекция... Прошу позаботиться о моей семье. Может быть, можно отправить жену в санаторий. Ей необходимо это. Пусть она как можно дольше не знает о моей судьбе... Прощайте!
Александр Никитич повесил трубку, не дожидаясь ответа. Он боялся раскашляться, проявить слабость. А ему очень нужно быть сильным.
Доктор подозвал Елену Викторовну к дверям своего кабинета. Из-под марлевой повязки голос его слышался глухо.
– Завтра, если ни у кого не повысится температура, позвоните в город и сообщите: вспышка эпидемии приостановлена. Мы сделали все, что в наших силах... Не забудьте продезинфицировать телефон. Моей жене не говорите, как все произошло. Прощайте!
Он сделал предостерегающий жест и, увидев, что молодая женщина метнулась к нему, закрыл дверь. Доктор знал: до следующего дня ему не дожить. Он набросил на себя саван и вышел во двор эпидемиологической станции.
Те, кто остался в живых, видели в замерзшее окно, как Александр Никитич медленно, с трудом преодолевая охватившую его слабость, шел умирать, но так, чтобы никто не заметил его слабость, – как там, когда-то перед расстрелом... Тогда ему удалось бежать, здесь бежать некуда... Шел к строению, превращенному в мертвецкую.
Он лег на деревянные нары, накрылся с головой саваном, чтобы другим не пришлось к нему прикасаться... Так и умер он, думая о других.
Вот что случилось в далеком забайкальском городе, где, может быть, и сейчас стоит безымянный памятник человеку, предотвратившему бедствие. Я подумал: если человек мог так умереть, то как самоотверженно он должен был прожить свою жизнь!
Через много лет после смерти доктора Александра Микулина я прочитал его дневники, записи, газетные вырезки, которые он собирал. Некоторые записи так и не удалось расшифровать, потому что Александр Никитич делал их одному ему известными условными знаками. Одни записки были совсем короткие – в несколько строк, другие пространные. Все зависело от того, где, в каких условиях он находился.
Из записок Микулина я приведу только то, что может иметь отношение к повествованию, к событиям, происходившим значительно позже.
ДАВНЫМ-ДАВНО
Верхнеудинск. Почти три месяца провел в Монголии. Из партизана опять стал доктором. Руководил эпидемиологической экспедицией, ну и между прочим интересовался другими делами. А все началось с прошлогоднего совещания панмонголистов в Чите. Свадебным генералом сделали Нэйсе-гегена, из бурятских князей-теократов. Он стал председателем конференции, а управлял всеми делами расторопный японец – майор Судзуки. Не обошлось дело и без атамана Семенова. Продался японцам и выдает себя за бурята.
На конференции делили шкуру неубитого медведя. Нэйсе-гегена избрали главой Великой Монголии. Страна эта, по японским планам, должна раскинуться от Байкала до Тибета и на запад чуть не до самого Каспия... Вот уж японские аппетиты! На востоке – Забайкалье, Приморье, Камчатка и Сахалин, а на западе вся русская Средняя Азия. Трон Великой Монголии уже предлагают "живому богу" Богдо-гегену, конечно, под японской эгидой.
Барон Унгерн после разгрома увел свои разбитые части в монгольские степи. Теперь он там, а в войсках у него семьдесят японских офицеров – инструкторы и советники. Надо же знать, что они там собираются делать. Даже здесь, на своей территории, я не вправе описывать все подробности – мало ли что может быть. Сегодня мы, а завтра явится атаман Семенов. Не война, а слоеный пирог.
Поехали мы так: живет под Кяхтой старый уважаемый доктор Сергей Николаевич В. Он много раз выезжал в Монголию на эпидемии. Последний раз не поехал – задержала революция. А документы остались, даже письмо иркутского губернатора. С каким трепетом прильнул я к микроскопу в кабинете старого доктора! Он даже растрогался, когда узнал, что я три года, да где там три – шесть лет, если считать германскую, не держал в руках микроскопа, только винтовку... Мы с ним сдружились, я стал его помощником...
Дали нам старый фордик, отбитый у Колчака, загрузили его так, что казалось, он и не сдвинется с места. Да еще сели четверо: мы с доктором, Дугар Сурун, водитель машины, и Дамба – монгол-переводчик. Между прочим, он двоюродный брат Сухэ Батора, который поднимает сейчас монгольских пастухов-скотоводов против барона и против китайского генерала.
...Ургу мы проехали стороной, останавливаться старались в более глухих местах, выбрались на Калганский тракт, задержались в ламаистском монастыре, где настоятелем был лама Церендоржи, знакомый Сергею Николаевичу еще по старым поездкам. Здесь мы провели две недели, потому что израсходовали весь бензин, а другого достать негде. Лама Церендоржи пообещал достать верблюдов, но монастырское стадо угнали в Гоби, на границу с пустыней, чтобы скот не забрали проходящие китайские части или бродячие банды хунхузов. За верблюдами Церендоржи послал пастухов, но когда они их пригонят – было не ясно.
Счастливый случай вырвал нас из невольного плена. Мы были в степи, ловили тарбаганов для научных опытов, когда непонятно откуда взялся полевой автомобиль и остановился рядом с нами. На заднем сиденье, рядом с монголом, находился усатый, большелобый человек в монгольском халате и в русской офицерской фуражке. В руках, как посох, как скипетр, он держал банцзу – толстую бамбуковую палку. Машину сопровождал приотставший отряд кавалеристов.
– Кто вы? – спросил он по-русски.
Сергей Николаевич назвал себя, представил меня как своего помощника, вежливо осведомился, с кем имеет честь разговаривать.
– Барон Роман Федорович Унгерн фон Штернберг, командующий азиатской дивизией. Чем докажете свою личность?
Унгерн говорил отрывисто, резко, почти кричал.
– Я уж не впервые в Монголии, – сдержанно ответил Сергей Николаевич. – Здесь меня знают все... Сейчас мы живем в монастыре у Церендоржи. В Урге знаю русских купцов, владельцев фирм...
– В Урге проверю позже, когда возьмем ее. Достаточно Церендоржи. Что намерены делать?
– Ждем, когда удастся купить верблюдов.
– На чем приехали?
– На форде, но вышел бензин.
– Вышел бензин? Смогу помочь, но форд отдадите мне в обмен на верблюдов. Согласны?
Не дожидаясь ответа, Унгерн обернулся к конникам:
– Сипайло! – От группы отделился человеке резкими и неприятными чертами лица. Он весь подергивался, словно его ломал какой-то недуг. Сипайло остановил коня рядом с машиной, приложил руку к фуражке.
– Доставить бензин к ламе Церендоржи и сопроводить господ на их машине ко мне. – Он прикоснулся бамбуковой палкой к плечу шофера, и автомобиль помчался вперед. За ним поскакали конники.
Утром к монастырю пришел маленький верблюжий караван. На одном верблюде был пристроен бочонок с бензином, на трех других сидели вооруженные солдаты во главе с капитаном.
– Полковник Сипайло приказал доставить вас к его превосходительству барону Унгерну, – сказал капитан.
Мы проехали верст семьдесят голой, открытой степью, пока вдали не увидели другой монастырь, обнесенный стенами из камня и глины. У монастырских ворот толпились монахи в ярко-желтых плащах, похожих на римские тоги. Рядом с монастырем стояли юрты, позади пасся скот. Капитан, ехавший с нами в машине, куда-то исчез, появился снова и предложил следовать за ним. Нас привели в большую комнату с низкими потолками и узенькими оконцами. Посредине стоял резной китайский стол черного дерева, а над ним, на бронзовой цепи, свисал фонарь, украшенный цветными стеклами.
– Здесь вы будете жить, ваших людей поселят в юрте.
Капитан вышел, но через несколько минут вернулся.
– Его превосходительство просит господина доктора пожаловать к нему.
Прошло по меньшей мере четыре часа, когда доктор наконец появился снова. Он устало сел на скамью, протер носовым платком пенсне, оседлал им переносицу, и вскинул на меня седенькую бородку:
– Ну, милостивый государь, насмотрелся, наслушался... И это называется цвет российского воинства!..
Я предостерегающе показал ему на стены – стены тоже могут подслушать. Мы вышли во внутренний двор монастыря. Не буду подробно излагать рассказ Сергея Николаевича. Запишу только суть.
Барон пригласил его к себе в юрту. Он, Унгерн, тщательно подчеркивает свою приверженность к панмонголизму – принял буддийскую веру, женился на монголке, ходя недавно был женат на китаянке. Жаловался, что лишен культурного общества. Расспрашивал о Пржевальском, Козлове, с которыми Сергей Николаевич ходил в монгольские экспедиции. Красуясь и похваляясь, Унгерн рассказывал о своей родословной.
Предки барона, как утверждал он, ведут начало от воинственных гуннов времен Аттилы, то есть род существует больше тысячи лет. Теперь Унгерн будто бы пришел на могилы предков, и они вдохновили его на создание панмонгольского государства.
Предки Унгерна ходили в крестовые походы под началом Ричарда Львиное Сердце. Смешно – от монгольских завоевателей до освобождения гроба господня в Иерусалиме! Даже крестовый поход в Палестину не обошелся без Унгернов – тогда погиб предок барона – Ральф Унгерн.
Так уже получается, что род Унгернов на протяжении веков всегда стремится кого-то завоевать. В начале XIII века воюют против славян, состоят в немецком ордене меченосцев, сражаются с эстонцами, латышами, огнем и мечом насаждают христианство. Это прямой доход – через несколько веков замки Унгернов фон Штернберг высятся над прибалтийскими землями. Потому Унгернов называют остзейскими баронами. А ближайшие предки Романа Федоровича – морские пираты, в том числе дед, собиравший дань с английских купцов в Индийском океане. Деда все же схватили, доставили в Англию, потом выдали русскому правительству, которое сослало его в Забайкалье. Род Унгернов возвратился туда, где гунны начинали свои завоевательные походы.
Вот он какой – барон Роман Федорович Унгерн фон Штернберг. В Монголии и Забайкалье его прозвали "кровавым бароном". А он и не опровергает этого. Во время разговора несколько раз в юрте появлялся японский майор, потом капитан. Они вежливо втягивали сквозь зубы воздух, о чем-то шептались с бароном. (Потом я узнал их фамилии майор Судзуки и капитан Хара из разведывательного отдела японского генерального штаба.) Вероятно, после неудачи с великомонгольским правителем Нэйсе-гегеном японцы сделали ставку на барона Унгерна.
Заходил и полковник Сипайло, тот самый, который сопровождал Унгерна в поездке, его палач и контрразведчик. Он что-то шепнул барону, Унгерн взял банцзу и вышел из юрты. В приоткрытую дверь Сергей Николаевич видел и слышал, что происходило. Под охраной конных белоказаков стояли шесть красноармейцев, разутые, без гимнастерок, только в штанах и нижних рубахах. Барон, подавшись вперед, цепко вглядывался в лица пленных, потом вдруг, отскочив, замахнулся палкой и ударил красноармейца, стоявшего на краю шеренги.
Пленный инстинктивно уклонился в сторону, и тяжелая бамбуковая палка только скользнула по его плечу. Это разъярило барона. Выкрикивая что-то нечленораздельное, он обрушил на пленного град палочных ударов. Красноармеец упал, а Унгерн продолжал его избивать.
Двоих приказал отвести в сторону, остальным сказал: "Так будет с каждым, если вздумаете бежать... Зачисляю вас в свои войска, идите в комендатуру. А этих бить палками до смерти". Вернулся в юрту, сел на тахту и как ни в чем не бывало продолжал разговор.
Сергей Николаевич сказал еще, что через несколько дней мы сможем поехать в Ургу, если не боимся китайских властей, а сам Унгерн тоже надеется быть там вскорости – как только захватит Ургу.
...В Ургу мы приехали без приключений, благополучно избавившись от гостеприимства кровавого барона. Поселились у монголера – русского купца Данилова, торговца скотом и шерстью, которого Сергей Николаевич знал по старым экспедициям. Ему же мы и продали незадорого своих верблюдов, рассчитывая, что приобретем новых, когда нам придется ехать дальше.
Урга встретила нас флагами, хотя праздника никакого и не было. Над крышами лавок, факторий, торговых заведений, даже над юртами, что стоят во дворах, огороженных частоколом из толстых бревен, или над палатками захадера – как называют здесь толкучку-базар на берегу мутной Толы, – всюду подняты национальные флаги: русские, китайские, японские и даже американские. Они, как тибетские священные письмена, должны охранять их владельцев от лихой напасти. В городе тревожно, солдаты китайского генерала Сюй Ши-чжэна шайками бродят повсюду, реквизируют, грабят все, что попадает на глаза. Балуют и казаки из унгерновской дивизии. Китайцы не подпускают их к Урге, но белое войско нет-нет да просочится в город, конники Унгерна постреляют, торопливо пограбят и снова ускачут в степь. А флаги создают видимость экстерриториальности, они будто бы защищают подданных своих стран. Мы тоже живем под красно-сине-белым российским флагом, прибитым на воротах купца Данилова.
Переводчик Дамба, как только мы расположились в даниловской фактории, сразу исчез, пошел разыскивать своего брата. Сухэ Батор работал наборщиком в русской типографии, теперь, говорят, в подполье. Ему не легко – трудовых монголов приходится поднимать против китайского генерала, против своих феодалов, князей и против барона Унгерна тоже. У Дамбы какие-то дела к брату, что-то он должен передать ему из Троицкосавска от Лаврова – начальника дивизионной разведки.
Дугар Сурун устроился в людской купца Данилова. У купца в фактории много всякой челяди, и Дугар завел дружбу с приказчиками-китайцами.
Ну, а нам с Сергеем Николаевичем отвели просторную горницу. Пьем чай с хозяином из трехведерного самовара, рассуждаем о тревожной жизни нашей, выслушиваем жалобы купца на непрочность порядков и бродим по городу. Сергей Николаевич просто незаменимый человек в экспедициях кладезь знаний по монголоведенью, к тому же преотлично знает язык. Хорошо разбирается в этнографии и ламаистской религии, в истории и археологии, уже не говоря о своей многосторонней медицинской профессии. Кроме того – душевнейший человек, в меру наивный, настоящий представитель российской земской интеллигенции...
Как-то раз мы бесцельно бродили с ним по лабиринту ургинских улиц. Сухой зной начинал спадать, но солнце стояло еще высоко. Сергей Николаевич, как обычно, размышлял вслух.
"Вы знаете, – говорил он, – я пришел к выводу, что анабиозу подвержены не только живые существа, но и целые страны. Пример Монголия, она словно законсервирована в состоянии раннего средневековья, осталась такой же, как во времена Темучина, позже назвавшего себя Чингисханом. Темучин завоевал полмира, но он не сохранил старой и не создал новой культуры. Завоеватели так и остались дикими, нецивилизованными кочевниками. В этом я вижу главную причину их неудач. Вот говорят, что нельзя повернуть историю вспять. Не совсем понимаю такое выражение – история есть история, она, как время, беспредельна и вечна, куда ее поворачивать?.. Я бы сказал иначе – без прогресса не может быть жизни. Подумайте только, Чингисхан со своим трехсоттысячным войском завоевал земли от Тихого океана до Черного моря, дошел до Польши, до Венгрии, проник к Египту, к Персидскому заливу. И все рассыпалось, потому что не было прогресса. Осталась арба, вон та, что громыхает навстречу, – она, может быть, катилась по России полтысячи лет назад. – Сергей Николаевич указал на двухколесную колымагу с впряженной в нее лохматой монгольской лошаденкой. – А колымага и сейчас здесь живет, и лошадь такая же, и уклад старый, и люди те же, потому что их самих лишили прогресса, задавили другие завоеватели. В таких случаях жизнь затормаживается. Это и есть анабиоз. Здесь до сих пор существует крепостное право.
Триста тысяч конников – это не так мало по тем временам, если учесть, что на русской земле было всего три-четыре миллиона жителей.
России дорого стоило нашествие монголов. Нас отбросили на полтора, на два века назад. Мы тоже пребывали в анабиозе, и только сейчас Россия проснулась от вековой спячки. Я не политик, но скажу вам спасибо за то, что вы, большевики, пробудили Россию... Ведь как нас честят – и такие-то мы, и сякие, отсталые и некультурные. Россия лапотная, малограмотная... А Россия эта спасла Европу в пору монгольского нашествия! Задержала на своих просторах татарских кочевников, держала их два века. Представьте себе, что было бы, если бы Чингисхан пришел в Италию, Францию... Своим анабиозом русские сохранили прогресс и культуру Европы..."
Мы вышли на окраину города и неожиданно очутились возле громадного неуклюжего храма с каменным многоэтажным основанием. На углах изогнутой кровли висели цилиндрические колокольчики, которые мягко звенели от малейшего дуновения ветра.
"Так ведь это же Гандан! – воскликнул Сергей Николаевич, прерывая свои рассуждения. – Я давно собирался вас сюда привести. Идемте, идемте! Когда я был последний раз в Урге, его только что построили во имя живого бога Богдо-гегена, который живет вон там, на горе Богдо-ула".
На высоком помосте среди площади лама медленно и размеренно бил в гонг, и низкие звуки, тоже будто медленно, расплывались в воздухе. Гонг призывал верующих сосредоточить мысли на бесконечном и вечном... Мы прошли мимо вращающихся молитвенных барабанов, мимо молитвенных досок, похожих на столешины, приподнятые с одного края. Прохожие движением руки вращали деревянные барабаны, падали ниц, поднимались и снова бросались плашмя на вытертые до глянца сосновые доски.
Мы вошли под холодные своды храма, и таинственный полумрак окружил нас, заставил говорить шепотом. Маленький, заплывший жиром банди – монастырский послушник, одетый в такой же ярко-красный плащ, как и взрослые ламы, вызвался сопровождать нас по храму. Он повел нас в глубину, где мрак был еще гуще и нависал над множеством мерцающих плошек, тесно уставленных на длинных и широких помостах, усыпанных толстым слоем зерен пшеницы. Все это походило на огненный ковер или на озимое поле, на котором вместо зеленых побегов искрились язычки янтарных огней.
Банди увлекал нас все дальше, мы прошли через чащу ниспадающих шелковых полотнищ, тоже оранжевого цвета, с начертанными на них священными письменами. Мрак разредился, и мы увидели громадную статую бодисатвы Авала Кита Швара, вокруг которого стояла тысяча маленьких, тоже бронзовых будд. Голова божества находилась под сводами храма, лицо его из светлой бронзы, спокойное и бесстрастное, озарялось призрачным, неведомо откуда лившимся светом.
Вместо священного сосуда или цветка лотоса, которые обычно держит традиционный Авала Кита Швара, в руках бодисатвы покоилось глазное яблоко необычайных размеров.
"Взгляните, взгляните на это, – зашептал Сергей Николаевич. Ради этого глаза построен храм, чтобы сохранить зрение слепнущему Богдо-гегену..."
Хубилган, человек, в которого переселяется душа умершего бога, сам становится богом, ему поклоняются, он становится светским и духовным владыкой. Джибзон Дамба Хутухта был хубилганом восьмого перерождения, его привезли мальчиком из Тибета и присвоили имя "многими возведенного". Но мальчик оказался избалованным и развратным. Вопреки ламаистским законам о безбрачии хубилганов, Богдо-геген женился на монголке и объявил ее святой. Живой бог болел сифилисом и медленно слеп. Вот тогда высокие ученые ламы, ссылаясь на пророчества, записанные в священных книгах, подсказали воздвигнуть невиданных размеров статую бодисатвы. Глазное яблоко в руках Авала Кита Швара спасет зрение слепнущему хубилгану.
Это было лет десять назад, вскоре после того как Внешняя Монголия добилась автономии и вышла из подчинения Китаю. Русское царское правительство, заигрывая с монгольскими феодалами, дало Богдо-гегену взаймы два миллиона золотых рублей на строительство храма. Статую бодисатвы сделали китайские мастера в Долон Норе и за тысячу верст по Калганскому тракту доставили в Ургу. А маленьких будд, тысячу будд, отштамповали в Варшаве, тоже на русские царские деньги...
Мы вышли из храма, когда солнце, большое и сплющенное в этих широтах, красное, как одежда монахов, коснулось далеких, вдруг потемневших гор. Сергей Николаевич с увлечением продолжал рассказывать о неизвестных мне сторонах жизни Богдо-гегена. Потом оказалось, что все это очень важно для уяснения политической обстановки в Монголии. Из его рассказов я записываю только самое главное.
В Урге Сергей Николаевич нашел несколько старых знакомых из среды высшего духовенства. Когда-то ему пришлось отстать от экспедиции Козлова, и он прожил здесь несколько месяцев, завоевав уважение монголов тем, что лечил их от застарелых болезней. Теперь эти ламы стали приближенными Богдо-гегена, и Сергей Николаевич уходил в монастырь Да Хуре, где проводил время в обществе ученых лам. Одного из них я однажды увидел. Это был худой и высокий монах с аскетическим лицом и глубоко запавшими горящими глазами. Друг доктора относился к касте дзуренов – прорицателей, предсказателей судеб, изучающих цанито – высший курс ламаистской философии.
В факторию купца Данилова доктор возвращался возбужденный, переполненный впечатлениями и рассказывал до позднего вечера о том, что происходит в стенах монастыря, за оградой дворца хубилгана.
"Многими возведенный" монарх и духовный глава автономной Монголии Богдо-геген был осторожным, по-восточному хитрым и вероломным правителем. В прошлом году, когда китайский генерал Сюй Ши-чжэн, посланный из Пекина, внезапно оккупировал Внешнюю Монголию и вступил с войсками в Ургу, Богдо-геген не стал противиться. Сюй Ши-чжэн привез заранее подготовленную петицию пекинскому правительству о принятии монголов обратно в китайское подданство. Генерал отдал петицию Богдо-гегену и потребовал ее подписать. Богдо не сопротивлялся. Автономная Монголия перестала существовать.
Здесь, в Урге, становятся понятными некоторые обстоятельства, которые раньше казались необъяснимыми. Почему, например, майор Судзуки и вообще японцы охладели к даурскому правительству Нэйсе-гегена? Сперва из Даурии послали делегацию в Европу на международную конференцию, чтобы представлять там еще не существующее, будущее государство, расположенное между Тибетом и Забайкальем, между Тихим океаном и Каспием. Делегаты поехали кружным путем – через Токио, но потом след их исчез, о них ни слуху ни духу.


