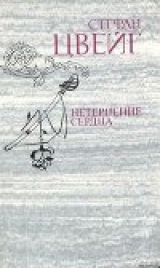
Текст книги "Триумф и трагедия Стефана Цвейга"
Автор книги: Юрий Архипов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Юрий Иванович Архипов
Триумф и трагедия Стефана Цвейга
Стефан Цвейг – один из самых популярных в мире австрийских писателей. Он захватывает читателя с первых строк любой своей книги, щедро одаривая радостью узнавания и сопереживания до самых последних страниц. Книги Цвейга из числа тех, о которых принято говорить, что их «проглатывают».
Занимательность сюжета, легкость беглого, но аккуратного слога, щемящая душу чувствительность описаний, доступный психологизм диалогов – вот слагаемые такого успеха. Но это еще не все. Не названо, пожалуй, главное, что подкупает обычно простого человека в литературе и что так кратко и точно выразил еще А. С. Пушкин: «И чувства добрые я лирой пробуждал». О чем бы и в каком бы жанре ни писал Стефан Цвейг, он всегда стремился прежде всего к тому, чтобы пробудить в читателе-собеседнике добрые чувства. Он жил заветами и надеждами либерального гуманизма – может быть, слишком прекраснодушного в наш суровый век, но искреннего, возвышенного и пламенного, который разделял с ним и его большой друг Ромен Роллан.
Корни писательства Стефана Цвейга уходят в атмосферу литературно-театральной Вены конца прошлого века. О них он поведал во «Вчерашнем мире» – лучших, пожалуй, писательских мемуарах, увидевших свет на немецком языке в нашем веке.
Стефан Цвейг родился в 1881 году в семье богатого фабриканта. Обеспеченная, даже процветающая семья жила обычными для этой среды интересами: досуги заполняли оперетта, вечера с известными актерами, музыкантами, художниками, литераторами; художественные выставки и журналы, из которых наизусть заучивались не только новые стихи модного поэта, но и целые абзацы не менее модного театрального или художественного критика. Неудивительно, что такая атмосфера рано пробудила в гимназисте Стефане тягу к собственному сочинительству. С конца девяностых годов Цвейг стал печатать в газетах и журналах стихи и статьи о проблемах современной литературы и искусства. Двадцатилетний автор подвел предварительный итог своей поэтической деятельности в сборнике «Серебряные струны». Стихи были по моде того времени – томные, «упаднические», или, как их еще называли, «декадентские».
Усердные занятия литературой Цвейг продолжал и в венском университете, где учился на филологическом факультете. В водовороте экспериментальных течений, заполнивших литературную арену Европы начала века, он не сразу нашел свое место. Лишь постепенно Цвейг пришел к духовным ценностям, на которые он мог надежно опираться всю свою жизнь. Неугасимыми путеводными звездами стали для него Л. Толстой и Ф. Достоевский, а из современников – бельгийский поэт-демократ Эмиль Верхарн.
Цвейгу посчастливилось не только лично познакомиться с Верхарном, но и подружиться с ним. Эта дружба, ничем не омраченная, продолжалась до самой смерти бельгийского поэта. Верхарн был к тому времени признанным мэтром, одним из духовных вождей культурной Европы. Он-то и ввел юного Цвейга в литературные круги Парнаса и Лондона, Амстердама и Брюсселя. С тех пор понятие «Европа», как признавался Цвейг в своих мемуарах, стало для него равнозначным понятию «родина», тем более что пестролоскутная Австро-Венгрия, на территории которой он родился и рос, была, по словам известного австрийского писателя Музиля, «моделью многоязычной и многоликой в своем единстве Европы». А единство Европы зиждилось, по Верхарну и Цвейгу, прежде всего на гуманистических заветах ее многовековой культуры.
Цвейг был натурой впечатлительной, увлекающейся, импульсивной. Встретившись с интересным человеком или явлением, фактом или идеей в жизни ли, в книге ли – все равно, он сразу же загорался и немедленно принимался за сочинительство. Вряд ли в Европе нашего века найдется другой писатель, который столько сил и времени отдал биографическому жанру – от коротких миниатюр, запечатлевших «звездные часы» в истории человечества, до протяженных полотен с подробным описанием жизни и деятельности избранного исторического персонажа – Марии Стюарт или Эразма Роттердамского, Магеллана или Бальзака, Клейста или Роллана.
Увлеченность эта порой била через край, приводила к известной неразборчивости, не лишенной сенсационности. Так, трудно согласиться с той оценкой, которую Цвейг дает, например, Ницше или Фрейду. Но и заблуждения Цвейга диктовались добрыми намерениями – ему хотелось всех примирить, каждому воздать должное, выделить свой кусочек в возведении общей мозаики европейской культуры. Не борьба, а согласие были девизом Стефана Цвейга, и это сказалось в его самоустранении из жизни.
Жанровая палитра Цвейга чрезвычайно разнообразна. По сути дела, попросту нет жанра, в котором он не испробовал бы свои силы: он писал стихотворения и драмы, очерки и эссе, рассказы и поэмы, исторические репортажи. И все-таки исторический жанр – наряду с психологической новеллой (однажды развитой до целого романа, как было с «Нетерпением сердца») – оказался наиболее плодотворным для писателя.
Интерес к нему пробудила в Стефане Цвейге первая мировая война. В итоге ее вспыхнула Великая Октябрьская революция в России, обозначившая собой грандиозный по своим масштабам и последствиям исторический сдвиг. Цвейг приветствовал революцию, но увидел в ней «русский путь», не обязательный для «просвещенной» Европы с ее устоями буржуазного индивидуализма, казавшимися ему в основе своей незыблемыми. Исторический прогресс в Европе может быть достигнут, надеялся Цвейг, совместными усилиями деятелей культуры, направленными на проповедь гуманизма. Война поначалу сильно поколебала эти надежды, но не смогла их развеять. Вскоре после ее начала Цвейг присоединил свой голос к страстной проповеди мира, которую повел Ромен Роллан. Пацифистские призывы и увещевания двух братьев по перу, к которым затем примкнули многие другие видные писатели Европы, звучали диссонансом на фоне шовинистической истерии, развернувшейся в воюющих странах и на первых порах затянувшей в свою пучину даже многих прогрессивных художников слова. Мощным антивоенным призывом стал роман Барбюса «Огонь» (1916 г.), горячо поддержанный Цвейгом.
В послевоенные двадцатые годы пацифизм и либерально-индивидуалистический гуманизм Стефана Цвейга, казалось, обрели достаточно прочную почву под ногами. Будущее Европы вновь представлялось безоблачным, а очаги шовинистической истерии, которые давали о себе знать, например, в вылазках фашистов, Цвейг попросту проглядел. Мешали прежние либерально-индивидуалистические иллюзии, заслонявшие от писателя сущность массовых движений – как положительных, так и зловещих, вызванных к жизни ловкой демагогией национал-социалистов.
Эти розовые иллюзии либерала-идеалиста отразились, конечно, и в творчестве Стефана Цвейга двадцатых годов, хотя весь его пафос был, как и всегда, в страстном отстаивании жизнеутверждающих принципов гуманизма. В это время все большее место среди произведений писателя стали занимать различные разновидности исторического жанра – от коротких миниатюр до толстых книг. Свои миниатюры Цвейг объединял в серии, и тогда они тоже выходили отдельными книгами – как «Строители мира» или «Звездные часы человечества». Строителями мира в них выступают выдающиеся одиночки – полководцы, завоеватели, изобретатели, первооткрыватели, ученые, писатели, деятели культуры. Великие художники слова пользуются, естественно, особым почтением литератора Цвейга и выглядят в его изображении как участники некоей великой, длящейся много веков эстафеты огня, зажженного Прометеем. Но идеализированными оказываются под его пером зачастую авантюристы вроде Казановы или Месмера, далекие от святости монархини вроде Марии Стюарт или Марии Антуанетты и еще более далекие от каких-либо высоких целей завоеватели мира вроде Александра Македонского или Наполеона. Их появление не объяснено исторически, не дано как результат и следствие неких действующих в истории закономерностей, нет, все они выступают на арену словно кометы, прихотливыми зигзагами прочерчивающие темный небосвод истории. И даже поражением своим Наполеон обязан, по Цвейгу, не исторической обреченности своего дела, а заурядной тупости одного бездарного генерала, на которого он вынужден был в последнюю минуту опереться («Невозвратимое мгновение»). И золотая лихорадка в Америке не порождение исторических обстоятельств, а цепная реакция, вызванная аферой одинокого авантюриста Аугуста Зутера («Открытие Эльдорадо»). И «революцией в скорости сообщения» – телеграфной связью между Европой и Америкой мир обязан энтузиазму упрямого одиночки – Сайруса Филда («Первое слово из-за океана»). А все великие географические открытия – плод героических усилий отважных одиночек («Борьба за Южный полюс»).
Пожалуй, вся тщета индивидуалистических упований открылась Цвейгу только в начале тридцатых годов – когда слишком очевидной стала назревшая угроза фашизма, когда коричневая чума, завладев Германией, стала распространяться по Европе. Черты кризиса прежней веры в двойственность проповеди гуманизма отчетливо проступают в таких художественно значительных книгах Стефана Цвейга этого времени, как «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» (1933 г.), «Мария Стюарт» (1934 г.), «Кастеллио против Кальвина, или Совесть против насилия» (1936 г.).
Глубокими раздумьями о судьбе великих человеческих открытий наполнена книга «Магеллан» (1938 г.), прославляющая активную деятельность человека на пути познания природы и в то же время не закрывающая глаза на темные стороны действительности, на зловещую тень чистогана, омрачающую и самые славные открытия и деяния. В этой книге – одной из последних работ писателя – Стефан Цвейг решительно порывает с сугубой созерцательностью гуманизма, который привык исповедовать всю свою жизнь. Однако преодолеть депрессию, вызванную второй мировой войной, тяготами эмиграции, утратой родины и друзей, Стефан Цвейг не сумел.
Не помогла даже обычная для писателя терапия – работа. А писал в последние годы своей жизни Стефан Цвейг страстно, истово, пытаясь забыться, работой заглушить боль и горечь. За «Магелланом» последовал роман «Нетерпение сердца» (1939 г.), за романом – книга воспоминаний «Вчерашний мир», изданная уже после смерти писателя. А когда в феврале 1942 года, исчерпав остаток душевных сил, Цвейг покончил с собой, на его рабочем столе в одном из отелей далекой от Европы бразильской столицы лежала почти готовая рукопись капитальной книги о Бальзаке, над которой он трудился до самых последних дней.
Можно сказать, что смерть Стефана Цвейга так же на совести фашизма, как и миллионы других его жертв. Цвейг хоть и верил в окончательную победу над фашизмом и внимательно следил за известиями о первых успехах Красной Армии, но, утратив веру в свои идеалы, был душевно сломлен. Его нетерпеливое сердце остановилось в самый разгар исторической битвы с фашизмом.
В единственном романе Стефана Цвейга «Нетерпение сердца» всего явственнее ощущается глубокая, основательная «вчитанность» Цвейга в русскую литературу. Сразу же припоминается Достоевский с его пристрастием к острым, парадоксальным психологическим ходам и самым тайным изломам сознания. Да и сама, как прежде говорили, «интрига» – чувство Гофмиллера к хромоножке Эдит – воспринимается как своеобразная парафраза ставрогинской истории из романа «Бесы». И главную мысль романа (как ее формулирует в романе доктор) о сострадании истинном и ложном, о человеколюбии самопожертвованном и эгоистическом нетрудно возвести к соответствующим художественным построениям великого русского романиста. А тот же резонер-доктор, разве не напоминает он нам собеседника Печорина доктора Вернера из гениального романа юного Лермонтова?
И еще одна русская параллель, на которую в свое время указал известный советский литературовед Б. Сучков: жизнь офицерской среды в глухом гарнизоне у Куприна и Стефана Цвейга, поручик Ромашов и лейтенант Гофмиллер, «Поединок» и «Нетерпение сердца».
В самом деле, лейтенант Гофмиллер – это, конечно, австрийская ипостась Ромашова. Человек слабый, безвольный, нерешительный, он хоть и не лишен доброй искры в душе, но окружающие условия не дают ее реализовать, и он послушно следует принятому в захолустной офицерской среде времяпрепровождению: кутежам, картам, разврату, чтобы хоть как-то забыться, вырваться из плена постылой, казенной службы. То есть ведет существование достаточно тусклое и обыденное. Как вдруг лейтенант попадает в дом местного богача фон Кекешфальва, где знакомится с его дочерью Эдит. Цвейг умело показывает сложную гамму чувств, их нарастание и «диалектику»: поначалу Гофмиллеру просто льстит, что он принят в столь блестящем доме, он страстно желал бы в нем закрепиться, но досадная оплошность, кажется, рушит его надежды. Потом просыпается что-то вроде теплых дружеских чувств к физически ущербной бедняжке; сочувствие красавчика лейтенанта к Эдит пробуждает в ней сильное ответное чувство, которое и притягивает и отпугивает Гофмиллера. Постепенно он настолько запутывается в своих переживаниях, что готов идти под венец, чтобы прекратить длящуюся муку и сделать окончательный шаг, но в решительный момент бежит от невесты, чем обрекает ее на гибель.
«Мы в ответе за тех, кого приручаем», – так в «Маленьком принце» сформулировал кредо действенного гуманизма Антуан де Сент-Экзюпери. Именно чувства ответственности за свои действия и поступки, чувства долга перед собой, то есть совестью своей, и ближними – теми, кого он «приручает», и не хватает Гофмиллеру. Другой персонаж романа, доктор, противоположность Гофмиллеру, его антипод. Он «приручил» когда-то слепую женщину и теперь трогательно и неусыпно заботится о ней, стремясь в личных своих отношениях служить высокому, хоть и тернистому предназначению – врачеванию, исцелению людей, облегчению их страданий. За его словами – прожитая им самим и передуманная жизнь, это и придает им особую убедительность: «…Есть два рода сострадания, – отмечает Цвейг в эпиграфе. – Одно – малодушное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья… Но есть и другое сострадание – истинное, которое требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости…»
У Гофмиллера как раз такое «нетерпеливое» сердце, его хватает лишь на эгоистическое сострадание, простирающееся до определенных границ, на страже которых зорко стоят собственные интересы и удовольствия. В этом он – истинно сын австрийской литературной традиции, не раз дававшей портрет типичного «господина Карла» слабодушного, безвольно-созерцательного человека, становящегося рано или поздно игрушкой обстоятельств. Стефан Цвейг внес в разработку этого национального характера свою лепту – и в многочисленных новеллах и в единственном своем романе.
Сосредоточившись на, казалось бы, камерных переживаниях и оттенках чувств героя и героини, Цвейг тем не менее не оставляет без внимания и «большую», общую, социальную жизнь изображаемого им периода австрийской, истории. Конечно, картина социальной жизни в романе лишена универсальности, многое в ней (например, положение народных масс) даже и не намечено, но по достаточно убедительным фрагментам нетрудно восстановить и общий объективный смысл этой картины и тот приговор, который выносит ей писатель. С первых и до последних страниц книги читателя не покидает ощущение обреченности запечатленного в ней мира, в котором все фальшиво: и чувства, и мораль, и духовные, и даже материальные ценности. Тот же богач, аристократ и сноб фон Кекешфальва оказывается никакой не «фон», а обыкновенный ушлый прощелыга, начавший карьеру с мелкой лавочки, каких в ту пору были сотни в еврейских местечках по обе стороны Прикарпатья, и ловкими махинациями сколотивший себе солидный капитал, который, среди прочего, принес ему и фальшивый титул.
Осознав обреченность старого, вскормившего его мира, Стефан Цвейг поведал о нем со свойственной ему искренностью. Но готовности активно участвовать в переделке мира он в себе не обнаружил; тот новый мир, перспективы которого открывал перед ним, например, Максим Горький, казался ему утопией – заманчивой, но несбыточной. В этом, конечно, ограниченность Стефана Цвейга и как мыслителя и как художника.
Для нас существеннее, однако, его достоинства – гуманизм, неиссякаемая вера в добрые начала человека, честное служение своему призванию, которые обеспечили ему заметное место среди крупнейших прогрессивных писателей Запада нашего века от Роллана до Шоу, которые давно снискали ему уважение и симпатию выдающихся мастеров советской культуры и миллионов читателей. Первым, кто заметил и оценил талант Стефана Цвейга, был Максим Горький. «Очень рекомендую Вам изданную „Временем“ книжку Стефана Цвейга, – писал он Федину, – „Смятение чувств“, – замечательная вещь! Прочитайте. Этот писатель растет богатырски и способен дать великолепнейшие вещи»[1]1
Конст. Федин. Писатель, искусство, время. М., 1980, с. 280.
[Закрыть]. В одной из своих статей Горький писал об «изумительном милосердии к человеку», которое отличает книги Стефана Цвейга. Восторженные отзывы о нем оставили также К. Федин, А. Фадеев, Алексей Толстой и другие видные советские писатели.
Не ослабевает любовь к Стефану Цвейгу и нашего многомиллионного читателя. Поистине можно сказать, что писатель обрел у нас свою вторую родину. Во всяком случае, Стефан Цвейг издается у нас значительно чаще и гораздо большими тиражами, чем не только в Австрии, но и во всех странах немецкого языка, вместе взятых. Можно не сомневаться, что радушный прием ждет и настоящую книгу – как всякую старую и добрую знакомую, которую всегда хочется видеть в своем доме.








