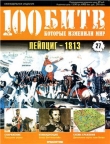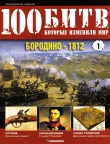Текст книги "Гренадер Леонтий Коренной"
Автор книги: Юрий Вебер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
В. Юрьев (Юрий Вебер)
Гренадер Леонтий Коренной
Осенью сорок восьмого года Николай Васильевич Гоголь недели две гостил в Петербурге. Как раз в эти дни лейб-гвардии Финляндский полк справлял свой ежегодный праздник в честь Лейпцигской битвы.
Был пасмурный, дождливый день 4 октября. Пронзительный ветер дул с Невы и гнал над городом косматые, рваные тучи. Гоголь чувствовал себя слабым, душевно расстроенным, но все же гвардейское торжество привлекло его внимание. В ту пору работой над второй частью «Мертвых душ» писатель старался заглушить свой внутренний недуг и жадно искал все целительное и яркое в жизни, «где слышится, – как он выражался, – сильное присутствие русского духа».
В длинном, просторном манеже с земляным полом происходил торжественный парад. Весь полк взял на-караул и замер, точно окаменев, когда перед строем пронесли старые знамена, потемневшие в пороховом дыму великих битв с Наполеоном. Сигнал к церемониальному маршу, проиграли два рослых горниста в серебряные трубы; на трубах была надпись: «В воздаяние отличной храбрости и мужества, оказанных в сражении при Лейпциге 4 октября 1813 года». За столами праздничного обеда гвардейцы поднимали чарки в честь лучшего гренадера Леонтия Коренного и пели затем хором полковую песню:
Мы помним дядю Коренного,
Он в нашей памяти живет.
Бывало на врага какова
В штыки с ребятами пойдет…
В одной из комнат офицерского собрания историк полка, уже совсем седой генерал в отставке, подвел гостей к большой картине, писанной маслом: русский гренадер отбивается один от толпы неприятелей.
– Это Леонтий Коренной, – сказал генерал. – Гордость нашего полка. Да не только полка, а всей гвардии. Я был тогда участником этого дела.
Гости просили генерала возможно подробнее изложить все, что ему запомнилось.
И тот начал свой рассказ…
* * *
Уже шестой час длилась Лейпцигская битва, решавшая спор о владычестве Наполеона над Европой. Уже шестой час полмиллиона вооруженных людей передвигались плотными массами по обширной холмистой равнине, сходились одна сторона с другой, кидались в яростные атаки. Уже шестой час земля сотрясалась от топота множества коней, человеческих ног, от несмолкаемой пушечной пальбы. Густой пороховой дым оседал черной пылью на тополях, тянувшихся вдоль дорог; клубы его мешались с низко нависшими облаками, и казалось, что из них моросит дождь, насыщенный каплями ядовитой сажи. Команды и приказания, воинственные крики и проклятья раздавались здесь на многих языках, ибо на этой равнине встретились почти все народы Европы. Здесь были французы и русские, саксонцы и пруссаки, итальянцы и австрийцы, поляки и шведы. Но главенствовали над этой многоликой, разноязычной массой две основные противостоящие силы – русские и французы. Они, как два борца, вступили в открытый поединок среди общего водоворота схваток и столкновений.
Наполеон настойчиво бил в центре союзных войск у селения Госса, желая разорвать их линию в этом пункте. Более ста французских орудий, поставленных на гребнях высот, открыв частый беглый огонь, стремились проложить путь коннице и пехоте. Восемь тысяч кавалерии Латур-Мобура бешеным потоком мчались на деревню Госса, грозя все поглотить своим приливом. Но русские лейб-казаки вместе с гвардейскими драгунами и гусарами отразили страшный напор этой конной волны и отчаянной встречной атакой рассеяли французских кавалеристов. А русская гвардейская артиллерия, подойдя на-рысях к ручью левее Госсы, завязала дуэль с французской, открыв такую канонаду, про которую очевидцы говорили, что она громче бородинской. Тогда начался бой пехоты…
В эти часы лейб-гвардии Финляндский полк, находясь в резерве, располагался на пологой возвышенности близ центра союзной линии. Солдаты стояли в рядах, но вольно. Офицеры составили круг. Все смотрели туда, вниз, где в полутора верстах клокотал бой за селенье Госса.
– Видно, нас скоро пошлют, – заметил подполковник, невысокого роста, уже пожилой и слегка грузный.
– Вам, Алексей Карпович, всегда не терпится, – отозвался командир полка, не отрываясь от зрительной трубы.
– Ваша правда, генерал. Как только заслышу эту музыку, – кивнул подполковник в сторону деревни, – так меня и подмывает примкнуть к общей кадрили.
Офицеры рассмеялись Алексей Карпович был весельчак среди своих, храбрый в поле, но в танцевальном зале робел и сбивался с такта.
– Вы-то к потехе всегда готовы, – сказал командир полка. – А ваши люди?
– Мои? – переспросил Алексей Карпович и оглянулся на свой батальон.
Быстро пробежав глазами по рядам, он остановился на правофланговом гренадерской роты. Тот стоял, не чувствуя взгляда начальства, в спокойной позе, опершись на ружье, рослый, широкий в плечах, с той особой молодцевато-сдержанной выправкой, которая дается только годами гвардейской службы. Звали его Леонтий Коренной. В высоком кожаном кивере с черным султаном он выглядел настоящим гигантом. Все в нем дышало мужественной силой, и, казалось, русскому великану, пришедшему к западным пределам германской земли, должно быть тесно среди этих почти игрушечных селений, узких долин, низких холмов, через которые он возьмет вдруг и перешагнет.
Посмотрев на гренадера, Алексей Карпович довольно усмехнулся и сказал:
– Я уверен, генерал, в моих людях. Вместе от Бородина прошли!
– А новички? – опять спросил командир полка. – Нынче им крещенье принимать. Как-то они покажут себя?
Всего несколько недель назад в полк прибыл из России давно ожидаемый запасный батальон. За девять месяцев заграничного похода через Польшу, Пруссию, Силезию, Богемию, Саксонию, в непрестанных стычках и больших сражениях финляндцы понесли немалую убыль. Запасный батальон и пошел на пополнение поредевших рот. Новые люди хотя и знали строевой порядок, но под огнем еще не бывали и не имели практики в стрельбе. Их спешно обучили ружейным приемам, определив на то опытных солдат и унтеров, а остальное пришлось предоставить самому взыскательному учителю – полю боя. И вот сейчас, перед таким боем, командира полка Крыжановского более всего тревожила мысль о новичках. Не осрамят ли они полк перед другими? Не навлекут ли какой оплошностью недовольства, а то и гнева высочайшего начальства? И генерал Крыжановский, кавалер многих боевых орденов и отличий, беспокойно косился на высокий холм слева, где, он знал, находится вместе с главнокомандующим сам государь Александр, наблюдающий сраженье. Возможность того, что на разборе гвардейского корпуса о финляндцах вдруг отзовутся худо, страшила Крыжановского куда сильнее, чем французская картечь. Потому он и спрашивал батальонного Алексея Карповича Верже о людях, желая получить утешительный ответ.
Батальонный еще раз посмотрел на Леонтия Коренного, потом на стоявшего рядом молодого, безусого парня из вновь прибывших, потом опять на правофлангового гренадера и уверенно произнес:
– Маху не дадут, Максим Константинович! А ежели кто покачнется, тому другие подпорой станут.
* * *
Леонтий Коренной и его сосед так же пристально глядели на то, что творилось в деревне, раскинувшейся у подножья возвышенности. И каждый по-своему воспринимал происходящее. Молодой солдат, сосед Коренного, видел движение вокруг деревни больших нестройных толп, которые то подступали к ней, то снова откатывались. Вдруг они окутывались белыми хлопьями, и тогда раздавался такой треск, будто над местностью разрывали огромную холстину. Дымная пелена часто заволакивала все строения деревни, оставляя поверх себя лишь макушки редких деревьев да высокую стрельчатую башню с крестом – видно, церковь. А когда пелена рассеивалась, то молодой гренадер замечал, как между белыми домиками с красной черепицей бегали люди, сталкивались друг с другом, падали. Иногда оттуда доносились какие-то громкие хлопки и стуки, протяжные жалобные крики. Все это казалось новичку смутным, непонятным и потому жутким. Он смотрел вниз с таким видом, словно готовился кинуться в глубокий омут.
Коренной понимал, какие чувства щемили сейчас сердце молодого солдата. И по опыту знал, что жалеть заробевшего в эти минуты нельзя, ибо тогда он совсем обмякнет. Вытащив трубку, гренадер принялся раскуривать на ветру и с таким стараньем, будто в этом заключалось сейчас самое важное. Между двумя затяжками спросил соседа с грубоватой насмешкой:
– Что осовел, Петруха? Струхнул?
– Не-е, – протянул молодой и еще больше побледнел при новом взрыве пальбы и рева голосов в деревне. – Убивают там… – сказал он и осекся.
– На то и баталия! – ответил Коренной серьезно. – А ты, брат, не думай о ней, о смерти-то, она к тебе и не придет. Главное, помни, чему я учил тебя: не воротись к неприятелю спиной, а то он ее тотчас и проткнет. Со спины защита плохая. Одной только грудью двигайся на басурман. Слыхал, что наш батальонный толковал? Коль ты гвардеец, так и на страшном суде тебе почет.
Коренной бодрил новичка, как мог. Он не старался отвратить его от опасности и, как бы зажмурившись, не думать о ней, а хотел только представить ее более простой и обычной.
– Глянь, как наши славно дерутся! – указывал он на Госсу. – Вон егеря в середке. Примечаешь их? Зеленые такие, с желтым. Вишь, как они свое место держат! А справа и слева армейцы подкрепляют. Ну, те, конечно, не гвардия, – заметил он с той всегдашней ноткой превосходства, какая проявлялась у него ко всему, что не относилось к гвардейскому корпусу, а считалось просто армией.
И по мере того, как неторопливо цедил слова Коренной, для новичка картина боя в деревне становилась яснее и теряла постепенно свою зловещую непонятность. Он уже соображал, что на правом и левом крыльях деревни сражаются армейские полки – Таврический и Петербургский, что в центре поставлен лейб-гвардии Егерский полк, скреплявший всю боевую линию русских в Госсе, что батареи за ручьем слева поддерживают своим огнем эти полки.
– А французишки так и лезут, как комары, – продолжал Коренной. – Народ, скажу тебе, горячий. И все этот чернокнижник Напальон их подущивает.
– А ты, дядя, видал Напальона? – спросил Петруха.
– Не довелось, – ответил Коренной. – Но повстречайся он мне, я бы ему сказал… – Коренной замолк, так как не нашел, что именно он должен сказать Наполеону, и только сердито пыхнул трубкой.
Петруха доверчиво посмотрел на гренадера повеселевшим взглядом. Приступ страха уже отпустил новичка. Коренной заражал его своим спокойствием, уверенностью.
Их странная солдатская дружба началась с первого же дня, когда в полк прибыл на пополнение запасный батальон. Новичков растасовали по ротам, ротные распределили их по десяткам, а десяточные унтеры приставили каждого к «дядьке». Такой дядька – бывалый солдат и старый служивый – становился первым господином и учителем новичка. И нередко начиналась тут такая школа, от которой у молодого солдата по ночам и в коленках, и в локтях, и в спине, и в пояснице, и пониже все ныло и ломало и глаза вспухали горькой слезой.
Молодой Петр Тихонов попал на выучку к Коренному. И надо сказать, повезло новобранцу. Коренной был требователен, суров, даже ворчун немного, но не свирепствовал и не злобился по пустякам. Старый гренадер сам видел много солдатской нужды, от которой не зачерствел, а проникся какой-то особой терпимостью к окружающим. Свою незаурядную физическую силу он редко применял в солдатских спорах, а приберегал ее для ратного поля, где бился неутомимо и люто. Стрелок он был неплохой, но больше любил штык и часто, протирая его песком или золой, обращался к нему, как к живому, называя «почтенным» или «Иван Иванычем». При Бородине он так ловко и храбро орудовал штыком, когда финляндцы очищали Утицкий лес от французов, что получил в награду георгиевский крест. Все время он пробыл на первой линии стрелков и после ранения все же не покинул строя.
Коренной знал грамоту, что было редкостью тогда среди нижних чинов даже в гвардии. Он не скупился по многу раз перечитывать письма, которые приходили солдатам от родни, и потому знал историю почти каждого в роте, его заботы и беды, и для всякого мог найти нужное слово. Вся рота его любила, и всяк с охотой беседовал с ним о семье, о жизни на родине. Чем дальше уходила русская армия на запад, в чужие германские земли, тем дороже и желаннее становилась Россия, свой край, даже казармы в Петербурге; забывалось то тяжелое, что пришлось там пережить, а всплывало в памяти только приятное и утешительное.
О себе Коренной рассказывать не любил, ни перед кем своей души не выворачивал и от расспросов уклонялся, отмалчивался. О нем знали лишь, что был он женат на отпущенной крепостной из псковских, гораздо моложе его годами. Перед выступлением в поход выдал ей Леонтий через полковую канцелярию отпускное свидетельство, в котором было сказано:
«Объявительница сего – лейб-гвардии Финляндского полка гренадера Леонтия Кореннова жена, Парасковья Егорова, уволенная с согласия мужа ее для прокормления себя работою здесь, в Санкт-Петербурге, приметами она росту среднего, лицом бела, волоса и брови темно-русые, глаза серые, от роду ей 24 года, в уверение чего и дано сие за подписанием моим и с приложением полковой печати».
Отослав бумагу, гренадер ходил несколько дней замкнутый, неразговорчивый. Он как бы сторонился других и в короткие минуты отдыха сидел нахохлившись, один, сосал свою прогорклую обгрызанную трубку без огня, без табаку. Видно, сильно томился человек.
Но, помнится, когда в полку объявили, что бессрочная служба отменена, а будет теперь двадцать пять лет, и когда многие стали гадать, как дотянут они свою лямку до срока и после заживут дома по-свойски, Коренной не выказал радости. Вывернув кверху ладони и растопырив широкие узловатые пальцы, он сказал своим товарищам:
– Свычен я стал к ружейному ремеслу. Оно уже в кожу въелось.
Потом хмуро добавил:
– И куда итти-то? На барщине крючиться, поклоны бить? Перед немцем не кланялся, перед финном не кланялся, перед французом не кланялся – и вдруг изволь опять шею ломать! Эка! На походе иной сам господин офицер одну со мной долю делит. Солнце всех печет, дождь всех мочит. А супротив смерти мы с ним полная ровня. Пуля, она ведь не разбирает, кто барин, кто наш брат, – любому одинако свищет. Нет, я так разумею, что от службы мне спешить некуда.
Леонтий не имел ни галунов, ни фельдфебельских нашивок; он был тем бесчиновным всеобщим дядькой, с мнением которого все считались. Даже старшие в чине обращались к нему «дядя Леонтий» или «дядя Коренной». И никто не мог себе представить, как это будет, если его, «корневика» роты, как повелось о нем говорить, вдруг не станет.
Приняв от унтера новичка Тиханова, гренадер спросил:
– Как звать?
– Петр, Данилов сын, – ответил тот, смущаясь и в то же время с врожденной крестьянской степенностью.
– Будешь Петрухой, – коротко заключил Коренной, и приговор этот был окончательный, оспорить который вряд ли кто бы отважился.,
Петруха был детина, будто на заказ скроенный, – высокий, плечистый, подстать гвардейцам гренадерской роты. Но не было еще в нем той осанки, той поступи, той четкости движений, какие отличали служивых, и потому рядом с ними он казался немного увальнем. Тотчас обнаружилось, что Петруха, несмотря на внушительное телосложение и басистый голос, обладает нравом податливым, мечтательным и, прямо сказать, робким. Его курносое лицо в легких золотых веснушках часто отражало испуг при словах какой-нибудь сложной команды или заливалось краской от беспощадных солдатских шуток. Ротные балагуры уже перекрестили его из Тиханова в «Тихоню», и хлебнуть бы ему немало горя, если бы на месте Леонтия Коренного оказался дядька из более закоснелых. Коренной заслонил его от насмешек и напраслины, а Петруха всем существом доверился этому большому человеку.
Как истый, справный гвардеец Коренной тянулся перед начальством, выполняя одинаково точно и приказание ротного и поручение десяточного унтера. Но делал это с таким достоинством, что редко кто позволял бросить ему грубое слово даже среди любителей почистить горло или «приложить ручку». За многие годы службы он как бы пропитался убеждением и внушал его Петрухе, что подчинение – первейшая основа всякого воинства, от малейшей его частицы до всей армии. В этом смысле для гренадера все начальники были одинаково равны. Но солдатское сердце втайне делило их на «просто начальников», на «злых», о которых и вспоминать не стоит, и на «добрых». В числе последних занимал прочное место командир батальона Алексей Карпович Верже.
– Наш батальонный – человек людской! – говаривал Коренной, медленно выдавливая скупые слова. – Свое дело разумеет и нужду нашу знает, будто свою. Что строг, то правда, но не лютует попусту, как другие.
Мы не заметили бы роковой перемены во взгляде гренадера, когда Алексей Карпович поворачивался к нему спиной. А это добрый знак, ибо верно судить о настоящем отношении солдата можно было лишь по тому, как смотрел он в спину командиру. Среди солдат ходила молва, что высокое начальство, не очень жалуя Алексея Карповича за близость к нижним чинам, за отмену в батальоне телесных наказаний, обходило его в наградах, и потому батальонный считался страдальцем за правду.

На привале, у бивачного костра, он рассказывал о славе полка, о знаменитых его людях.
Коренной не только обучал новичка ружейным приемам и дисциплине. Он пестовал в нем солдатскую гордость. На привале, у бивачного костра, слышался неторопливый, с хрипотцой голос Коренного; сам он терялся в темноте, и лишь трубка его время от времени сипела и посвечивала ноздреватым огоньком. Голос этот рассказывал о славе полка, о знаменитых его людях. О том, что лейб-гвардии Финляндский полк получил свое наименование в честь побед, одержанных русскими войсками в Финляндии. О молодцах, отличившихся в Отечественную войну. О рядовом второго батальона Гаврилове, который все берег последнюю пулю в бою, а когда увидел, что француз целит в командира, быстро вскинул ружье и уложил басурмана. О денщике поручика Шепинга, ухитрившемся бежать из плена и привести с собой коляску французского генерала, запряженную четверкой лошадей. О том, как в Бородинской битве полк вместе с измайловцами и московцами стеной стоял у Семеновского оврага четыре часа под ураганным огнем французских батарей, прикрывая отход защитников Багратионовых флешей.
– Сам Кутузов сказал нам: «Спасибо, молодцы!» – гудел из темноты голос Коренного.
Он рассказывал о том, как в дни изгнания французов из России финляндцы разбили неприятеля в селе Добром и захватили маршальский жезл Даву, одного из главнейших наполеоновских генералов, и что знаменитый трофей хранится теперь в Петербурге, в Казанском соборе.
– Вишь в каком полку тебе доверили служить, – говорил он Петрухе. – Гордись, простота!
В день Лейпцигской битвы, 4 октября, и совершилось то, к чему готовил Коренной молодого Тиханова: испытание огнем. И как генерал Крыжановский волновался за свой полк, как подполковник Верже думал о своем батальоне, так и старый гренадер заботился о своем новичке. Крайне тяжелым выдалось это испытание. Битва разыгралась такая, что даже бывалые воины, видавшие всякое, ужаснулись ее непомерному потрясению, грандиозности столкнувшихся сил, страшному ожесточению, охватившему людей. А гвардейцам Финляндского полка пришлось окунуться в кипение этой битвы у самого кромешного места – в селении Госса…
* * *
Три русских полка уже с трудом держались в деревне. С горы, где стояли финляндцы, было видно, как все новые группы французов подступали к Госсе, как они подвозили новые орудия и принимались тотчас обстреливать линию лейб-егерей, тавричан и петербуржцев и как эта линия изгибалась, рвалась в отдельных местах и медленно отодвигалась к южной окраине селения. Наконец с севера, со стороны главного расположения армии Наполеона, показались еще три сильные неприятельские колонны. Они поднялись из-за противоположных высот, сползли, подобно большим темным гусеницам, по склонам в долину, перевалили вторую, более мелкую гряду холмов и направились к Госсе.
Коренной толкнул соседа:
– Ишь, валом повалили! Их тут столько, что и сам каптенармус не сочтет! Видать, наша пора пришла.
В этот момент к генералу Крыжановскому подскакал свитский офицер, без шинели, в расшитом мундире, и, не слезая с коня, прокричал задыхающимся голосом:
– Наполеон двинул молодую гвардию! Его высочество просит…
Оглушающий грохот сотен орудий прервал его слова, лошадь вздыбилась свечкой, и офицер, указав рукой в сторону Госсы, помчался дальше. Крыжановский успел лишь кивнуть ему в ответ.
– Вот и дождались! – бросил он подполковнику Верже и тотчас произнес звонким голосом: – Господа офицеры, по местам!
Всем стало ясно, что полк вступит сейчас в бой, что сейчас произойдет то, что решит участь многих. И перед решительным часом все воины невольно обратились к востоку, туда, где была далекая, милая, родная России. В глубоком молчании стоял полк несколько мгновений. Офицеры, разошедшиеся по своим батальонам и ротам, не смели нарушить молчания, зная, что эти минуты священны и не принадлежат ни командующему, ни военным законам, ни государю, а только человеческой совести. Многие сняли кивера и беззвучно шевелили губами, повторяя слова молитвы, а может быть, дорогие имена. Леонтий Коренной смотрел строго, сосредоточенно, словно заглядывал во что-то сокровенное, таящееся в его душе. Он крестился медленно и широко, задерживая руку на груди; жесткое скуластое лицо его становилось просветленным, и глубокий шрам по левой щеке, грубивший черты гренадера, казалось, смягчался, сглаживался. Петруха неспокойно переминался с ноги на ногу, не в состоянии сдержать дрожь сильного волнения? Алексей Карпович, находившийся поблизости, наклонил голову и тоже думал о чем-то своем.
Раздалась команда «смирно». Полк прошелестел, будто ветер прошелся по лесу, и затих.
– Песельники, вперед! – прокричал звонкий голос.
Из рядов вышли несколько человек и стали в голове первого батальона.
Пока строились песельники, Алексей Карпович, подтянув и без того туго завязанный шарф, подошел к правофланговому гренадерской роты и, положив ему руку на плечо, обнял его по заведенному в батальоне обычаю.
– Ну, дядя Леонтий, улыбнемся смертушке!
– Нам не впервой, ваше высокородие, – ответил Коренной и, нагнувшись, приложился губами к золотому кованому прибору на эполете у батальонного.
– Ружья наперевес!
И полк, все две тысячи человек, единым движеньем вскинул ружья, звеня чуть отвинченными металлическими частями.
Наконец, приподнявшись на носки и весь устремляясь ввысь, будто собираясь улететь, генерал особенно громко прокричал:
– Марш!
– …арш! …арш! – эхом отозвались батальонные, приняв команду, и полк, все две тысячи человек, разом дал ногу, сотрясая землю могучим ударом.
Тотчас забил барабан. Портупей-прапорщики повели древками особым, только им известным манером, и расшитые полотнища батальонных знамен всплеснули в воздухе и мягко заполоскались, на ветру.
Среди песельников запевала дал голос.
Станем, братцы, в круговую,
Грянем песню удалую… —
завел он высоким, чуть дребезжащим тенорком.
Как живали мы!
Как живали мы! —
грянули басы.
Дальнейшие слова подхватили полным хором, заливаясь на разные лады, с лихим присвистом и уханьем:
Вспомним про житье былое,
Бородинское раздолье,
Бородинский бой!
И хору вторили уже все роты, дважды выводя последние слова песни, и слово «бой» приходилось при этом под левую ногу.
Песельники Финляндского полка славились по всей гвардии, ибо набирались они из тех петербургских лодочников-певцов, какие возили гуляющих белыми ночами по Неве и оглашали берега такими трепетными песнями, что сердце от них таяло, как воск. А сейчас голоса их разносили окрест битвы народов русский удалой напев; тысячеголосая, громкая песнь плыла над другими звуками гигантского сражения, то утопая в грохоте орудийной и ружейной пальбы, то опять вздымаясь с новой силой. И под эту песнь лейб-гвардии Финляндский полк с распущенными знаменами, с барабанным боем пошел в дело.
* * *
Скорым шагом, прикасаясь локтем к соседу для равнения, маршировали гвардейцы вниз по ровному пологому скату, поросшему короткой травой. На зелени поля ясно выделялись четкие движущиеся прямоугольники взводов, рот и батальонов – на равных интервалах друг от друга, с одинаково точным просветом между шеренгами. В разрыв облаков брызнуло вдруг веселое солнце, и в его лучах еще сочнее заиграла отличительная расцветка полка: алые погоны, воротники с алой оторочкой на светлосерых шинелях, алые выпушки по бокам темнозеленых панталон. Сверкали штыки и стволы, начищенные до степени полировки; сверкали ряды медных пуговиц и медные щитки-гренадки на киверах; белели перевязи и портупеи, перекрещенные на груди солдат; блестели шитые золотом офицерские петлицы, гвардейские знаки, золоченые кисти. Полк имел тот особо торжественный, праздничный вид, какой принимала обычно русская гвардия, когда выступала на парад или в бой.
Коренной шел рядом с Петром Тихановым и чувствовал его локоть. По этому прикосновению он угадывал состояние своего выученика. А тот был захвачен общим ритмом движения, поглощен собственным стараньем не сбиться с ноги, не нарушить строя, не опустить ружья ниже положенного уровня. Он, видимо, забыл, куда он идет, зачем идет. Сейчас его занимало лишь одно: как он идет. И это заставляло его забывать, что идет он в огонь, в ад кромешный, что идет он затем, чтобы убивать или быть убитым. И Коренной чувствовал локоть – острый, напряженный, но не дрожащий и не вялый, как губка. Значит, Петруха пока был в порядке.
Впереди легкой пружинящей походкой шагал подполковник Верже, держа обнаженную саблю «на руку». Когда он изредка оборачивался на свой батальон, Коренной видел оживленное, почти радостное лицо командира, которое, казалось, говорило: «Хорошо! Любо!»
Спустившись с возвышенности и приближаясь к деревне, полк встретил обратное себе движение: шли группы раненых, в перевязках, в потемневших от крови мундирах и шинелях, многие без киверов. Некоторые поддерживали друг друга, иные опирались на ружья, как на костыли, иные передвигались почти ползком, садились на землю и вновь медленно ковыляли. На носилках тащили тяжело раненных офицеров. Потом стали попадаться разрозненные толпы солдат, которых командиры тут же собирали и выстраивали опять в боевой порядок, повернув лицом к селению. Судя по заглавным буквам из желтого шнура на красных погонах, это были солдаты Петербургского гренадерского полка.
Оказалось, что две дивизии молодой гвардии Наполеона уже ворвались с хода в Госсу и вытеснили из ее левой части петербуржцев, а из правой – тавричан. Понеся огромные потери, те должны были оставить последние дома и отойти за пруды, лежащие перед селением. И только лейб-егеря еще отчаянно бились в центре.
Русские тотчас начали готовиться к контратаке. Генерал Крыжановский остановил полк и приказал построиться в три батальонные колонны. Словно это было на мирном учебном плацу, а не на полном виду у неприятеля, финляндцы меняли свое построение. Горнист старательно выводил мелодии сигналов, офицеры выкрикивали последовательные команды, а солдаты сдваивали ряды и совершали захождения правильными линиями.
Французы принялись яростно обстреливать полк, занятый перестроением. Воздух наполнился свистом, визгом, воем. Французские стрелки, укрывавшиеся в каменных домах, за изгородями, осыпали полк градом пуль. Чугунные ядра, рикошетируя о землю, огромными прыжками метались среди рядов гвардейцев.
Финляндцы не отвечали. Генерал Крыжановский запретил стрелять, чтобы не тратить напрасно патронов. В полном безмолвии, оставаясь на месте, полк продолжал готовиться к атаке, и все делалось с таким незыблемым спокойствием, будто кругом никого не было, никакой опасности, никакой враждебной силы. Казалось, полк просто не замечал неприятеля, и в этой невозмутимости таилось нечто грозное, неотвратимое.
Как только начали рваться вокруг первые бомбы и раздалось шмелиное гуденье французских пуль, Петр Тиханов невольно придвинулся ближе к Леонтию Коренному, как бы ища у него защиты, а растерянные глаза новичка безмолвно вопрошали: что ж это такое?
– Басурман сердится, пузыри пускает! – отозвался равнодушно Коренной, тихонько отодвигая его от себя локтем, чтобы не заметил ротный поручик.
Сзади кто-то охнул, пораженный пулей или осколком. Петруха резко обернулся на этот вскрик, точно его ужалили в спину.
– Что озираешься? – спросил Коренной, продолжая глядеть прямо перед собой. – Разве кто звал тебя?
И действительно, падал ли убитый или оседал на землю тяжелораненый, никто из солдат не бросался к тому месту, не оглядывался на стон или вскрик. Только офицер приказывал иногда покинуть раненому строй или вынести его на ружьях. Остальные попрежнему сохраняли свою линию, будто все другое их вовсе не касалось. По команде офицеров они делали шаг вперед или в сторону, заступали место выбывшего, смыкали ряд.
Но вот совсем близко шлепнулись сразу несколько ядер и с оглушительным треском раскидали в разные стороны комья земли, клочья черного дыма, куски разорванного человеческого тела. Петр Тиханов с искаженным, одеревянелым лицом, едва не выронив ружье, попятился назад. По всему было видно, что он готов бежать, бежать куда угодно, лишь бы скрыться от этого ужаса. Тогда Леонтий Коренной, даже не поворачиваясь к нему, произнес:
– Куда вылез?! Держи равнение, гвардеец!
И сказал это он таким тоном, что Петруха немедленно встал обратно. Больше он не двигался. При полете новых ядер он как бы весь сжимался, напрягаясь до последней степени. При этом в глазах его мелькало какое-то новое выражение, не свойственное ему до сих пор: упрямое, колючее, почти жестокое.
Наконец прекратилось это невыносимое стояние на месте под неприятельскими ядрами и пулями. Голосисто, призывно заиграла труба. Барабаны ударили атаку. И лейб-гвардии Финляндский полк сдвинулся, пошел, устремился на штурм Госсы?
* * *
Батальон подполковника Верже был направлен в обход деревни слева. Гвардейцы стремительным рывком проскочили по узкой плотине через пруд, перебрались через несколько оросительных канав и вышли на огороды, раскинувшиеся позади селения. Здесь батальон развернулся поротно и, выслав цепь стрелков, бросился на приступ.
Гвардейцы двигались беглым шагом прямо на каменную ограду, окаймлявшую деревню, на группу видных за ней двухэтажных домиков, сгрудившихся вокруг темно-серой стрельчатой церкви. Роты не отвечали на выстрелы французов, которые, заметив обходное движение, брызнули с фланга фонтанами картечи.
Все гвардейцы, идущие в шеренгах, несли ружья по команде «под курок»: каждый держал ружье на согнутой левой руке так, чтобы курок приходился на сгибе локтя, а ладонь – на правой стороне груди, немного ниже плеча. Это был тот прием, с которым русская гвардия ходила в штыковую атаку. Правая рука у солдата была свободна. Она отдыхала. Она приберегалась до того момента, когда уже перед самой схваткой ружье быстро перекидывалось в правую руку, и тогда она должна была без устали колоть, наносить и отбивать удары.