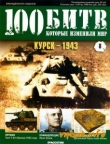Текст книги "В степи опаленной"
Автор книги: Юрий Стрехнин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Словно не веря своим глазам, глядел на меня Бабкин:
– Ты... вернулся? Ну и прекрасно!
Улыбнулся и Собченко:
– А мы тут гадали, какой у Печенкина к тебе интерес?
Я доложил о разговоре с Печенкиным, показал папки и увидел, как это сразу подняло меня в глазах комбата и замполита.
– Добро. Работай! – благословил меня Собченко. – А на ужин ты опоздал. Он привстал, заглянул в котелок: – Садись с нами, каши еще много!
– Я тебе ложку дам! Только обожди, ополосну, – встал Бабкин.
– Спасибо! У меня с собой своя, – я расстегнул кобуру, в которой, пока нам еще не выдали личного оружия, по уже установившейся привычке носил ложку, поскольку питался прямо на батальонной кухне, не нося еды домой.
С того дня Бабкин больше не удивлялся, что я занимаюсь немецким языком. А Абросимов глядел на меня уже без подозрения, но с несколько виноватым видом.
Я усердно стал изучать папки, переданные мне Печенкиным. Но моя надежда, что я помогу разоблачить каких-нибудь местных прислужников оккупантов, оказалась неосуществимой. Это были папки не из комендатуры, а из штаба какой-то немецкой части, кем-то подобранные и переданные нашему особисту. В них хранились интендантские документы – ведомости на выдачу обмундирования, списки имущества и прочее.
Добросовестно проштудировав все папки, я отнес их капитану Печенкину и не без огорчения сообщил, что его надежды не оправдались.
– Ну что же, – утешил меня Печенкин, – изменников не выявили, зато практику в переводе приобрели, товарищ младший лейтенант. Спасибо за усердие.
Эта была первая благодарность, полученная мною на службе.
Хорошо, что я вовремя успел выполнить поручение Печенкина. Еще несколько дней – и мне стало бы труднее находить свободное время для этого: к нам пришло пополнение, и дел намного прибавилось.
Пополнение прибыло большое – не одна сотня человек, почти все заново обмундированные – кто по выходе из госпиталя, кто в запасном полку, после призыва. Сразу же началось комплектование рот и взводов. Это оказалось делом не простым. Надо было распределить людей в соответствии с их навыками и возможностями, причем так, чтобы они как можно лучше дополняли друг друга. А для того чтобы правильно распределить вновь прибывших, надо было знать каждого. Мы же могли судить о них только по данным списков да по первому впечатлению. Пополнение по составу оказалось очень пестрым. Это бросилось в глаза сразу же, когда вновь прибывших построили для первого ознакомления и к ним обратились с речами комбат и замполит.
В шеренгах, вытянувшихся на подернутой молодой травкой малоезженной улице перед нашим штабом – школой, стояли люди и средних лет, и пожилые, и парни, и совсем еще мальчишки – призывался уже двадцать пятый год рождения, лопата войны скребла людские резервы нетерпеливо и жадно – многим из этих мальчишек не исполнилось еще восемнадцати. По лицам можно было судить, что в пополнении представлены чуть ли не все национальности нашей необъятной страны: коричнево-смуглые таджики и туркмены, широкоскулые казахи и киргизы, северяне с чуть раскосым разрезом глаз и бледноватой, не знавшей жаркого солнца кожей, кавказцы с крутыми подбородками и с непременными усами, которых нет разве что у совсем еще юных, простые русские лица...
Сколько людей, сколько судеб! Как все это учесть при распределении? Как сделать, чтобы каждый взвод, каждое отделение стали как можно крепче сколоченными?
Поздравив вновь прибывших со вступлением в ряды прославленного боевого батальона, Собченко приказал пока что распустить строй.
Для более верного распределения комбат образовал нечто вроде комиссии, в которую, кроме него, вошли замполит и три ротных командира. Засев в нашей батальонной резиденции, мы занялись изучением только что составленных под моим руководством – теперь у меня был уже и писарь – списков прибывших.
Сообразуясь с ним, мы и распределили людей по ротам. А затем уже ротные, ознакомившись с теми, кто с этой минуты входил в их подчинение, вели дальнейшую разбивку на взводы, взводные распределяли людей по отделениям – вся эта разбивка сверху донизу делалась с таким расчетом, чтобы рядом с зелеными новобранцами оказались бывалые фронтовики, способные обучить их солдатскому делу, с юнцами – умудренные жизнью люди, а вместе с теми, кто плохо понимал по-русски – а таких было немало, – находились бы русские.
Комплектование отделений и взводов проходило не без трений: земляки старались держаться вместе. Но как можно было удовлетворить все такие просьбы, если, к примеру, несколько узбеков из одного селения, не служивших в армии и почти не понимающих русского языка, непременно хотели оставаться в одном отделении?
После сложных перетасовок, наконец, все вновь прибывшие определены в подразделения, размещены на жилье, поставлены на довольствие, и мы начали занятия, не дожидаясь, пока поступит оружие. Оно не заставило себя долго ждать. Наша единственная грузовая машина совершала рейс за рейсом куда-то на армейскую базу, каждый раз возвращаясь дополна нагруженной ящиками из светлых, новых досок, на которых чернели цифры заводской маркировки. Ящики немедленно вскрывали, из них извлекали ручные и станковые пулеметы, карабины, противотанковые ружья, минометы, автоматы ППШ с увесистыми дисками. Автоматов поступило очень много, ими можно было вооружить добрую половину всех бойцов. А год назад, в училище, всем нам, в том числе и бывалым фронтовикам, автомат был в диковину.
Как много успел сделать для фронта наш геройский тыл за те немногие месяцы, что мы учились и ехали на фронт!
Сейчас это кажется невероятным: после того как добрая половина наших крупнейших промышленных городов и треть населения оказались во власти врага создать такое изобилие в обеспечении фронта самым разнообразным, по тем временам – новейших образцов оружием. Тогда же это казалось само собой разумеющимся, мы и не задумывались, что могло бы быть как-нибудь иначе. А вот фашистским генералам пришлось в ту пору серьезно задумываться. В книге гитлеровского генерала Меллентина Танковые сражения 1939-1945 годов, вышедшей уже после войны, он приводит свое высказывание, относящееся к 1943 году, когда грозный отсвет Курской битвы лег уже на всю дальнейшую перспективу войны. Вот о чем тревожился тогда фашистский генерал: Русская пехота имеет хорошее вооружение, особенно много противотанковых средств: иногда думаешь, что каждый пехотинец имеет противотанковое ружье или противотанковую пушку. Русские очень умело располагают такие средства, и кажется, что нет такого места, где бы их не было.
Поистине – у страха глаза велики!
Получили мы и новенькие противотанковые пушки, за свой калибр – сорок пять миллиметров – прозванные сорокапятками. Нам их тогда полагалось две на батальон, и мы считали, что это – сила! Еще не прошло и года после того, как в училище нам внушалось, что в борьбе с танками надо уповать главным образом на собственные силы – на связку гранат, на бутылку с горючей жидкостью. Даже о противотанковой гранате, поступившей на вооружение позже, мы понятия еще не имели.
Теоретически мы, конечно, знали, что вражеские танки должна уничтожать, главным образом, артиллерия, но повидавшие виды фронтовики, что испытали тяжесть боев сорок первого и сорок второго – а в нашем училище такие были и среди преподавателей, и среди курсантов, – говорили, основываясь на опыте, что если уж танки подходят близко, то надеяться следует не на ту артиллерию, которая стоит где-то, а на ту, что находится в боевых порядках с нами, матушкой-пехотой. И вот к нам в батальон поступила именно такая артиллерия. Мы, недавние резервисты, любовались этими маленькими, словно игрушечными, пушечками, глянцевито-зелеными, только что с завода.
Нашлись в батальоне, среди вновь прибывших, бывалые артиллеристы, сержанты и рядовые, мы скомплектовали из них расчеты к нашим сорокапяткам, обеспечили упряжками – на пополнение поступили не только люди, но и лошади, монголки, как прозвали их бойцы, – лошадки лохматые, низкорослые, однако очень выносливые. В нашем батальонном лейтенантском корпусе, как шутя мы называли себя, не было ни одного артиллериста, все мы окончили по пехотному факультету. Один из нас, лейтенант Верещагин, прибывший в полк не из нашего барнаульского, а из другого училища, с момента появления у нас пушек все время крутившийся возле них, стал проситься у Собченко хотя бы временно, пока не пришлют командира-артиллериста, покомандовать сорокапятками. Собченко согласился, предупредив при этом, что назначение юридической силы не имеет.
– Ну, братцы, – вздыхал Верещагин, делясь с нами своими намерениями и заботами, – теперь, пронеси господи, только бы подольше настоящего артиллериста не присылали! Я пушечки освою, до винтика пойму – ребята там в расчетах хорошие, всё мне обещают показать, если надо – экзамен сдам...
– Кому сдашь? – посмеивались мы. – Что, здесь для тебя училище откроют?
– А я узнавал! – горячился Верещагин. – Есть такая должность – заместитель командира полка по артиллерии. На этой должности – один майор, Собченко с ним мое назначение согласовывал. Я уже раздобыл наставление по пушкам, выучу его назубок, подам рапорт, комбат поддержит, сдам тому майору и теорию и практику. А потом буду просить, чтобы провели меня приказом как артиллерийского командира, сорокапяточками командовать.
– Давай, переквалифицируйся! Да благословит тебя бог войны!
Бог войны благословил. Через некоторое время Верещагин был оформлен приказом на артиллерийскую должность, которой так жаждал.
Наступили во всех смыслах жаркие дни: во всю свою силу вошло лето, с полным размахом пошла учеба, без преувеличения можно сказать – беспощадная, когда, как в настоящем бою, требовалось напряжение всех сил. Мало того, что занимались подолгу. Мы еще совершали марши, подчас – форсированные, с полной выкладкой, а пулеметчики, минометчики и пэтээровцы, вдобавок, еще тащили на горбу и свое тяжеловесное оружие. Марши по пятьдесят километров в сутки, да еще с развертываниями к бою с ходу, по пыльным дорогам, на лютом солнцепеке. Уходили из Березовки на рассвете и возвращались после заката – а летний день, как известно, долог.
...Как незаметно бежит время! Уже июнь. Батальон уже укомплектован, прошел курс первоначального обучения. Впрочем, пока еще не воюем, будем учиться и учиться, повторять и отрабатывать вновь и вновь то, в чем уже многократно тренировались. Такова доля солдатская: учиться бою непрерывно, пока он, наконец, не начнется. Каникул на войне нет. Но и войны сейчас вроде нет: в сводках Совинформбюро изо дня в день повторяется одно и то же: На фронтах ничего существенного не произошло.
Все чаще учебные марши. Все продолжительнее. Догадливый и многоопытный Собченко усматривает в этом некое предзнаменование:
– Вот увидите – скоро распрощаемся с Березовкой.
Прогноз нашего комбата через несколько дней оправдывается. Получен приказ на марш. Выступать приказано вечером, когда стемнеет, взять с собой все. Куда пойдем? Неизвестно. Маршрут, переданный из штаба полка, – только на тридцать километров, до какого-то неведомого нам сельца. Идти на юго-запад, в сторону фронта. Да мы и не ожидали другого направления.
У меня много хлопот: подготовка батальонного приказа на марш – надо определить место каждого подразделения в батальонной колонне, порядок походных дозоров, меры противовоздушной обороны – для нее выделить расчеты ручных пулеметов и противотанковых ружей, – расписать все это и дать приказ на утверждение Собченко, принять участие в проверке готовности к походу – а значит, побывать в каждой роте.
Во всех этих хлопотах, начавшихся тотчас же после получения приказа, я как-то не нашел возможности заблаговременно уведомить свою хозяйку о том, что мы покидаем Березовку, и поблагодарить ее за все заботы, мне оказанные. Только в самый последний момент я забежал в дом, но там и на дворе было пусто, Ефросинья Ивановна и ее дочки куда-то запропастились. А колонна батальона уже стоит, готовая к походу... Я схватил свой вещмешок и плащ-палатку – полевая сумка была уже на мне – и выбежал из дома, за эти месяцы ставшего мне своим. Где же Ефросинья Ивановна? Но нет времени ждать, нет даже нескольких минут, чтобы оставить ей прощальную записку. Я поспешил к месту построения батальона – надо еще успеть забросить куда-нибудь на повозку вещи и явиться в голову колонны, к Собченко – может быть, от него последуют еще какие-нибудь распоряжения?
До сих пор, через многие годы, во мне живет чувство досады, что не сумел я попрощаться с Ефросиньей Ивановной и ее дочурками. После ухода из Березовки это чувство напоминало о себе не раз, стоило мне заглянуть в свою полевую сумку. Там хранилось несколько полотняных подворотничков, которые однажды, увидев, как неумело я орудую иглой, сшила мне Ефросинья Ивановна. Передавая их мне, она сказала: Пока мои подворотнички носите, пуля вас не тронет, а как сносите последний, так и кончится война. Я человек не суеверный, но хотелось верить в предсказание моей доброй хозяйки, и подарок ее я берег. Пуля меня и впрямь не тронула, но позже, уже далеко-далеко от Березовки, тронул осколок, да так, что пришлось долго пробыть в госпитале. А два последних подворотничка Ефросиньи Ивановны я сберег до конца войны – они и сейчас хранятся в моей старой фронтовой полевой сумке и напоминают мне о моей березовской хозяйке.
Порой нет-нет да и подумаю: дождалась ли она мужа с войны? А если нет как подняла, одна, своих девчушек?
Глава 2.
В третьей полосе
Надолго ли остановка? – Тревога. – Неожиданное предложение замполита. Мое двойное подчинение. – Петя Гастев. – Затишье продолжается. – Что станет известно после войны.
...Ночной марш. Темень. Пахнет степными травами, нагретыми солнцем за день, пылью, которую подымают сотни шагающих солдатских ног и копыта лошадей, колеса повозок, пушек, кухонь. Дни стоят сухие, настолько, что даже не выпадает ночная роса, и поэтому эти запахи особенно ощутимы. Слышен негромкий топот разнобойно шагающей колонны – не в ногу, как известно, в походе идти легче. Сзади доносятся звуки баяна. Это играет наш батальонный фельдшер Миша Заборов, с которым мы успели подружиться, – черноволосый и черноглазый, первый красавец батальона. Родом он из Адреанополя, в его городе сейчас немцы. Миша уже давно ничего не знает о родных и очень тревожится о них: ведь всех евреев фашисты уничтожают без разбора. Миша моложе меня, но он уже обстрелянный фронтовик, и это побуждает меня относиться к нему с соответствующим уважением: я-то еще пороха не нюхал, если не считать, что в Ленинграде попадал под бомбежку и артобстрел да получил, туша зажигательную бомбу на чердаке, каплю раскаленного термита в руку, отчего та долго и надоедливо болела. Впрочем, Мнша считает, что в блокаде тяжелее, чем на фронте. Ему, пожалуй, виднее: я фронтовых испытаний еще не проходил.
– Привал!
Усталые бойцы валятся на скудную степную траву, сбрасывая лямки вещмешков, снимая оружие с натруженных плеч. Низко, у самой земли, вспыхивает огонек кто-то намерен закурить.
– Свет! – раздается окрик. Огонек гаснет.
Встаю, хотя и гудят натруженные ноги. Комбат перед маршем дал строгий наказ всем командирам: на привалах следить, чтобы не нарушали светомаскировки. Хожу между отдыхающими на траве бойцами, предупреждаю, чтоб курили осторожно. Бойцы прячут огоньки самокруток. Но слышатся и возражения:
– Так ведь самолетов не слыхать! А услышим – враз загасим!
– Да разве ж разглядит он мою цигарку с такой высоты?
– Разглядит! – убеждаю я. Хорошо запомнил – в инструкции по противовоздушной обороне, старательно изученной еще летом сорок первого в Ленинграде, сказано: ночью огонь папиросы может быть увиден с высоты восемьсот метров. На улицах Ленинграда, когда наступала темнота, так же, как только что здесь, тревожно кричали: Свет!
Ленинград, Ленинград... Он все еще в осаде. Сейчас, когда здесь над нами непроглядно темное небо, под которым можно идти без риска быть увиденным врагом, там белые ночи, город с высоты открыт взгляду врага весь. И встает перед глазами незабываемое: светлое, совсем как бы не ночное, а сумеречное небо, на его фоне – неподвижные, похожие на толстых сонных рыб аэростаты воздушного заграждения, и ниже – море серых крыш. На одной из них дежурю я. А сколько людей еще на тысячах крыш города напряженно всматриваются в беловатое, с сиреневым оттенком небо...
– Кончай перекур! – Команда возвращает меня из осажденного Ленинграда в курскую степь.
– Становись!
Вновь начинается медленное движение. До этого я шел впереди, рядом с комбатом. Но сейчас стою и жду, пока вся колонна пройдет мимо: надо проверить, все ли подразделения идут в предусмотренном порядке. Вот проходят стрелковые роты, следом – пулеметчики: одни несут тела пулеметов, другие – станки, третьи – коробки с лентами. Горбясь под тяжестью стволов и опорных плит, тяжело ступают минометчики – у нас в батальоне всего несколько повозок, они и без того загружены до предела.
Проходят упряжки с пушками-сорокапятками. Нельзя не позавидовать ездовым: они-то сидят на передках, а мы, все, даже командир батальона, должны топать своими двоими.
Замыкает колонну колесница с трубой – кухня. И самым последним неторопливо шагает, чуть сутулясь, пожилой усатый старшина первой, цериховской роты – по распоряжению Собченко поочередно кто-либо из старшин или помкомвзводов идет сзади – на случай, если в колонне кто-то отстанет.
Теперь все. Надо вперед, а то сам отстану. Спешу вдоль обочины, обгоняя идущих. Вновь негромко наигрывает баян Заборова. Весели, Миша, честной народ, чтобы меньше спать хотелось, чтобы незаметнее уходила назад дорога! Проходя мимо, вижу: Миша идет в середине колонны, в интервале между двумя взводами и самозабвенно играет, чуть наклонив голову. Баян – штука нелегкая, и Собченко, дабы бодрящая музыка не сникла ввиду усталости исполнителя, сказал Мише, чтобы он, если уж станет невмоготу, садился бы на повозку или на передок рядом с ездовым и продолжал играть. Но Миша стоически держится – не спешит воспользоваться комбатовской льготой.
Когда я приближаюсь уже к голове колонны, слышу, как там возникает песня. Песня какая-то необычная, по-восточному протяжная, и что-то гневное, горькое можно уловить в ее мелодии. Слова непонятны. Только одно я понял: Гитлер. Поют не по-русски. Равняюсь с поющими. Их немного, человек пять. Выделяется чей-то юношеский чистый голос. Иду рядом, вслушиваюсь. Но вот песня смолкает. Спрашиваю:
– Что это вы пели? На каком языке?
– На своем! – слышится в ответ. – Казахстан знаешь?
– А про что песня?
– Гитлер, собака, от семьи оторвал. Здесь тоже степь, как наш Казахстан. Гитлера здесь побить, потом – домой.
– Понятно. А откуда такую песню взяли?
– Ни у кого не брал. Идем – поем. Сама выходит.
Вот как, оказывается, могут рождаться песни...
Молча шагает колонна. Усталостью все больше наливаются ноги. Коротка летняя ночь, все еще нет и признака рассвета. Почему таким тягучим становится время?
В небе рождается тревожный звук. Протяжный, нарастающий... Самолет? Несомненно! Но чей?
Звук летящего самолета становится все более отчетливым. Мы вскидываем головы, всматриваемся. Но что можно увидеть в небе бархатной черноты, с редкими искорками звезд?
В стороне от нас в вышине появляются комки белого, металлически холодного света и повисают словно бы неподвижно.
– Стой! Ложись! – бросает нас на землю резкая команда. Лошади в упряжках, обрадованные остановкой, тянутся к обочине – там трава. Кто-то из ездовых, не подымаясь с земли, кричит на них:
– Куда, куда!
Мы лежим, поглядывая на медленно снижающиеся белые огни. Это сабы светящиеся авиабомбы, сброшенные немецким самолетом. Мне они знакомы. Такие сбрасывали и над Ленинградом. Они снабжены парашютом, поэтому спускаются медленно, позволяя увидеть все внизу – светят они далеко и долго. Бомбы сброшены в стороне, но их, наверное, ветерком, который не Чувствуется здесь, у земли, но есть в вышине, относит в нашу сторону. Сброшены они, видимо, наугад. Но все же вблизи проселка, по которому мы идем. Следят немцы за прифронтовыми дорогами, хотят узнать, передвигаются ли куда-нибудь наши войска. Значит, противник что-то чует? Конечно. И ему должно быть понятно, что затишье в этих степях не вечно.
Злые белые огни в черном небе, медленно приближающиеся, к нам постепенно меркнут один за другим. Снова над нами и вокруг смыкается тьма – теперь она кажется еще гуще.
– Становись!..
Марш продолжается.
Сутки за сутками... Ночью – поход, с рассвета до заката – отдых, где-нибудь в придорожной роще или в лощине под кустами, иногда – в попутном селе. Чем ближе к фронту, тем малолюднее селения, тем больше в них пустых, заброшенных домов. Многие жители, покинувшие с приходом немцев родные места, еще не вернулись, хотя со времени освобождения их прошло уже немало времени. Фронт близко, и, вероятно, не все уверены, что враг не придет сюда вновь, ведь лето для него – излюбленное время наступления. Но кое-кто все же возвращается. То и дело утром или под вечер на дороге, которой идем, видим самодельную тележку или тачку, до верху нагруженную немудрящим добром, наверху иногда еще сидит малыш. Тележку тащит чаще всего женщина, иногда – старик, следом бредут ребятишки, одетые в ношеное-переношеное, совсем по-нищенски. Куда заносила такое семейство беженская доля, что претерпело оно? И что найдет там, куда возвращается? Цел ли родной дом? Или от него осталась только печь и головешки? Проходя селами, видели мы немало дотла сожженных домов. Но как бы там ни было – тянутся люди к родовым гнездам. Еще бы... Как хочется верить, что не придется им вновь покидать их.
Сколько еще идти? На какой участок фронта нас направляют? Этого знать нам не дано. Каждый раз перед началом марша батальон получает маршрут только на один суточный переход.
Уже третий день стоим на месте. Почему? Этого в батальоне да, наверное, и в полку не знает никто.
Место расположения батальона – реденькая березовая рощица у окраины небольшей деревушки, крытые соломой беленые хатки которой выглядывают из зелени садов. Погода стоит жаркая, даже ночами тепло, поэтому никто не сооружает ни шалашей, ни палаток, располагаемся прямо на траве, в тени берез. Только Собченко и Бабкин обосновались на жилье в одной из ближних к роще хат. Туда же они пригласили и меня, а в сенцах поместили писаря и связного, так что здесь, в хате, нечто вроде батальонного командного пункта. Хата не пустая: в ней живут мать и дочь. Хозяин – на фронте. Мать, Мария Васильевна круглолицая полноватая женщина лет сорока, дочери Капитолине – около двадцати. От немцев никуда не уходили – в позапрошлом году они нагрянули в деревню молниеносно, так что и подумать – уходить или нет – не оставалось времени. Кое-как перетерпели оккупацию.
В хате у наших хозяек две комнаты, одна – передняя – служит и кухней, из нее ход в горницу, где стоит парадная кровать, на которой до нашего прихода никто из хозяев не спал, с пышными перинами и горой подушек. Там же в горнице – шифоньер с большим зеркалом, по которому звездообразно разбегаются трещины. Мария Васильевна рассказала, что зимой, во время отступления, немцы, заночевав в ее доме, напились и один из них на прощание хватил по зеркалу прикладом. В шифоньере хранится приданое Капитолины – оно хранилось там и до прихода немцев. Приданое уцелело, потому что предусмотрительная Мария Васильевна, как ни быстро нагрянули тогда оккупанты, все же успела попрятать то, что поценнее. А теперь все вернулось на свои прежние места. Наша хозяйка до войны работала в молокоприемном пункте здесь же, в своей деревне, но сейчас пункт не работает, так как ни в колхозе, ни у жителей после немцев не осталось ни одной коровы. Поэтому Мария Васильевна вместе с дочерью, как и все, работает в колхозе на прополке: за время войны земля задичала, сорняков на ней – невпроворот.
Нам хозяйка отвела горницу, а сама с Капитолиной обосновалась в передней комнате. Долго ли нам суждено здесь прожить? Команда – и двигай дальше, по новому маршруту.
Но команды все нет...
Времени, однако, не теряем. Даже на марше отрабатывали разные тактические задачи, а уж на стоянке тем более положено. Солдаты совершенствуются во владении оружием, взводами отрабатывают тактику наступательного боя.
Но нашему комбату этого кажется мало.
– Слушайте, что я вам по секрету скажу! – однажды вечером заговорщицки говорит Собченко мне и замполиту. – Надо потренировать людей в мгновенной готовности к бою! Расхолаживаемся мы здесь, в тени берез. А нам, может, на передовую в любой момент. Решил я провести боевые учения. Значит, так: в курсе пока что мы с вами трое. Даже командиры рот ничего не должны знать. Проверка реакции на внезапность! В четыре ноль-ноль ты, – показывает Собченко на меня, – из ручного пулемета, который на колу, для ПВО, даешь длинную очередь поверху, по макушкам берез. Если боец, что у пулемета, спросит – скажи: так надо, боевая тревога! По тревоге подымаем всех и сразу же ведем в степь. Противника там ничем обозначать не будем. Но где-нибудь в стороне, по направлению движения, секретно посажу с маскировкой расчет станкового пулемета. Пусть постреливают боевыми в белый свет, вроде где-то у нас на фланге бой идет.
– Рискованно, – говорит Бабкин. – А вдруг в кого попадут?
– Не попадут! – Собченко увлечен своей идеей. – Прикажу, чтоб брали как можно выше. Будем наступать километров пять, в северо-западном направлении. Эх, жаль, карты нам еще не выдали! Посмотреть бы, нет ли на этом направлении какого населенного пункта? До него доходить не надо. Вдруг там какие-то наши части стоят.
– И примут нас за немцев? – затея комбата явно вызывает сомнение у Бабкина. – Вот и получится встречный бой.
– Не получится! Я разведку вперед пошлю.
– А с командиром полка согласовано? Наверное, надо согласовать, осторожно напоминаю я.
– Согласуешь – в штабе будут знать, начнут поправлять и уточнять, поверяющих загодя пришлют – какая тут секретность? – Собченко остается непреклонен: – Пока не дам отбой – никто, кроме нас троих, не должен знать, что тревога учебная. Пусть все считают ее настоящей, боевой. И ты, товарищ замполит, никакой предварительной агитработы не веди, чтоб все спать легли спокойно, как дома у мамы. А в четыре ноль-ноль...
Собченко будит меня на рассвете:
– Пора. Давай!
На подходе к расположению подразделений меня останавливают два бойца ночной патруль. Узнав, кто идет, следуют дальше своей дорогой. Вот и опушка рощи. В ней тихо, все спят. Раздается негромкий оклик – это дневальный по роте. Отзываюсь, спрашиваю – все ли в порядке? Да, все спокойно.
Подхожу к висящему на высоком колу, стволом вверх, ручному пулемету. Возле него постоянно дежурит пулеметчик, на случай, если налетят вражеские самолеты. Но ночью такой опасности нет, я вижу, он спит возле пулемета, укрывшись с кем-то еще одной плащ-палаткой. Хороша бдительность! Можно снять и унести пулемет – и никто не заметит.
Уже светло настолько, что можно разглядеть стрелки часов на руке. Без пяти четыре. К этому времени сюда должен подойти и Собченко. А вот и он.
Четыре ноль-ноль. Подхожу к ручнику, нажимаю на спуск. Оглушительно грохочет над головой пулемет, из-под него, крутясь, вылетают стреляные гильзы, сыплются мимо меня, одна из них больно ударяет по колену. В беловатое, еще подернутое ночной пасмурью небо летят желтые светляки – диск пулемета заряжен трассирующими. Не успеваю выпустить диск до конца, как чувствую – кто-то хватает меня за локоть. Один из солдат, спавших под плащ-палаткой, наверное, пулеметчик. Он что-то кричит и пытается остановить меня, но из-за грохота пулеметной очереди я не слышу что. Разряжаю диск в небо весь, до последнего патрона. Теперь я слышу солдата.
– Вы зачем?.. – спрашивает он.
Бросаю ему:
– Тревога! Боевая тревога!
Вижу – поблизости в густой тени деревьев шевелятся темные пятна, слышатся недоуменные, глухие со сна голоса. И в этот момент их все перекрывает властный, раскатистый голос Собченко:
– Батальон! Тревога!
– Тревога! – подхватывают другие командирские голоса.
Спешу на опушку, где строятся подразделения. Бойцы на ходу подпоясываются, сворачивают плащ-палатки, набрасывают на плечи лямки мешков. Слышна приглушенная воркотня: досадно – пришлось подыматься, недоспав. Брякает котелок, задетый прикладом. Бегущие в строй переговариваются на ходу:
– Где наши-то?
– Диски взял?
– Погоди, обмотку завяжу!
Когда я подхожу к месту построения, ко мне подбегает Церих:
– Что случилось?
Мне страсть как хочется щегольнуть своей осведомленностью, причастностью к тайне командования, да и Цериха по-товарищески хочется ввести в курс дела. Но мне удается удержаться.
– Не знаю, – говорю я. И уже для форса добавляю: – Может быть, противник...
– Ну откуда он здесь?..
– Батальон... – раскатывается голос Собченко. – Смирно! Правое плечо вперед, шагом марш!
Выходим в степь. Она уже не серая, какой была только что в предрассветьи, а розоватая – медленно занимается утреаняя заря, но солнца еще не видно. Некоторое время идем колонной. По поручению комбата, я прохожу вдоль нее, проверяя, все ли подразделения вышли в полном составе, не забыто ли что-нибудь из оружия. Кажется, все в порядке. Обгоняя идущих, бегу в голову колонны, докладываю Собченко. Где-то слева, довольно далеко, начинает стучать пулемет. Он бьет то длинными, то короткими очередями, и можно подумать, что стреляют несколько пулеметов, что там, слева, идет какой-то бой. Идущим в колонне именно так и кажется – слышу, как по рядам прокатывается тревожный говорок.
При первых же звуках пулеметной стрельбы следует команда развернуться в цепь и продолжать движение. От цепи отрываются и быстрым шагом уходят вперед несколько бойцов – посланная комбатом разведка.
Бойцы в цепи идут с автоматами, винтовками и ручными пулеметами наперевес, готовые к бою. Почти вровень с ними шагают, катя максимы, пулеметные расчеты.
Стараются не отстать сорокапятки в пароконных упряжках, пушки облеплены артиллеристами: на неровностях почвы колеса иногда застревают в траве, приходится помогать лошадям. Артиллеристы готовы в любой момент, если понадобится, снять пушки с передков, катить их на руках, развернуть к бою долг сорокапятчиков сопровождать пехоту огнем и колесами.
Мы с комбатом идем, как положено по уставу, позади цепи, рядом с нами связные от рот.
Рота Цериха – перед нами, он сам, замыкая цепь, идет впереди меня и Собченко совсем недалеко, шагах в тридцати. Оглянувшись и заметив нас, Церих чуть замедляет шаг, говорит комбату: