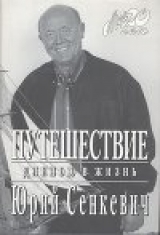
Текст книги "Путешествие длиною в жизнь"
Автор книги: Юрий Сенкевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Сенкевич Юрий
Путешествие длиною в жизнь
СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ – ДЕТСТВО
В начале 80-х годов мне довелось быть в Польше, куда меня пригласил мой знакомый, известный журналист Рышард Бодовский. Он вел на польском телевидении передачу «Клуб шести континентов», во многом схожую с нашим «Клубом кинопутешествий». В Кракове и местные журналисты, и студенты Ягеллонского университета, где мы выступали, неизменно интересовались, имею ли я какое-нибудь отношение к знаменитому писателю Генрику Сенкевичу.
На встрече со студентами я сказал: "Меня постоянно спрашивают о возможных родственных связях по линии отца и деда с вашим писателем и нашим однофамильцем. Но никто не интересуется моими корнями со стороны матери. Так вот, вас, наверное, удивит, что фамилия отца моей мамы Мачульский". В зале началось оживление, потом по нему прошел веселый шум... Дело в том, что тогда общественная ситуация в Польше была неспокойной, в стране активно действовало оппозиционное правительству движение "Солидарность" во главе с Лехом Валенсой, и среди других противников тогдашнего социалистического строя был известный публицист и правозащитник Лешек Мочульский.
Мой дед Куприян Алексеевич Мачульский был выходцем откуда-то из-под Вильно (теперешнего Вильнюса). Могу предполагать, что, судя по его происхождению, он, вероятно, звался не русским именем Куприян, а был литовским Кипрасом. У нас в семье до сих пор хранятся часы, в свое время подаренные деду, и в надписи на часах он назван не Куприяном, а Киприаном.
Дед и его семья по роду занятий были связаны со знаменитой Военно-медицинской академией, учрежденной в Петербурге еще в конце XVIII века. Сам дед многие годы работал в академии ассистентом у известного фармаколога Николая Павловича Кравкова, одного из отцов советской фармакологии и основателя целой научной школы. Квартира, где жил дед со своей семьей, находилась в главном здании Военно-медицинской академии. Моя мама, Анна Куприяновна, тоже работала в академии – у замечательного хирурга Владимира Андреевича Оппеля, известного ученого, одного из создателей отечественной школы хирургической эндокринологии. Мама была у него любимой операционной сестрой.
Мои родители встретились тоже в академии – отец там учился и окончил ее в 1932 году. Сначала он получил назначение в Забайкалье и вместе с женой и первенцем, сыном Володей, уехал в Читу. Оттуда отца направили в Монголию, имевшую тогда союзный договор с СССР в связи с постоянной угрозой со стороны японских милитаристов, как говорили в те годы. Отец служил врачом в авиационной части. Там же, в Монголии, в городе Баинтумен, который теперь называется Чойбалсан, я и родился в 1937 году.
Через два года после моего рождения мы вчетвером вернулись в Ленинград, куда отца перевели работать. И тут, в Ленинграде, в нашей семье произошло несчастье: мой брат Володя, которому тогда было уже 7 лет, умер от заражения крови. Играя, он ударился ногой о какую-то железную дверь, поранился, и у него начался острый остеомиелит... Я был еще очень маленьким и не помню того, что произошло. Только со слов родных я знаю, что смерть старшего сына подействовала на отца страшно. Он даже порывался ехать к известному тогда детскому врачу, профессору Туру, который, по его мнению, загубил сына, и застрелить его.
Отец долго не мог оправиться от этого удара. Он постоянно носил траурную ленточку на своей гимнастерке, подшивал себе черные подворотнички вместо положенных по уставу белых. И даже имел из-за этого неприятности по службе. Он продал свой мотоцикл с коляской, который привез из Монголии, вещь по тем временам редкую и дорогую, чтобы поставить на могиле Володи памятник из мрамора. У меня в памяти сохранилось, как отец постоянно водил меня на кладбище. Оно было неподалеку от Военной академии связи, где отец к тому времени работал начальником медицинской службы и на территории которой мы получили квартиру. Он забирал меня из детского сада, сажал на раму велосипеда и ехал со мной на могилу старшего сына. (Теперь на этом Богословском кладбище похоронены и мой отец, и моя бабушка Пелагея Ивановна Мачульская.)
Первое, что я точно запомнил от тех лет, это как меня крестили. Видимо, мама и бабушка, потрясенные смертью Володи, решили меня охранить от возможных напастей и повели крестить в трехлетнем возрасте. Помню, как меня держал в руках какой-то человек, у которого было колючее не то пальто, не то еще какое-то одеяние. Возможно, это был священник в своем парчовом облачении. Не могу утверждать. Запомнил отчетливо, как что-то кололо мою попку. И это было одно из самых первых моих ясных детских впечатлений – не зрительных, а на уровне ощущений. Ни церковь, ни купель я не запомнил, помню только, что мне было колко...
В 1941 году началась война и огромная всеобщая беда поглотила горе нашей семьи. Мне исполнилось уже четыре года, и я помню, хоть и смутно, первые месяцы ленинградской блокады. Я запомнил каких-то людей, крутивших ручку сирены, когда объявляли воздушную тревогу. И до сих пор мне становится неприятно, когда я слышу пронзительные звуки сирены. Помню бомбоубежище, в которое мы спускались с мамой во время налетов. И еще мне помнится, что все время было холодно и хотелось есть.
Отец был на фронте, а мы с мамой, оставив квартиру на проспекте Науки (бывшем проспекте Бенуа) и сдав кое-какие вещи, велосипед и чемоданы на хранение на склад Академии связи, перебрались к деду Куприяну Алексеевичу, в его квартиру в главном здании Военно-медицинской академии. Бабушка вместе с дочерью Евгенией и внуком Леней к этому времени эвакуировалась из Ленинграда, а дед категорически отказался уезжать, поскольку считал, что война скоро закончится. В их квартире было несколько комнат, но мы все разместились в просторной кухне. Здание не отапливалось, а на кухне была большая старинная плита. Не помню, как удавалось поддерживать относительное тепло в кухне в ту страшную блокадную зиму, помню только, что дед на ночь укладывался спать на этой огромной плите...
Отец, командир медсанбата, находился тогда недалеко от Ленинграда – на знаменитом ораниенбаумском "пятачке", в 40 километрах от города. "Пятачок" этот был небольшим участком земли на южном берегу Финского залива, где удалось закрепиться нашим войскам. Вражеская артиллерия простреливала его вдоль и поперек, но солдаты держались там 28 месяцев – с сентября 1941 года до января 1944 года, до времени прорыва блокады. Условия, в которых приходилось держать оборону, были невыносимые, и о том, как тяжело приходилось нашим бойцам, я узнал много позже – из рассказов отца и его сослуживцев по медсанбату.
Тяжелораненых бойцов с ораниенбаумского "пятачка" необходимо было переправлять в ленинградские госпитали. Единственной возможностью сделать это был путь по льду через Финский залив и только длинной зимней ночью, чтобы гитлеровцы, находившиеся по берегам залива, не смогли заметить тех, кто в темноте пробирался в блокированный город. Они знали, что этот опасный путь был единственной ниточкой, связывавшей плацдарм с Ленинградом, и постоянно простреливали возможную трассу. Поэтому лед в заливе был искорежен многочисленными взрывами.
И вот в одну из таких поездок отцу пришлось сопровождать раненых. Он шел впереди грузовика в темноте, чтобы указывать водителю дорогу, держа в руках специальный карманный фонарик, свет от которого пробивался через маленькую щелочку. Только так можно было хоть как-то ориентироваться на расстоянии нескольких десятков метров, оставаясь при этом необнаруженными. Но немцы все равно обстреливали залив. Услышав свист летящего в их сторону снаряда, отец упал на лед. Раздался взрыв, отца волной отбросило в сторону. Когда он встал и пошел искать грузовик, то добрался по своим следам... до полыньи, образовавшейся в результате взрыва... Машина ушла под лед вместе с водителем и ранеными. Они не доехали до города совсем немного...
Поскольку это произошло уже недалеко от Ленинграда, то отец решил, что не успеет за оставшееся время вернуться обратно на плацдарм, и стал пробираться в город, чтобы заодно узнать что-нибудь и о своих родных. Когда отец, замерзший, опухший от голода, вдруг появился в квартире деда и увидел, в каком положении оказалась его семья, он пошел в гарнизонный госпиталь, чтобы попытаться переправить нас с мамой из Ленинграда на Большую землю, как тогда говорили.
Ему удалось договориться, и на машине, перевозившей раненых, нас в феврале 1942 года вывезли из города через Ладогу. Моя детская память сохранила отрывочно какой-то грузовик, где было много людей, помню, что постоянно слышался какой-то свист, – это был свист бомб и снарядов, которыми гитлеровцы засыпали Дорогу жизни, проложенную к Ленинграду по льду Ладожского озера... Потом я вижу себя в какой-то теплушке, где были нары и на них люди... Много людей...
Так мы с мамой добрались наконец до Вологодской области, где к тому времени уже жили бабушка, тетя Женя и мой двоюродный брат Леня. Их приютили родственники мужа маминой сестры. Как я помню, мы все вместе жили в какой-то избе и половину ее занимала русская печь. Эту жизнь я вспоминаю более осознанно – мне было уже пять лет. Особенно запомнился мне какой-то конфликт между взрослыми. Мама и тетя Женя о чем-то сильно повздорили. Это было летом, потому что и мама и тетя Женя были одеты, скажем так, по-пляжному. Когда я, совсем еще маленький мальчишка, увидел, что мама и тетя весьма эмоционально выясняют отношения, то подкрался к тете сзади и маленькими ножницами стал разрезать ей на спине застежку от лифчика. Видимо, таким способом я попытался прекратить слишком громкий разговор. Много позже, уже в Ленинграде, мама и тетя Женя подтвердили, что такой факт действительно был.
Не знаю точно, почему произошел тот инцидент, только вскоре мы с мамой уехали жить в другое место – в Кировскую область, в совхоз "Боровской". Там мама поначалу устроилась работать медсестрой в лагерь для политзаключенных, находившийся неподалеку от совхоза. Но проработала там недолго: через месяц ее "благополучно" уволили. А причиной стало то, что она принесла в лагерь для кого-то из больных луковицу, чтобы поддержать витаминами истощенный организм. Заключенные в том лагере, как она потом мне рассказывала, находились в жутком состоянии. Как было принято в те "веселые" времена, на маму кто-то настучал. Ее тут же вызвал к себе начальник лагеря и предупредил: "Твое счастье, что муж у тебя в действующей армии. Лучше тебе уйти отсюда, работать здесь ты не сможешь – слишком сердобольная. Может так статься, что и сама здесь окажешься за это".
Конечно, маме пришлось уйти из этого страшного места, и она устроилась работать медсестрой в совхозный детский сад. Видимо, исполняла она не только свои прямые обязанности, так как очень часто ей приходилось по делам детского сада уезжать то в Котлас, то в Великий Устюг. Причем ездила она на телеге, запряженной... коровой, так как в совхозе не было лишних лошадей. Конечно, с такой "тягой" скорости ждать не приходилось, а путь был неблизкий, поэтому мама отсутствовала обычно по нескольку дней. Я оставался один и был предоставлен самому себе. Правда, к тому времени я был уже вполне самостоятельным ребенком и мог обслуживать себя сам.
Наверное, мама просила соседок во время ее отсутствия по возможности присматривать за мной, но мне они не досаждали своей опекой, и я делал все, что хотел. Если это было летом, то я не шел в детский сад, а с самого утра отправлялся на речку. Я умел уже плавать, управлять лодкой. Очень быстро научился ловить рыбу, а потом жарить ее на костре. С тех пор я и люблю плотвичку: лучше ее, жареной, на мой вкус, ничего нет.
Основное воспоминание тех дней – не проходящее чувство голода: мне все время хотелось есть. И я предпринимал все усилия, чтобы найти что-нибудь съедобное. У меня выработался даже своеобразный ритуал осмотра тех мест, где могло быть то, что годилось в пищу.
Сначала я шел обследовать фургон, в котором из пекарни в совхоз привозили хлеб. Я забирался внутрь и собирал хлебные крошки, которые с удовольствием отправлял в рот. До сих пор помню тот удивительно вкусный запах свежеиспеченного ржаного хлеба. Потом шел на машинный двор осматривать сеялки. В них после окончания сева оставались зерна ржи, которые, собрав и перетерев в ладошках, я мог долго жевать.
Мне очень нравилось ходить в лес, и я не боялся там ни зверей, ни густых зарослей – видимо, как большинству детей, страх мне был пока неизвестен. Однажды, увидев в лесу зайца, я бросился бежать за ним, наивно полагая догнать и сделать своей добычей. Конечно, из этого ничего не получилось. Когда я пришел домой и рассказал маме о своей неудачной охоте, она сказала: "Эх, жаль, что у тебя не было с собой соли!" – "А зачем соль?" – "Ну как же! Если зайцу на хвост насыпать соли, тогда его можно легко поймать..."
И потом я долго верил, что именно так и ловят зайцев, пока наконец не понял, что мама тогда надо мной подшутила. Ни одного зайца я, конечно, не поймал, хотя соль с тех пор носил с собой постоянно. Зато она не раз приходилась кстати во время моих походов по окрестностям, особенно когда я на лодке переправлялся с ребятами на другой берег речки, где были заливные луга. Иногда в лугах мы находили птичьи гнезда и съедали сырыми яйца. Но главной нашей добычей были овощи. За рекой располагались огороды, где мы выкапывали репу, рвали лук. У нас так и называли это: "зарешная репка", "зарешный лук".
Было еще одно место, куда я похаживал в поисках чего-нибудь съедобного. Это бывшее картофельное поле, где, покопавшись, можно было найти перезимовавшие в земле картофелины... Что и говорить, несытное тогда было время...
Из-за своего малого возраста я не слишком четко представлял себе, что такое война, на которой находился мой отец. Но зато хорошо запомнил, как мама и другие женщины из нашего деревянного двухэтажного дома постоянно ждали писем, часто молились. Помню даже, как однажды к нам пришел какой-то старик, взял миску, налил в нее воды, накапал воску, бросил туда же крестик, нагнулся над миской и стал что-то шептать. Для меня все его действия были совершенно непонятны, необычны и потому очень интересны... Так я впервые увидел гадание.
Посидев над миской, пошептав, старик успокоил маму, сказав, что отец жив. А беспокоилась она от неизвестности – ведь письма от отца приходили очень редко: сообщение с Ленинградом, а тем более с ораниенбаумским плацдармом было весьма затруднено.
Но вот в начале 1944 года пришло наконец известие, что блокада прорвана. Мы стали думать о возвращении домой. И тут возникли трудности: чтобы получить разрешение на въезд в Ленинград, маме надо было иметь документ о том, что она работает на одном из ленинградских предприятий. И тогда мама завербовалась на нефтехимический завод, получив таким образом возможность вернуться в родной город.
Из воспоминаний, связанных с возвращением в Ленинград, у меня в памяти осталось жуткое впечатление от страшной разрухи, которую мы видели из вагона поезда: разбитые здания, кладбища паровозов, различная искореженная техника, валявшаяся по сторонам от железной дороги. И до сих пор, когда вспоминаю свои тогдашние детские впечатления, у меня в памяти словно прокручиваются кадры какой-то старой кинохроники...
Мы приехали в Ленинград, где узнали, что во время блокады умер мой дед Куприян Алексеевич. Умер и брат отца, тоже остававшийся в городе. Бабушка и тетя Женя еще не вернулись из эвакуации, поэтому мы не могли поселиться в квартире деда, откуда уехали в феврале 1942 года. Пришлось возвращаться в квартиру, где мы жили до войны, на территории Академии связи. Однако к моменту нашего приезда эта квартира не только была разграблена, но в ней уже жили совершенно незнакомые нам люди. Не поселить нас не имели права мы были там прописаны, но нам в нашей бывшей квартире смогли выделить лишь маленькую 11-метровую комнатку. В ней мы с мамой стали жить в ожидании отца. От наших вещей, которые мы сдали в начале войны на склад академии, почти ничего не осталось: замки в наших чемоданах были не просто взломаны, а вырваны с мясом, зато чудом сохранился велосипед.
Город сильно пострадал во время блокады, его хозяйство было разрушено, во многих квартирах еще долго не работало отопление, были перебои с водой. Это рождало немало бытовых проблем, в том числе и проблему гигиены. Поскольку из мужчин-родственников у нас тогда в городе никого не было, маме приходилось брать меня с собой, чтобы мыть в бане. Я помню эти бани круглое здание на Спасской улице, куда мы ездили на трамвае. От посещений женского отделения у меня осталось какое-то чувство неловкости: все эти неприятные мне голые тетки, казавшиеся почему-то толстыми (видимо, из-за особенностей женской фигуры), их постоянные вопросы, почему такой большой мальчик (мне было уже семь лет) моется вместе с ними... А куда было деваться маме? Ведь ребенка надо было где-то мыть, тем более что в те годы буквально свирепствовал педикулез, попросту говоря, вшивость. Из-за этого детей тогда стригли наголо.
Со временем, правда, маме удалось решить "банную" проблему: она отправляла меня "в поход за чистотой" с моим школьным приятелем и его отцом, жившими с нами на одной лестничной клетке. С этим мальчиком мы стали учиться в ближайшей школе – № 117, куда я пошел в первый класс в сентябре 1944 года.
Из детских воспоминаний на "гигиеническую" тему у меня от тех лет сохранилась в памяти и другая малоприятная особенность нашей жизни огромное количество клопов и тараканов. Этих тварей было так много, что страшно вспомнить. За время войны всю нашу мебель сожгли – она пошла на дрова в суровые блокадные зимы. Когда мы приехали, то стали как-то обустраиваться в нашей маленькой комнатке. Маме удалось где-то достать плетеный круглый стол, за которым мы обедали и за которым я делал уроки. Так вот его приспособили для себя и другие существа. Помню, как мама, в борениях с ними, поливала этот стол кипятком из чайника, а я потом брал его, легкий, приподнимал и ударял им по полу, чтобы вытряхнуть засевших там мелких тварей...
Мы уже заканчивали первый класс, когда пришла весть о победе. Война закончилась, у моих друзей по двору и по школе стали возвращаться отцы, а моего все не было и не было. Я уже мог писать ему письма, в которых спрашивал, когда же он приедет. Помню, как я страдал от какой-то неполноценности – как же так, у других мальчишек отцы есть, а у меня нет. Но отца не отпускали из Германии, где тогда находились наши войска и где он работал хирургом в госпитале. Он смог вернуться только в конце 1946 года...
Мама работала, я учился и все свободное время проводил с ребятами во дворе. Одним из наших увлечений были коньки. Я прикреплял свои "снегурки" проволокой к валенкам и вместе с другими мальчишками катался сначала во дворе, а потом мы стали выезжать и на улицу, за территорию Академии связи. Город тогда еще не убирали как следует, лед был и на тротуарах, и на проезжей части. Да и уличное движение в опустевшем за годы войны Ленинграде было слабое: машины встречались не слишком часто. Мы все же умудрялись использовать их для своих забав. Дожидались, когда приезжавшие во двор академии машины притормозят у ворот проходной перед тем, как выехать на улицу, цеплялись сзади припасенными для такого случая крюками и лихо катили на коньках по улице.
Любил я кататься и на лыжах. Мне очень нравилось спускаться с какой-нибудь горки в окрестностях. Вскоре я понял, что для того, чтобы лихо съехать с горы зигзагом, нужны короткие лыжи. И очень просто вышел из положения – укоротил свои обычные, длинные лыжи и потом вытворял на них, что хотел.
Еще одной (и довольно небезопасной) мальчишеской забавой тех лет был порох. Мы "добывали" его из патронов, которые находили неподалеку – на месте бывшего склада боеприпасов в районе Гражданского проспекта, или, как говорили все вокруг, на Гражданке. Хотя склад и был взорван во время войны, но в земле еще оставалось немало весьма опасных "игрушек". Помню, как я, чтобы извлечь из гильзы порох, засовывал патрон в замочную скважину и, используя ее как упор, извлекал пулю. Мама очень сердилась: из-за моих манипуляций скважина была так деформирована, что в нее стало трудно вставлять ключ.
Естественно, нам очень хотелось проверить добытый порох в действии. И мы вскоре нашли ему применение. На "задворках" академии, на пустыре, регулярно жгли какие-то бумаги. Приставленный к этому делу солдат складывал, видимо, уже ненужные документы в круглое кольцо, обломок бетонной трубы, и поджигал. И вот мы не нашли ничего лучшего, как насыпать на дно этого кольца пороху, причем довольно много. Ничего не подозревающий солдат, в очередной раз пришедший с кипой бумаг, уложил их как обычно, поджег и стал ждать, когда они прогорят...
Эффект от нашей забавы был ужасающий. Еще слава Богу, что солдату не выбило глаз. Конечно, он все понял – ведь мы постоянно шныряли на пустыре. Несчастный парень бросился за нами, но догнать, естественно, не смог: мы знали в округе все лазейки в заборах.
Но не все найденные патроны мы использовали для добывания пороха. Часть их мы оставляли нетронутыми, чтобы подкладывать на трамвайные рельсы. Мы стояли и ждали, когда появится трамвай, а потом с восторгом слушали, как из-под колес раздавались почти пулеметные очереди.
Хорошо еще, что никто из нас не пострадал от подобных игр с боеприпасами. К сожалению, тогда нередки были случаи, когда не в меру любознательные мальчишки подрывались на гранатах, минах, которые они искали и находили в земле: после войны она была всем этим буквально напичкана.
Конечно, играли мы и в другие, не столь опасные игры, в тех же "казаков-разбойников", или искали таинственные клады, обследуя все ближайшие окрестности. Кладов мы, естественно, никаких не находили, зато находили всяческие железки, которыми набивали свои карманы. Как и положено у мальчишек, у нас были свои группировки, противостоявшие друг другу. Ребята из соперничавших компаний подкарауливали "противников" у лазеек в оградах, которыми все мы пользовались, колотили и отнимали у них мальчишеские "сокровища": гильзы, какие-то железяки, точилки для карандашей...
Как-то в один из вечеров, когда я заканчивал делать уроки и собирался ложиться спать, открылась дверь нашей комнаты и мама буквально втащила на себе какую-то женщину, мне совершенно незнакомую. Оказалось, что, возвращаясь с работы, она наткнулась на нее на улице. Женщина, вероятно, потеряла сознание от голода и наверняка бы замерзла, если бы не мама. Не знаю, как удалось провести эту женщину через проходную, поскольку на территорию академии попасть можно было по пропускам, но только так у нас появилась Лидия Владимировна Бойко, сыгравшая в моей жизни немалую роль.
Когда мама немного подкормила нашу гостью и она через несколько дней окрепла, то не захотела даром есть чужой хлеб и принялась за мое воспитание. И начала с того, что стала обучать меня английскому языку. Оказалось, что Лидия Владимировна до революции училась в знаменитом Смольном институте и прекрасно владела несколькими языками. Она много рассказывала нам о своей прежней жизни, о том, как жила с мужем, каким-то ответственным советским работником, об их путешествии по Волге. Из ее рассказов мне почему-то особенно запомнилась история о том, как в этом путешествии у нее в воду упало жемчужное ожерелье. Что стало с ее мужем, я не запомнил, а может быть, она и не рассказывала нам об этом... Чтобы как-то прожить, Лидия Владимировна продавала остатки своих драгоценностей, а когда продавать стало нечего, ей удавалось подрабатывать преподаванием языков: кроме английского, она знала французский, итальянский... Почему в день нашего знакомства она упала без сознания на улице, я не знаю. Возможно, она голодала оттого, что у нее украли хлебные карточки, а может быть, их у нее просто и не было...
Лидия Владимировна прожила у нас около двух месяцев и все это время разговаривала со мной по-английски. Поначалу я ничего не понимал, но потом дело пошло на лад. Когда она переехала к себе, наши тесные отношения продолжались и я ездил к ней заниматься английским.
Она не только обучала меня языку. Благодаря Лидии Владимировне я полюбил оперный театр. Именно она впервые отвела меня в Мариинский театр (тогда он назывался Театром оперы и балета имени Кирова) на "Щелкунчика", а потом стала водить и на оперные спектакли. Помню, как меня сначала поразил своей красотой макет зрительного зала в кассовом вестибюле театра, а потом я был восхищен и самим залом в серебристо-голубых тонах.
Драматические театры Лидия Владимировна почему-то не любила – туда я стал ходить потом с классом. В основном мы посещали Театр юного зрителя, который в те годы находился на Моховой улице.
Как и все тогдашние мальчишки, я очень любил ходить в кино. Мы с ребятами по многу раз смотрели "Чапаева", "Парня из нашего города", другие фильмы, но выбор их тогда был невелик. И почему-то мы всегда усаживались непременно в первый ряд. Лидия Владимировна со своим изысканным вкусом не признавала кино за искусство, хотя и подрабатывала иногда в массовках на киностудии. Именно от нее я узнал, что человека можно так загримировать, что его не узнаешь на экране. Помню, как меня это удивило.








