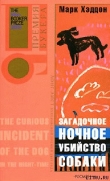Текст книги "Глиняные пчелы"
Автор книги: Юлия Яковлева
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Юлия Яковлева
Глиняные пчёлы
ЛЕНИНГРАДСКИЕ СКАЗКИ
Книга пятая
1945 год
Любое использование текста и иллюстраций допускается только с письменного согласия Издательского дома «Самокат».
© Ю. Яковлева, текст, 2021
© ООО «Издательский дом “Самокат”», 2021
* * *
Ирине Балахоновой,
которая отправилась в дорогу вместе
Глава 1
Время для кошки движется медленно. Таня смотрела, как пули летят ей навстречу. Как приближаются, вибрируя и жужжа, их тупые рыльца. Мёртвые лежали в траве. Небо было тихим и голубым, с пушистыми облачками, а под ними плавал ястреб, крошечный, острый и плоский, точно его вырезали маникюрными ножницами. Далеко, с краю, небо уже начало чернеть и сворачиваться, как горящая бумага. Таня смотрела, как идёт темнота. Страшно не было.
Она махнула ястребу рукой.
И Шурка проснулся.
Стволы будто отпрянули, образовали полянку. Сердце колотилось. Таня. Стволы были чёрными. Сквозь движущиеся чёрные кроны сквозили сизое небо и маленькая твёрдая луна. Таня. Он сел рывком, еловые ветки, которые они наломали с вечера, съехали блестящим колючим одеялом. Таня!
Бежать. Спешить. Нестись. Лететь. Срочно.
Куда?
В синем воздухе щёлкало, шелестело, шуршало, икала невидимая птица, на что другая отвечала ей задумчиво: у-у-у-у… Вероятно, обдумывала ужин. Лес был полон обычных ночных хлопот, не всегда мирных. Спали, казалось, только Капуста и Сара. Их лица светились в темноте голубым. Неприятно казались каменными.
– Елена Петровна, – шёпотом позвал Шурка. Но веки Капусты, казалось, были так и изваяны: с желобком там, где навечно сомкнуты.
– У-у-у-у, – опять выдохнуло в темноте. Шурка схватил Капусту за плечо:
– Елена Пет… – и умолк. Кукла выпросталась из спящей руки Сары и теперь деловито дёргала последний уголок, зажатый между пальцами.
Кого-то он всё же разбудил.
Глазки-точки, когда-то коряво намалёванные углем, теперь полустёртые, уставились на него. Рта у куклы не было, и выражение было невозможно определить. Злое? Радостное? Приветливое? Угрюмое? Один глаз был больше другого.
Кукла освободилась. Быстро перебирая уголками платка, как краб, сбежала по Саре, спрыгнула в неподвижную траву. Остановилась. Стебли не шелохнулись. Шурка вытянул шею. Там она ещё?
Она была там. Таращилась на него. Стояла и ждала. Чего? Шурка глянул в одну сторону, в другую. Ножки-уголки нетерпеливо затопали. Как бы говоря: ну?
Шурка сглотнул, кивнул. Открыл рот, чтобы… Кукла подняла один уголок, приложила к своей мягкой голове. Туда, где не было рта. Шурка понял: тс-с-с-с. Тихо? Кивнул. Бесшумно встал. Кивнула и она.
Листья блестели в лунном свете.
Кроны шумели, покачиваясь. Вокруг луны в небе растёкся сизый ореол, бурый по краям, точно луна таяла. Под ногами мягко проваливался мох. Шурка боялся хрустнуть сучком. Боялся услышать «у-у-у-у» совсем рядом. Боялся упустить куклу: голубой узелок подскакивал впереди, огибая невидимые кочки и пни, карабкался через ветки.
Она что – знает? Она поняла? Что? Сердце билось и мешало думать. Таня, Таня, Таня.
Под ногой хрустнуло. По лодыжкам хлестнуло. Ударило по голени. Шурка вскрикнул, полетел вперёд, едва успел выставить перед собой руки.
И открыл глаза. Белизна ошеломила его. Ворвалась с бурчанием автомобилей, чириканьем воробьёв, звоном трамваев. И превратилась в привычный потолок с бледно-рыжим пятном на том месте, где малярша долго закрашивала подпалину, пока наконец не спустилась по лестнице и не сказала: фу, зато теперь как яичко. Занавеска оттопырилась, надулась как парус. Опала. Из общей кухни доносились далёкий перестук посуды и приглушённые голоса соседок. По коридору протопали, проскрипели шаги. Шкаф стоял, разинув дверцу. Внутри плоско висели дяди-Яшины брюки. На стуле растопыривала рукава Бобкина куртка. У ножки лежал школьный портфель. Далеко внизу прозвенел мимо трамвай. По потолку брызнули солнечные зайчики.
И только сердце колотилось по-прежнему. Таня, Таня, Таня.
Шурка припомнил всё целиком. Увидел разом. Как картину, одновременно яркую и прозрачную – и такую подробную, будто вся была написана кисточкой в один волосок. Разрезанный фартук соседки, Бобка выкроил мишку. А перед этим спёр из тайника глаз. Картина, через которую удрали оба. Милиционер. Сыщики с собакой. Сара, лестница, Капуста. Река и книга. Сфинксы. Мойка. Король игрушек в чёрном «виллисе» с рыжим шофёром. Лес, из которого он только что выпал в свою собственную кровать.
А главное – Таня.
Сердце стучало. Шурка спустил ноги на пол. Прошлёпал к двери. Высунулся в коридор. Никого. Брызнул к тёти-Дусиной двери. Послушал: тихо? Дёрнул на себя дверь. Картина! Картина, на которой дорога уходила лес. Картина, которую унесли с собой милиционеры. Картина, через которую сбежал Бобка. Она тихо висела на стене. Дорога брела себе через лес. И никого на ней не было.
Из кухни вышла соседка – тётя Даша. За уши несла большую дымящуюся кастрюлю.
Шурка обмер. На тёте Даше был её фартук. Ситец, цветочки. Ни дырок, ни штопки. Совершенно целый. Ситцевые цветочки завертелись. Сон?!
Невозможный, яркий, подробный. Неужели – сон?!
Сердце стучало: нет, нет, нет.
Не может быть.
– Шурка, ты что это? В гости ко мне? – засмеялась позади тётя Дуся. – Можешь даже надеть штаны. По такому поводу.
Шурка опомнился. Жар стыда захлестнул по самые уши.
– Извините! – И юркнул обратно к себе.
Упал спиной на стену.
Комната была полна света и воздуха. Открытый шкаф, портфель у ножки стула. Занавеска всё вздувалась и опадала – город за окном дышал, радовался майскому дню и звенел от радости, потому что ничего лучше в Ленинграде не бывает. Только июньские ночи.
Сон! И в тот же миг Шурка почувствовал, что вся картина поблёкла и начала осыпаться.
Шурка попытался вспомнить всё с самого начала. Но начала уже не было. Ладно. Тогда – что есть. Они бежали. С Сарой. Искали Бобку. Какие-то большие злые кошки. Потом мокрая Капуста. Потом трясучая бензиновая темнота. Он ехал? В машине? Куда? С кем? С Капустой? А Таня? С ней что-то ужасное. И лес.
Какой-то лес. Какой-то поезд. Погодите, какой ещё поезд? Но и он осыпался. Точно висел в воздухе.
Только тревога осталась. Настоящая. Тяжёлая, как мокрая глина.
– Бобка! – заорал Шурка во всю грудь.
В шкафу качнулись рукава. Высунулась Бобкина голова. Потом выбрался весь: брюки, куртка, в руках – носок. Другой – надет. Волосы тщательно расчёсаны на пробор.
– Чего орёшь?
– Бобка, – просипел Шурка. Кашлянул. Бобка сел на краешек своей кровати, задрал штанину, стал надевать беглый носок. Натянул, оправил штанину. Встал, подцепил за ручку портфель.
– Ты куда?
– А ты что, в школу сегодня не идёшь?
– А Сара где?
Бобка глянул странно:
– Чай пьёт. На кухне.
И сразу:
– А что?
– Любопытной Варваре на базаре нос оторвали, слышал?
Бобка ответил надменным взглядом и вышел. Шурка прислушался. Скрип половиц до самой двери. Бухнуло. Надо же. Правда ушёл. В школу.
Значит, сон. Вот и всё.
Шурка натянул штаны. Стал складывать ширму, которой на ночь отгораживали угол Сары. Постель была заправлена. А на постели… Сердце кувыркнулось. Ладони Шурки взмокли. Деревянная гармошка ширмы упала на грудь, боднула. Он едва её одолел. Прислонил к стене. Подошёл. Кукла Сары лежала на подушке. Узелок головы, четыре уголка. Намалёванные глаза таращились в потолок.
Трогать её не хотелось.
– Если это сон, то и всё, – ободрил себя Шурка.
Взял куклу. Узел был тугим и грязным. Видимо, много раз намокал и высыхал. Шурка впился в него зубами. Наконец ослабил. Стал теребить. Развязал.
Какие-то чёрно-серые комочки, пыль. Сухая, она так и липла к пальцам, как с крыльев бабочки. Грязь. И больше ничего.
Стало стыдно.
Не стыдно, а глупо. Что он рассчитывал там найти? Мозги, что ли? Или мотор?
Шурка завязал узел снова. Затянул потуже. Пристроил куклу как было. Вытер руку о штаны.
Взял мыло, полотенце.
Попытался вспомнить, ухватить, разглядеть остатки сна. Поднести к глазам хоть обрывки… Но и их уже не нашёл. Сон осыпался. Майский ветерок подхватил его, вынес в окно, дунул покрепче – фук! – и показал пустую ладонь.
Шурка чуть не взвился. Щекастый будильник на столе громко трещал, топая от усилия коротенькими железными ножками. Шурка прихлопнул его. И ринулся вон.
Бобка был прав. В школу было не просто пора. В школу Шурка опаздывал!
Вихрем пронёсся в ванную. От Сары там осталось только мокрое полотенце. Галопом в комнату. От Сары там осталось только черничное пятно наспех заправленной непроливайки, от куклы – ямка на подушке. Как пловец на соревновании, Шурка нырнул в футболку. Сунул руки в рукава куртки. На бегу выпил молоко. От Сары на кухне остались только чистые мокрые чашка и ложечка. Ополоснул стакан под краном, стукнул на стол рядом с Сариной чашкой. Выбежал, засовывая кусок хлеба в портфель. Бросился не к двери, а к окну. Расплющил щеку о стекло, чтобы заглянуть на самое дно двора-колодца. Увидел знакомый берет. Рора ждала внизу. Расплылся в улыбке.
– Сейчас! – крикнул стеклу, зная, что она не слышит.
И чуть не врезался головой в грудь дяде Яше.
– Ой!
Успел подхватить дядю Яшу. Восстановить равновесие. Захохотал. Сунул ему трость.
– Ну ты даёшь. Хоть смотри, куда… – проворчал дядя Яша. Но Шуркин голос уже крикнул в коридоре: «Людочка, не могу какая шикарная!» Дядя Яша удивился. Вышел в коридор. А голос Шурки: «Иван Валентиныч! Секундочку! Дайте! Я помогу!» Да что это с ним? Дядя Яша прихромал к входной двери. Но Шуркины шаги уже трещали вниз по лестнице. Дядя Яша высунулся. Дверь внизу бухнула, и стало тихо. Раковиной закручивалась лестница, в столбе света роилась золотая пыль. Дядя Яша, не попадая тростью в шаг, запрыгал по звонким плиткам к окну во двор. Ухватился за подоконник. Прижался лбом к стеклу, чтобы увидеть, как выскочит Шурка.
– Ой, вот это нехорошо, – испугался: у подъезда стояла Галя. Только этого не хватало. Бог весть что Шурка мог ей опять наговорить! Точнее – очень даже известно: гадости.
Но вдруг увидел Шуркину кепку. Шуркину сгорбленную спину. Шурка скакал вокруг себя, вскидывая колени. На спине его, как кот на заборе, трясся Галин сын Максимка. И визжал от счастья:
– Нет! Не-е-е-ет! Ещё-о-о-о!
Четыре стены двора-колодца изумлённо глазели всеми окнами. Галя, судя по жестам, кудахтала: не урони смотри, смотри ж не урони.
У самой арки, подперев плечом угол, стояла девочка примерно Шуркиных лет. Тощая и нескладная. Коленки-шишки. Берет на ухо. Она крутила на шнурке школьный мешок. И делала вид, что не глядит на Шуркины фокусы.
А Шурка не глядел на неё. Слишком старательно не глядел. Только бузил, козырял – и хохотал громче обычного.
«Девочка! Вот оно что». За Шуркой по дороге в школу теперь заходит девочка!» – дядя Яша покачал головой, углы губ приподнялись, а трость показалась ненужной. Асфальт внизу был серым. Отсыревшие, облупившиеся стены дома – серыми. Галино пальто – серым. А вот небо было цветным и новеньким, бело-голубым. Точно только его и успела покрасить малярша. И даже покрыть лаком.
Неужели всё ещё наладится?
Небо сияло. Кричало ответ: да!
Дядя Яша выдохнул. Ему показалось, что он не то что побежать – он полететь может. Если, конечно, как следует разбежится. Подумал озабоченно-радостно: «Надо будет спросить, как хоть её зовут». Спохватился, сообразил: «…Нет! Уж конечно, не надо ни о чём спрашивать!»
А звали её Рора. Аврора.
Визг Максимки вонзился в ухо как спица. Шурка преувеличенно скривился, остановился. Наклонился. Чуть разжал руки. Максимка съехал, крепко стукнул обеими подошвами в асфальт, эхо отдалось вверх по всему колодцу. Велел:
– Ещё!
Шурка сдвинул кепку с мокрого лба:
– Ну, товарищ генерал. Ещё будет завтра.
– Ещё-о-о-о! – завопил генерал.
Шурка подмигнул соседке:
– Маму попроси. Может, она тебя покатает.
Генерал надулся. Шурка улыбнулся Гале. Та погрозила пальцем Максимке и поверх его головы улыбнулась красными губами. На зубах были пятна от помады. Шурка знал: Галя ждала. Нет, она – поджидала, когда спустится дядя Яша. Как бы невзначай. И губы накрасила – для него. Ещё неделю назад Шурка бы её отбрил. О, так бы отбрил! За погибшего мужа, за тётю Веру, которая не вернётся никогда, за помаду. Но вдруг не нашёл в душе прежнего негодования.
«А и пусть, – вдруг подумал Шурка. – Мне какое дело. Пусть красит. Пусть встречаются. Да и пусть будут счастливы!»
Внезапно он увидел, что впереди расстилалось много-много времени. И нужно было скорее стать счастливым, чтобы всё его наполнить своим счастьем.
Он схватил портфель. Обмахнул рукавом.
– Приветик, – сказала Рора. Отпустила мешок, он бешено завертелся, раскручивая шнур.
Шурка угрюмо кивнул. Почувствовал, как загорелось ухо. Предусмотрительно повернулся к Роре другой стороной. Ещё не хватало, чтобы заметила. Пробурчал: привет.
И они пошли рядом. Рора пинала коленями мешок. Вышли на Садовую. В звон и шум улицы. Солнце скользило по верхам домов, золотило окна. Улица была полна воздуха. Бензиновые облачка моментально улетучивались. Сновали прохожие. Рора рассказывала о математичке, о новых уравнениях, о том, что врачу непременно нужно знать химию. А Шурке казалось: прохожие танцуют. Подскакивают, притоптывают, скользят, семенят. Причём не взад и вперёд, а вокруг. Кружилось всё: дома, столбы, деревья, а автомобили и телеги были похожи на фигуры карусели.
– Да, – восторженно согласился он, – ведь химия – это…
Вдруг Рора остановилась как вкопанная.
За забором стоял разбитый бомбой дом. Сквозь пустые окна голубело небо. На заборе были наклеены бумажные прямоугольники афиш. И вот они были окнами настоящими. За ними бурлила жизнь: поющая, цветная, целлулоидная. Платья женщин были пышными, усики мужчин – чёрными и тонкими. Только в одном косо летели самолёты, наши, советские. Сеансы были утренние, дневные и вечерние.
– Представляешь, Рора. На точно таких У-2 летала наша соседка Людочка. Самая настоящая! И совсем не в кино. У неё даже орден есть.
А руки нет, чуть не добавил. Но осёкся.
Рора задумчиво разглядывала афиши. Шурка испугался: сейчас она скажет «пойдём в кино?» – а денег нет. А я знаю дырку в заборе, тут же сообразил. И тут же испугался опять: лезть в дырку? С девочкой?!
– Как ты считаешь, Шурка… – задумчиво начала она.
«Я займу, – твёрдо решил он. – У Ивана Валентиновича. Он джентльмен. Никому не расскажет. Нет, у Людочки, она поймёт без объяснений».
– …кто красивее: Марика Рёкк, Милица Корьюс, Валентина Серова…
Шурка честно уставился в бумажные окна. Женщины там все были белокурые, все белозубые, все кудрявые. Совершенно одинаковые! Мысли его заметались. Так, соображал он. Ответ надо было дать умный. Глубокий. Серьёзный. Чтобы не упасть в глазах Роры. И при этом остроумный, чтобы не решила, что он в неё вцепился. Он же не вцепился! Так, так, так.
– …или Людмила Глазова?
Он собрал все свои умственные силы. Марика Рёкк вообще-то немка. Милица Корьюс – американка, а они наши союзники, верно? Конечно, Серова лучше. Потому что наша. А Глазова тем более – потому что фильм про героических лётчиков. Как вдруг иная мысль ворвалась. Ослепила, осветила. Показала в вопросе второе дно. Каким-то чутьём Шурка понял, что Рора спрашивала вовсе не об этом. И это же чутьё подсказало ответ. Глупый, невозможный. Но именно тот, который нужен. Шурка не успел его обдумать хорошенько, как уже сказал:
– Самая красивая – это ты, Рора.
И умер на месте. Точнее, не успел. Рора медленно повернула голову. Брови приподнялись, губы приоткрылись. Сомкнулись. Она вздохнула и ответила только:
– Какие вы все, мальчишки, дураки. Ужас. Я же не об этом!
Но на её лице, тихо просиявшем, Шурка увидел, что ответ – правильный. Губы его сами расплылись:
– Тогда Милица Корьюс.
– Ладно, – Рора махнула рукой. – Тебе туда, а мне туда. Пока.
Школа для девочек была на канале Грибоедова.
– После уроков увидимся! – крикнул Шурка.
Спина удалялась. Даже под джемпером видны были острые лопатки.
Родители Роры умерли в блокаду. Умерли бабушка, дедушка, дяди, тети и две младшие сестры. А Рора осталась.
– Рора!
Она обернулась. Шурка подошёл.
– Забыл что-то?
Коленка опять принялась пинать мешок. Прохожие, точно поняв что-то, с обычной таинственной деликатностью ленинградских прохожих, огибали их асфальтовый островок. Шурка посмотрел в серые глаза. Можно было сказать: нет. Даже лучше было бы сказать: нет, извини, пока, после уроков увидимся. Но тогда значило бы, что всё это, с ними, было ненастоящим. А это ждать не могло. Настоящее или нет – надо было выяснить не откладывая. Немедленно. Прямо сейчас. И он спросил:
– Рора, это ужасно, что жизнь прекрасна?
Рора опустила глаза на мешок. Посмотрела на мост, за которым с усилием изгибала гранитную набережную Мойка. Перевела взгляд на трамвайные провода. На Шурку. Пожала плечами:
– Может, да, может, нет… Я правда не знаю! – смущённо засмеялась.
И весь мир засмеялся вместе с ней.
В школе Капусты не было. Но это была такая маленькая, незначительная деталь, что Шурка легко её смахнул.
Вальс из фильма с Милицей Корьюс Шурка насвистывал всю дорогу домой, всю лестницу. Немного запнулся перед дверью. И снова засвистел.
– Ты чего это? …Шурка? – из кухни высунулась голова Людочки. На плечи свешивались два локона, как у Аполлона Бельведерского. В одной руке чайник. Пустой рукав другой плоско подшит к боку. – Свистишь… – и укоризненно пояснила: – Денег не будет.
– Людочка! – Шурка скорчил гримасу. – Я потрясён! Как вы догадались? Я как раз хотел…
…попросить у неё взаймы. Но осёкся – внезапно для самого себя осёкся. Тот же новый свет догадливости, который утром подсказал ему верный ответ на вопрос Роры, брызнул опять: нельзя. Людочка была весёлая, добрая и не спросила бы больше, чем Шурка готов был рассказать сам. Людочка бы одолжила! Шурка не сомневался. И даже улыбнулась бы, и подмигнула. И сказала бы: «Удачи». Или: «И лимонадом её угости». Но Шурка знал: нельзя. Не в этот раз. Он шёл с девочкой в кино. А у Людочки был пустой рукав. И между этим была какая-то невыразимая словами, но твёрдая связь: нет.
– Чего ж? – не дождалась продолжения Людочка.
– Насвистеть ещё мотивчик!
Людочка фыркнула, усмехнулась, покачала головой:
– Ботинки сними. Тёть Дуся только что полы намыла.
И снова скрылась на кухне.
Шурка послушно стянул один ботинок, другой. Поставил под общую вешалку, на которой топорщились плащи и пальто соседей. Паровозными трубами торчали сапоги тёти Даши. Тупыми носками смотрели в стену ботинки Людочки. Лоснились калоши Ивана Валентиновича. Он был дома.
И он был джентльмен. «Попрошу у него», – решил Шурка и осторожно постучал: в комнате слышались негромкие голоса.
– Я вас? – раздалось знакомое. Шурка толкнул дверь. Она в свою очередь толкнула что-то мягкое.
– Сара? – изумился Шурка.
– А! Ты свистел? – радостно улыбнулся из-за стола Иван Валентинович.
– А мы тут гадаем, кто это так фальшивит в «Сказках венского леса»! – наморщил лоб его гость. Такой же тощий, такой же сухой, такой же лысый, как Иван Валентинович.
«Он – не джентльмен», – насупился Шурка.
– Я, Иван Валентинович, в другой раз зайду. Извините… Сара, идём, не мешай!
Сара глянула – и Шурка понял, что она его не видела. Глаза её были широко распахнуты на коричневатый лаковый предмет, который гость одной рукой держал за прямую сухую шею. Другой небрежно махнул Шурке:
– Ничего-ничего! Она совсем не мешает!
Всем троим было не до него.
Сара была бледна. Протянула руку, погладила скрипку по выгнутому боку. Не спешила убрать ладонь, точно грела её.
Гость подмигнул Ивану Валентиновичу, наклонился:
– Деточка, хочешь подержать? Только осторожно.
Иван Валентинович поднял чашку к улыбающимся губам:
– Ты не спрашивай, Лёдя, а дай.
Тощий Лёдя вынул и подал Саре:
– А это, деточка, смычок. Он нужен для того, чтобы…
Иван Валентинович встрепенулся, чашка звякнула, толкнула блюдце.
– Смотри, Лёдя! Смотри!
Шурка и сам уставился во все глаза. Рот его открылся. Сара ловко и точно, как во сне, сунула круглый край себе под подбородок, прижала плечом. Положила сверху смычок. Повела. Пальцы её забегали, защекотали скрипке шею. И Шурка узнал мотив, который только что насвистывал.
«Сара, ты что – умеешь?!» – застряло у него в пересохшем горле. Музыка взвилась, плеснула, как серебряный рукав. Крутанула, подхватила, понесла, закружила, притоптывая на «два-три». Стол, двух тощих стариков на их стульях, чашки и блюдца, всю комнату, всю квартиру. Шурку.
Старики переглянулись.
– Штраус.
– Вальс.
– «Сказки Венского леса».
Шурка ухватился за косяк. Под ногтями побелело.
– Понял, мальчик? – Гость обернулся. – Как надо.
Только он один не выглядел удивленным. Он один не знал, что до этого никто и предположить не мог, что Сара умеет играть.
– Но талант у неё есть?.. Ну, в смысле, музыкальный слух или что там надо. Способности… – всё покашливал смущённо дядя Яша, кивая в пол, стараясь никому не попасть глазами в глаза. Это было трудно. Все смотрели на него. Даже жёлтенькая подслеповатая лампочка с потолка. Тётя Даша стояла, скрестив руки. Тётя Дуся сидела боком к столу, положив на клеёнку голый локоть. Людочка облокотилась задом на остывшую печь. Иван Валентинович – дирижёр этого собрания соседей и главный эксперт (так как работал в Театре оперетты) – взмахнул руками:
– Какая разница!
Дядя Яша опять принялся клевать, кивать, покашливать:
– Ну как… Зачем же место зря занимать… Другому ребёнку – талантливому…
Шурка на миг остановился в дверях, оценил картину. В тусклом свете соседи казались собранием подпольщиков-революционеров за секунду до того, как нагрянут царские жандармы. Пошёл по тёмному коридору дальше. К телефону.
Если с кем и хотелось всё это обсудить, то только с Ророй. В чёрное, дыханием нагретое решето телефонной трубки.
Она всё понимала правильно.
Поняла и сейчас. Рора умолкла. Шурка расслышал с кухни:
«В старину барышни пиликали… От нечего делать… а искусство…» Это дядя Яша.
«Не пиликали, а бренчали. На фортепьянах». Это Иван Валентинович.
– Спорят? – спросила в ухо трубка.
– Угу, – выдохнул Шурка. – Он-то не против. Музыкальной школы. Или уроков. Просто денег нет.
– Да ну.
– Скрипку купить опять же. Деньги.
– Если деньги есть в принципе, как таковые, то они где-то есть.