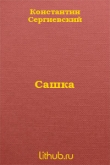Текст книги "Счастье на бис"
Автор книги: Юлия Волкодав
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Всеволод Алексеевич?
Сашка садится на диване, пытаясь разлепить глаза. А, ну все понятно. Туманов и смартфон, вечная битва, раунд очередной. Сидит на краю своей кровати, уже полностью одетый, выбритый и причесанный, жених. На носу очки, перед носом телефон. Что-то тыкает, ищет.
– Всеволод Алексеевич, не надо печатать. Спросите Алису, – напоминает Сашка, поднимаясь.
На подлокотнике дивана ее халат, который она старается надеть раньше, чем вынырнет из-под одеяла. Хотя на ней вполне приличная, даже слишком приличная пижама. Но она все равно смущается появляться перед ним так, без лифчика, непричесанной, заспанной. Как совместить обязанности няньки и безупречный внешний вид в любое время дня и ночи, для нее загадка. Она успокаивает себя, что в моменты ночных побудок ее облик волнует Туманова в самую последнюю очередь.
– Я уже спрашивал, – ворчит. – Глупая она, твоя Алиса, ничего не понимает.
– А что вы ищете?
– Да неважно!
Кому он заливает? Было бы не важно, подождал бы, пока она проснется и все ему найдет. Всеволод Алексеевич замечает ее пристальный взгляд и машет рукой.
– Из газеты одной звонили. Просят прокомментировать итоги какого-то телевизионного конкурса. Детского. А что я им скажу, если не смотрел? Вот, хотел в интернете этом вашем глянуть. Они перезвонить обещали.
Сашка приносит ему планшет, там экран побольше, смотреть удобнее. По дороге находит и включает нужную запись, дает в руки.
– Снизу держите, не лапайте экран, а то переключите на что-нибудь.
– Да знаю! Как у вас, молодежи, все шустро получается!
А сам довольный-довольный. Сашка знает, как для него важны звонки из газет. Хотя ее они бесят необыкновенно. Сначала журналисты звонили только с одной целью: выпытать подробности. Почему ушел со сцены, где живет, с кем живет, как живет, на что живет. Иногда даже до Сашки дозванивались, хотя ее номера ни у кого быть не могло. Сашка кидала трубку. Всеволод Алексеевич жестко обрывал расспросы, предлагая либо говорить о творчестве, либо не говорить вообще. То есть на первый вопрос, почему ушел со сцены, еще давал сдержанный ответ, а дальше начинал рычать. Потом звонки прекратились, на полгода о нем словно забыли. Сашка вздохнула с облегчением, а вот Всеволод Алексеевич загрустил. Он привык к постоянному вниманию. Да, раздражало, да, часто бывало не к месту, но оно составляло часть его жизни десятки лет. И вдруг случилось очередное скандальное Евровидение, на которое отправилась его бывшая ученица. Ученица, по Сашкиным наблюдениям, пела совсем не то и не так, как мог учить Туманов, да и выглядела совсем иначе, чем во времена ученичества. Но победа так поразила общественность, что вспомнили всех, кто был как-то связан с дивой. В том числе и мэтра на пенсии. И Всеволод Алексеевич заливался соловьем, расхваливая «чудесную девочку с ангельским голосом», которая давно хрипела прокуренным меццо-сопрано и вид имела весьма потасканный.
И как-то все закрутилось, Туманову стали звонить всё чаще с просьбой прокомментировать то результаты футбольного матча, то итоги выборов, то очередной скандал в шоу-бизнесе. Иногда вопросы бывали столь идиотскими и такими далекими от сферы его интересов, что Сашка стала подозревать неладное. Ему же льстит внимание, он, даже если ни черта не понимает, наплетет с три короба. В лучшем случае попросит перезвонить и полезет в «волшебную говорилку» разбираться. А Сашке казалось, что некоторые издания просто его троллят. Ну или используют. Особо напрягаться не нужно, набрал номер, задал вопрос, знаменитый старик сам тебе выдал сенсационный контент. И чем несуразнее его комментарии, тем выше рейтинг у публикации.
Но что она могла? Только помогать ему разбираться в ситуациях. Сегодня вот завтракали под детский певческий конкурс.
– Ну и чем они возмущаются? – недоумевает Всеволод Алексеевич. – Ну выиграла девочка. Хорошая девочка, голосок приятный, личико симпатичное. Лет через десять…
Сашка давится чаем. Сразу вспоминается Тонечка, детский конкурс и его пожелание ей прийти к нему вот так, лет через десять. И то, чем все это закончилось.
– Наверное, людей возмущает то, что папа этой девочки владеет нефтяными вышками, – осторожно замечает Сашка, откашлявшись. – А так все нормально…
– И что? Хорошо петь в нашей стране можно только детям трудящихся?
Сашка предпочитает промолчать. Не хватало еще его завести. А потом самой же прыгать вокруг и лечить. Уж ей-то какое дело, кто там выиграл?
– Что-то не звонят они, – замечает Всеволод Алексеевич, озабоченно косясь на телефон.
– А вы ответ подготовили? Что им скажете?
– Скажу, что девочка талантливая, что это низко, травить ребенка и обвинять уважаемое жюри в подкупе. К тому же там еще народное голосование было. Его-то нельзя подделать.
Если бы чай не кончился, Сашка бы еще раз подавилась. Это ей говорит человек, который работал в нескольких предвыборных кампаниях. И который судил фестиваль «Песни дружбы». На котором именно в тот год, когда Туманов возглавлял жюри, вдруг победила его бэк-вокалистка. Вот же сокровище. И глаза такие честные!
Телефон таки звонит, и счастливый Всеволод Алексеевич, схватив его, уходит к себе, объясняться с журналистами. Сашка убирает со стола, озабоченно прислушиваясь, не начнет ли кричать, доказывая свою позицию? Бывают журналисты-камикадзе, которые ради горячего материала пытаются с ним поспорить. Один раз до ненормативной лексики дошло. И это было так… смешно! Они сидели в его спальне, когда раздался звонок. И Всеволод Алексеевич, поняв, что нормальных слов ему не хватает, отстранил телефон и попросил Сашку выйти, закрыв за собой дверь.
Она, ничего не понимая, с каменным лицом вышла, дверь закрыла. Но двери-то нынче делают чуть ли не из картона. И услышала, как он матерится. А потом открывает дверь как ни в чем не бывало и приглашает ее войти. Хихикала потом весь вечер.
Возвращается спустя двадцать минут, одетый как на выход. Белый спортивный костюм с орлом во всю спину и гордой надписью «Russia». В белых кроссовках. Никогда в жизни не наденет черную обувь под белый наряд. В руках барсетка, на носу темные очки. Словом, человек явно не в огород собрался. На вопросительный взгляд Сашки отвечает как о чем-то давно решенном:
– Пойдем в торговый центр, в тот магазин, где ты вчера костюм примеряла.
– Зачем?!
– Я хочу посмотреть, что за костюм такой.
– Всеволод Алексеевич, я же говорила, ничего интересного.
Стоит, ждет. И Сашке приходится срочно собираться. Возвращаться в тот магазин, особенно после обмена любезностями с продавцом, ей совершенно не хочется. И она уже подозревает, чем кончится дело. Сейчас Всеволод Алексеевич решит купить ей этот костюм. За сумасшедшие деньги. И они поссорятся. Ну и кому все это надо?
Но в магазин они все-таки идут. Не очень быстро, и Сашка дополнительно корит себя за длинный язык и вчерашнюю откровенность. Судя по шагу, сегодня Всеволод Алексеевич предпочел бы побыть дома, если бы не она. Погода меняется, небо заволокло тучами, но дождь никак не пойдет. Вечная проблема приморских городов, так крутить может несколько дней. И он в такие периоды не слишком бодрый. Да что он, Сашке самой хочется залезть в кровать, отвернуться к стенке и лежать, ни с кем не разговаривая. Кроме него, естественно.
Если бы в этом магазине была дверь, Всеволод Алексеевич открыл бы ее ногой – именно с таким видом он вошел внутрь. Консультант к ним бежит все тот же, но Туманов окидывает его надменным взглядом, и парень шарахается назад. А дома обаятельнейший дедушка, между прочим. Он иногда пугает Сашку своим лицедейством.
– И где?
Сашка плетется к нужным вешалкам. Мелькает мысль обмануть. Показать не тот костюм, который вчера примеряла. Ну да, только тут вся одежда примерно в одной ценовой категории. И она его не обманывает никогда, даже когда следовало бы. Честно предупреждает, если собирается сделать больно, как при замене инсулинового дозатора, например. Он первый раз аж обиделся. Мол, могла бы обмануть. Кстати, дозатор скоро менять. Как же Сашка это ненавидит.
Сашка вытаскивает нужную вешалку, стараясь не смотреть на консультанта. Как тот ликует, наверное. Папика привела. Сейчас папик откроет кошелек и купит дорогую тряпочку. Но Всеволод Алексеевич морщится и качает головой. Подходит к вешалкам с таким видом, как будто они не в бутике, а в секонд-хенде. Перебирает их, изредка фыркая.
– Боюсь, Сашенька, что это, с позволения сказать, заведение, несколько не адекватно себя оценивает…
– У нас модели ведущих брендов, – обиженно встревает консультант.
– Да. Десятилетней давности. Основной поставщик – распродажи в Италии. На окраинах Милана есть целые ангары, куда свозится всякий невостребованный хлам, – невозмутимо продолжает Туманов. – Да и бог с ней, с модой. Ваш ассортимент удивляет. Неприятно. Личный вкус владелицы магазина?
Бедный парень не знает, как возразить на такую тираду. Сашка сохраняет невозмутимый вид, но про себя улыбается. Включился московский сноб. Еще одна маска. Не самая приятная в обычной жизни, но сейчас весьма уместная.
– Ну, либо нам надо искать другой магазин, – резюмирует Всеволод Алексеевич, выуживая какую-то вешалку, – либо примерь вот это. Не совсем то, что хотелось бы, но на безрыбье…
Костюм. Брючный. И почему она решила, что он непременно навяжет ей платье? Строгий, темно-синий. С удлиненным пиджаком. Настроение костюму придает узкая полоска черного кружева на манжетах и лацканах.
– Белую блузку к нему найди, – бросает Всеволод Алексеевич, даже не глядя на консультанта.
И тот мчится искать блузку. Сашка как под гипнозом идет в примерочную. Пока разбирается с брюками, консультант приносит блузку. Из-за двери слышится ворчание Всеволода Алексеевича. Блузка его тоже устроила не на сто процентов. Но, мол, как временный вариант… Сашка смотрит на ценники. Временный?! Она в год тратит меньше на гардероб.
Неуверенно выходит из примерочной. Ну, вроде, ничего так. Всеволод Алексеевич удовлетворенно хмыкает.
– Срежь этикетки и рассчитай нас, – все тем же небрежным тоном.
Сашкину одежду, оставленную в примерочной, тут же упаковывают в красивый пакет. Парень носится как угорелый. Всеволод Алексеевич нетерпеливо постукивает карточкой по кассе. Сашка туда даже не подходит. Вот оно и случилось. Он ее одел. На свой вкус. На свой, надо признать, идеальный вкус. Полностью совпадающий с ее собственным. В принципе, было бы странно, случись иначе. Кто ее вкус воспитывал-то? Песнями, музыкой, общей эстетикой. Просто Сашка не рассматривала такого рода костюмы. Никогда не думала, что они ей подойдут. Как он это делает? И с размером угадал с первой попытки. Как?!
– Еще в обувной зайдем, – говорит он, когда они выходят из магазина.
Сашка пытается возразить, но он прерывает ее жестом.
– В мужской отдел. Мне нужны мокасины. И кроссовки на размер больше.
Сашка не может спорить. Его обувь – отдельная проблема. С его диагнозом упаси господи что-то натереть, всех лишних травм, даже самых мелких, лучше избегать. А отекают у него ноги часто, так что ботинок, мокасин и прочей обуви дома по несколько пар, его реального размера и на один размер больше.
– Можно я с вами не пойду? Вы же без меня прекрасно справитесь? Мне надо в комнату для девочек.
– Пожалуйста, – кивает.
Никуда ей не надо, просто не хочет слоняться без дела между витринами, пока он будет персонал гонять. В обувном ее помощь не нужна, там его консультанты и обуют, и разуют двадцать раз подряд, и все его претензии по поводу убогого ассортимента и отвратительного качества выслушают.
До дамской комнаты Сашка все-таки прогуливается, только чтобы его не обманывать. Долго стоит у зеркала, рассматривая свое отражение. Ишь ты. Маникюр у нее, костюм. Ну осталось волосы до попы отрастить и губы накачать. Нет, последнее ему не понравится, он ярый противник пластики. Хотя Сашка подозревает, что, если бы не диабет и хреновая заживляемость, он бы первый бежал подтягивать, утягивать, натягивать. Когда работал, конечно. Но коль ему нельзя, то и у других осуждает. Сокровище ни разу не толерантное.
Назад идет с мыслью, что можно успеть какой-нибудь бургер перехватить, пока он там десять пар перемеряет. Но Всеволод Алексеевич шагает ей навстречу. В руках два пакета. На удивление быстро.
– Всё удачно? – осведомляется она.
– Вполне. Возьми, пожалуйста.
Протягивает один пакет ей. Сашка машинально берет. Машинально же заглядывает внутрь, достает коробку.
– К костюму, – невозмутимо сообщает он. – Прости, ты ушла, я взял на свой вкус.
«Прости», ага! А так бы он на ее вкус взял! Впрочем, они уже выяснили, что разница тут не большая, если только в цене. Туфли. Не лодочки, не на шпильке, на которой она бы все равно не смогла ходить. А ровно такие, какие ей всегда нравились. Похожие на мужские, с длинным тупым носом, шнуровкой на подъеме и широким устойчивым каблуком.
– Всеволод Алексеевич, вы… Ну куда я во всем этом буду ходить?
– Куда угодно! Хоть бы и за хлебом. Но в целом согласен, культурного досуга нам с тобой не хватает. Пойдем на концерт Соколовского?
И оба начинают ржать как сумасшедшие.
Май
– С праздником, Всеволод Алексеевич. Вы, главное, будьте здоровы.
Сегодня вместо «доброго утра». Улыбается, довольный. К завтраку вышел в белой рубашке. А если соберутся гулять, то еще и пиджак с орденами наденет. Есть у него такой, особый. К которому раз и навсегда ордена прикручены, чтобы каждый год не мучиться. Тяжеленный.
Как его песочили в интернете за этот пиджак, когда он работал. Хотя надевал его Туманов раз в год и не на главный праздничный концерт на Красной площади, а на тот, локальный, поселковый, который сам же устраивал и который так Сашку раздражал. Звенел наградами в узком кругу. И Сашка не знала, как к этому относиться. Ведь его награды. Да, не в Великую Отечественную полученные. Но полученные же, не на рынке купленные. Одну можно даже считать «боевой», за выступления в Афганистане. Да, не стрелял – пел. Но, думается, толку от него как от певца там было больше, чем возьми он автомат. И действительно рисковал, далеко не все артисты соглашались туда ехать. Остальные награды за заслуги перед государством и искусством. И тоже ведь не с неба на него упавшие. Другой вопрос, уместно ли надевать их в День Победы. Вроде как наравне с ветеранами. Которых почти не осталось. И большая часть публики на концертах для ветеранов состоит, в лучшем случае, из детей войны. К которым он тоже относится. И Сашка не случайно его поздравляет. Для него это не абстрактный праздник, а самые настоящие живые воспоминания.
Сейчас всё гораздо проще. Теперь к нему не приковано внимание журналистов, и здесь, в тихом Прибрежном, никому не придет в голову проверять, какого он там года рождения. Идет красивый старик, звеня наградами, и идет. Ему улыбаются. И он счастлив. А что еще Сашке надо?
Сашка уже не спрашивая включает телевизор. Знает, что он будет смотреть парад.
– Всеволод Алексеевич, а вы помните девятое мая сорок пятого?
Неопределенно пожимает плечами.
– Смутно. Мне кажется, что помню. Но кто даст гарантию, что я себе это воспоминание не придумал? Так же, как маму вроде бы помню. А может, и нет. Описать тебе праздничную Москву, как потом показывали в кинохронике, не смогу. Все бытовые тяготы я на себе почувствовал, скорее, в послевоенное время, его уже память захватила крепко. Продукты по карточкам, очереди за ними. Несколько раз я карточки терял. Как все дети. Дровяная печка и вязанки дров, за которыми я ходил во двор, где стоял специальный сарайчик. Самодельные леденцы. Мы растапливали в ложке сахар, он застывал и получался леденец. Парусиновые штаны до колен на помочах. Жизнь была суровая, Саш, но обыкновенная, у всех одинаковая. И даже то, что я рос без мамы, не казалось чем-то из ряда вон. В классе почти у половины ребят отцы с фронта не вернулись. Да и женщины тоже гибли и на фронте, и в госпиталях, и в тылу. Сейчас жутко звучит, а в те годы таковой была реальность.
Гулять они все-таки идут. Не сидеть же дома у телевизора. Там еще и концерты начнутся, он совсем раскиснет. Он и так не может говорить ни о чем другом. И до Сашки вскоре доходит, что воспоминания о Победе как историческом событии, свидетелем которого он был, пусть и в далеком детстве, у него давно вытеснились бесконечными концертами. Его, и так востребованного артиста, в майские праздники просто рвали на куски.
Они идут по набережной, в конце которой есть памятник погибшим кораблям. К нему обычно несут цветы местные жители, там же неподалеку площадка для городских праздников, где вечером ожидаются концерт и салют. Опять концерт. Сашку уже потряхивает от этого слова. И от выражения его лица хочется выть. Такая тоска в глазах. Каждый год одно и то же, каждые праздники. Он никак не может привыкнуть, что не нужен, что без него обошлись.
– Всеволод Алексеевич, у памятника полевая кухня будет. Поедим каши? – предлагает она.
Неопределенно пожимает плечами.
– Да я не голоден.
Он не голоден. Когда такое бывало? Практически никогда!
И снова идут в молчании. И Сашка не знает, как его отвлечь, поэтому говорит первое, что приходит в голову:
– Стыдно признаться, но у меня в семье нет ни одного героя. У всех есть, а у меня нет. Даже самого завалящего. В школе перед Днем Победы всегда сочинение писали, рассказывали о своих героических родственниках. У одной из моих одноклассниц дедушка до Берлина дошел, на стене Рейхстага расписался, даже фото есть. А мне написать нечего. Когда подросла, стала допытываться, как так? А родители руками разводят, что-то невнятное рассказывают про прадеда-снабженца и про какую-то дальнюю родственницу, которая вроде бы воевала. Где, кем, без подробностей. Поэтому до вашего появления праздник я воспринимала абстрактно, как страницу учебника истории. А потом через вас. Через ваши эмоции, песни, горящие глаза и требование дать салют, разносящееся над Красной площадью.
– Ты видела тот концерт?
– Вы его тоже помните?
– Такое не забывается. Эти сволочи организаторы что-то там напутали с хронометражем, и получилось, что я закончил песню, отзвучал последний аккорд, а салюта нет. А передо мной многотысячная заведенная толпа. И что я должен делать? Анекдоты ей рассказывать, что ли? Или просто уйти со сцены, а они пусть расходятся? Трансляция в прямом эфире на всю страну! И тут оркестр начинает играть финальную песню по второму кругу. И я, как дурак, начинаю ее петь, тоже по второму кругу. Голоса уже нет, срывается. Я целый день по всей Москве носился и везде живым звуком. И вместо третьего куплета, уже чувствуя, что не вытягиваю, просто кричу в микрофон, мол, дайте салют!
– …и дают салют, – подхватывает Сашка. – Это выглядело волшебно! Как будто вы минимум Президент! Верховный главнокомандующий нашей эстрады и того концерта.
Он грустно усмехается.
– Ты все романтизируешь. Тебе был нужен герой, и ты его себе придумала. Только я мало гожусь на эту роль.
– Вы прекрасно справлялись. И сейчас справляетесь.
А чтобы он поверил, что она говорит правду, Сашка добавляет совсем уж невпопад, но именно то, о чем думает:
– Я невероятно за вас боялась в майские праздники. Не в тот год, когда вы орали про салют. Тогда еще нет. Позже. Чем старше вы становились, тем более сумасшедшим был ваш график. Вопреки всякой логике. Я помню предпоследний, кажется, год перед тем, как вы ушли со сцены. Это же невероятно! В один день какой-то Сыктывкар, сольник для ветеранов в закрытом зале и три песни там же на открытой городской площадке. Потом перелет в Москву и выступление на Красной площади. На следующее утро вылет в Беларусь, там три концерта в разных городах. Вы что творили? Вы вообще спали?
– Во-первых, в Беларусь мы ездили поездом. Очень удобный ночной рейс, вечером сел в вагон, попил чайку и можешь спокойно спать. Утром свеженький приезжаешь на место.
– Свеженький? Так я и поверила, что вам с вашим ростом удобно спать в поезде.
– Ну, удобнее, чем в кресле самолета. Во-вторых, ты же понимаешь, что за такие вот корпоративы для ветеранов мне платили очень большие деньги. Регионы соперничали, чуть ли не аукцион устраивали, кто больше предложит, к кому я девятого мая приеду. Ну и от правительственных концертов отказываться нельзя, хотя за них и не платят.
– О чем я и говорю, – вздыхает Сашка. – Я примерно так и думала. И очень боялась, что с вами что-нибудь случится. Причем в дороге. Или в каком-нибудь Мухосранске, где никто не сможет квалифицированную помощь оказать.
– В итоге так и получилось. Но в Мухосранске оказалась ты, – усмехается. – А в-третьих, Сашенька, нагрузка не росла из года в год. Просто ваши социальные сети дурацкие появились. И вы стали больше узнавать. А я разницы даже не чувствовал, я привык. Мне всегда было хуже, когда я без дела сидел. Знаешь, когда жизнь тебя мотает: поезда, самолеты, гостиницы, – ты мечтаешь об отпуске. Чтобы уехать к морю и две недели просто лежать на пляже. Потом наступает отпуск. Первый день высыпаешься в номере. Второй лежишь на пляже. На третий Зарина тащит на какую-нибудь экскурсию, на которой совершенно неинтересно. Потому что объездил весь свет и впечатлений на работе хватает выше крыши. А на четвертый день я обычно сбегал. Почти всегда кто-нибудь звонил из Москвы, куда-нибудь приглашал, и я радостно соскакивал. Ну не могу я без дела! И сейчас…
Он обрывает себя на полуслове, и Сашка понимает почему. Она всё услышала в его голосе. И, наверное, впервые по собственной инициативе, а не по острой необходимости, Сашка осторожно сжимает его руку. Что еще она может сделать? Глупо же его утешать. Взрослый человек, сам все понимает. И решение уйти со сцены принимал сам, никто бы его не уговорил. Сашка может только показать, что рядом. И чувствует ответное пожатие теплой ладони.
Всеволод Алексеевич покупает гвоздики и кладет их к памятнику погибшим кораблям. Потом они вместе идут на раздачу каши. Сашка втискивается в очередь, его оставляет на скамеечке в тени. Возвращается с двумя мисками и одной рюмкой.
– Это еще что?
– Фронтовые сто граммов! Вам. Я водку не пью.
Косится. Ой, ну если бы она хотела прочитать ему лекцию, то не принесла бы рюмку. От того что он себя накрутит, сахар сильнее поднимется, чем от ста граммов. Усмехается, опрокидывает рюмку залпом. Заедает кашей. Каша вкусная, но чертовски горячая. Еще и из пластиковых тарелок, которые обжигают руки. Профанация. Хотя жестяные миски, как в войну, надо думать, тоже обжигали.
– Я тебя расстроил, девочка, – констатирует Всеволод Алексеевич. – Не бери в голову. Просто брюзжание старика. Вот уж не думал, что таким стану. Надеялся, раньше унесут. И лучше бы со сцены.
– Сейчас точно расстроите! Концерт останемся смотреть?
– Местной самодеятельности? Пожалей мой слух и свою нервную систему, я же начну комментировать. В особо язвительной форме!
– Отлично! Обожаю ваши язвительные комментарии.
– Да? Ну тогда остаемся!
* * *
Сашка узнала, конечно же, быстрее, чем он, у нее интернет всегда под рукой, рассылки в смартфоне приходят исправно. А ему позвонил кто-то из родственников композитора. Сашка услышала обрывки разговора.
– Да не может быть… Светлая память Николаю Павловичу… Столько песен… Нет, я не смогу, Оксаночка. Лерочка? Прости, милая. Нет, я сейчас не в Москве. И не буду. Но я передаю вам самые теплые слова поддержки…
Сашка входит в комнату, которая служит им и гостиной, и библиотекой, и чем угодно. Мрачный донельзя Всеволод Алексеевич сидит у окна и что-то выстукивает пальцами о подоконник.
– Николай Добров умер. Мне только что позвонили. Композитор, написавший…
– Я знаю, Всеволод Алексеевич.
Написавший три десятка детских песен, на которых выросло и ее поколение, и несколько предыдущих. И еще много лирических взрослых песен, куда менее известных, но не менее гениальных. И о чем сейчас думает ее сокровище, Сашка тоже знает. Поэтому садится в кресло напротив, оставив идею перегладить только что снятое с веревки белье. Успеется, сейчас есть задача поважнее.
– От воспаления легких, Саш. Вот ты мне скажи, как можно в двадцать первом веке от воспаления легких умереть? В Москве! Не последнему в стране человеку!
Сашка не знает, что сказать. Объяснять, что чудесному Николаю Павловичу было за девяносто, а в этом возрасте смертельно опасным может оказаться даже насморк, она совсем не хочет. Зачем Всеволоду Алексеевичу такие сведения? Он ведь на себя все примерит. Уже примеряет. И почему у него в глазах звериная тоска, тоже понятно. Доброва жаль, но дело не в жалости. Страшно осознавать, что его поколение уходит. Уже проще пересчитать оставшихся, чем ушедших. И Сашке тоже страшно.
– Не всегда болезнь можно задавить антибиотиками, – начинает Сашка пространно. – Не каждый организм к ним восприимчив. Антибиотики стали считать панацеей, население думает, что надо всобачить дозу посильнее и дело в шляпе. Еще и самолечением занимаются, сами себе назначают препараты. Потом бросают, у организма вырабатывается иммунитет. В следующий раз требуется большая доза, чтобы подействовало. Мы имеем все шансы через несколько лет получить поколение, которое вообще никакие антибиотики брать не будут.
Сашка старается увести разговор подальше от композитора, рассказать о медицине будущего, но замечает, что Всеволод Алексеевич ее не слушает.
– Саша, – перебивает он. – Воспаление легких – это же не причина смерти? Это диагноз. А причина должна быть более конкретной. Он задохнулся, да?
Сашке хочется взвыть. Главный страх Всеволода Алексеевича. Проблема, решения которой у Сашки нет. Объяснять бесполезно. Она до сих пор не знает, сколько раз его приступы доходили до серьезного удушья в той, прежней, жизни. В этой, новой, – ни разу. Сашка всегда успевала. Но и одного раза достаточно, чтобы в человеке поселился страх. А еще Сашка думает, как меняется с возрастом характер. Как судорожно цепляются за жизнь старики, в молодости рисковавшие ею легко и охотно. Цепляются, когда в их распоряжении лишь истаскавшаяся оболочка, доставляющая массу проблем. И не ценят здоровое сильное тело и саму возможность жить, когда впереди столько интересного. Иногда Сашке кажется, что рядом со Всеволодом Алексеевичем она сама стареет в разы быстрее. Сначала взрослела, глядя на него, раньше сверстников. Теперь стареет. Всё закономерно.
– Я не знаю, что с ним произошло, Всеволод Алексеевич. Подробностей не сообщают. Да и зачем? Пусть люди запомнят его песни, а не последний диагноз. Вы ведь много его песен спели?
– Немало. Саша, а что делают, если астматический статус не получается снять?
Опять двадцать пять. Она пытается с ним о творчестве, а он о болячках. Еще и дождь как назло, сейчас вытащить бы его на улицу, отвлечь. Какой он все-таки феноменальный эгоист. Ведь не об ушедшем товарище он сейчас думает. На себя все перевел и сидит, гоняет в голове старых добрых тараканов.
– Добавляют гормоны. Иногда адреналин вводят.
– А если и они не помогают, то прорезают в горле дырку и вставляют трубку? Этот… как его… дренаж? Это очень больно?
О, господи! Иногда Сашке хочется отобрать у него «волшебную говорилку», или хотя бы отключить в ней интернет. Это он у Алисы выяснил? Или какую-нибудь идиотскую передачу по телевизору посмотрел, где выжившая из ума бабушка, которой белый халат достался по недоразумению, пляшет в костюме матки, объясняя не менее идиотическим зрителям природу месячных?
– А если мне такую придется ставить, то как? У меня же не заживет из-за сахара…
Так, всё. Финиш. Сашка больше не может видеть этот расфокусированный, будто внутрь себя смотрящий взгляд. И то, как он перебирает пальцами по подоконнику. С ним уже несколько раз случалось подобное. Однажды после разговора с Зариной по телефону. Черт ее знает, что она ему сказала, Сашка принципиально вышла во двор, чтобы даже случайно не подслушать. Но потом он дня два вот так внутрь себя смотрел, на вопросы отвечал невпопад, медитировал на окошко и молчал. Другой раз на его день рождения. Первый день рождения не на сцене, не в Москве. Когда никто не позвонил. Оба раза закончились плохо – жестокими приступами астмы и скачками сахара. И сегодня Сашка не хочет повторения этого сценария.
– Ну-ка вставайте! – Она решительно подходит к нему и вопреки собственным принципам берет за плечи, понуждая подняться. – Вставайте, вставайте. Идите переодевайтесь, куртку потеплее наденьте.
– Зачем еще? – возмущается он. – Куда ты собралась? Дождь на улице.
– Ничего страшного, вы сами утверждали, что не сахарный. Пройдемся до почты, мне извещение пришло, надо посылку получить.
– А я тебе зачем? Не хочу я никуда идти в такую погоду.
– Посылка тяжелая, я не дотащу.
Запрещенный прием, да. Но он же у нас рыцарь?
– И к чему такая срочность? Завтра бы сходили, – ворчит он, но поднимается.
Сашка идет за ним по пятам. Пока он роется в шкафу, сообщает нейтральным тоном:
– У меня к вам огромная просьба, Всеволод Алексеевич. Не смотреть и не читать никаких околомедицинских ужасов. Вы знаете, что такое синдром третьекурсника?
Мотает головой.
– Это когда на третьем курсе у студентов меда начинаются профильные предметы и они разом обнаруживают у себя признаки всех болезней, которые изучают. К пятому курсу все проходит. Когда вы смотрите или читаете всякую ересь, вы оказываетесь на месте третьекурсника. Зачем оно вам надо? Спрашивайте у меня.
– Я и спрашиваю! А ты злишься!
– Господи, да я не на вас злюсь! А что вы ту синюю толстовку отложили? Наденьте ее, она чистая. И теплая. С белой курткой будет идеально. Так вот, я не на вас злюсь. А на тех, кто поселил в вашей голове столько тараканов. Ну какие еще трубки? С чего вдруг? Трахеостомия не имеет никакого отношения к астме. Проще говоря, если спазм в бронхах, нет никакого толка делать дырки в трахее. Шикарно смотритесь. И обувь непромокаемую. Вон те ботинки у вас самые крепкие, мне кажется. Всё, жених. Я пойду тоже переоденусь.
Вроде бы пришел в себя, стал реагировать на раздражители. Сашку все еще потряхивает. Ну в конце концов, она не на психотерапевта училась! У нее за плечами общий курс психиатрии, прослушанный вполуха как абсолютно ненужный и неинтересный. Как ей тогда казалось. В юности нам свойственно ошибаться.
На улицу Всеволод Алексеевич идет без особого энтузиазма, сырость ему не нравится. Но больше не ворчит. Галантно открывает над ними зонтик, один на двоих. Он намного выше, поэтому зонт сподручнее держать ему. Свой зонт Сашка найти не смогла.
– А что за посылка? К чему такая срочность?
– Сладости ваши пришли. Помните, мы на сайте выбирали?
– Что ж ты сразу не сказала?!