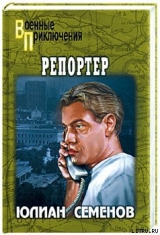
Текст книги "Репортер"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
VIII
Кузинцов Федор Фомич
«Неужели началось, а? – подумал он. – Да, видимо. Ну и что? Никто не гарантирован от судебных ошибок. Я не наследил ни в малости – Горенкова посадили в результате ревизии местных контролеров».
…Ужас надвигающихся перемен Кузинцов понял первым, когда еще в министерстве никто не почувствовал того зловещего, неприемлемого для служилых людей, что было сокрыто в понятиях «перестройка», «хозрасчет», «демократия», «гласность».
Он кожей ощутил, что эти – казалось бы, пропагандистские – термины на самом деле означают для него конец прекрасной полосы жизни, спокойной и надежной, когда все было выверено и заранее предопределено.
Любой визит министра союзной республики, приезжавшего два раза в год, чтобы пробивать фонды и корректировки к плану, сопровождался подарками, – кто хрустальную вазу вручит, кто ящик с вином, кто набор копченостей. Ни о какой взятке и речи не было, просто у нас исстари принято приезжать в первопрестольную с гостинцем, кто ж иначе посмеет завалиться в гости, разве нехристи одни, юркота. Замминистры из республик приезжали чаще, раза по три, а то и четыре, – тоже не с пустыми руками, не говоря уж о начальниках главков и трестов. Вопрос о санаториях в Прибалтике или на Кавказе для верных друзей и нужных контактов решался по телефонному звонку в республиканские министерства. В свою очередь нужные люди в долгу не оставались: будь то медицина, ширпотреб, парное мясо, соленая рыба, крабики там всякие, содействие детям приятелей при поступлении в институты, устройство своих людей в загранкомандировки. Причем все делалось чисто дружески, никаких там тебе такс, люди сами знают, что у нас в цене, чувством благодарности народ, слава богу, не обделен, с молоком матери всосал: не отблагодарить благодетеля – грех! Зимние сапожки или там какой завалящий японский двухкассетник в любом загранкооперативе для специалистов стоят сущую ерунду – отстали, ох отстали, чего греха таить, – а здесь нужны большие сотни, а откуда их взять, если отмусоливают двести рублей в месяц, будь ты хоть семи пядей во лбу.
…Кузинцов успел защитить докторскую за месяц до того, как в науке началась реформа: спасибо Чурину, тот организовал в ВАК письма строителей, поди не прислушайся к мнению рабочего класса, тем более диссертация была посвящена управленческой реформе. Впрочем, написал он ее двадцать лет назад, после провозглашения Косыгиным Щекинского эксперимента, но когда эксперимент задушили – не тот человек провозгласил, – пришлось положить работу в стол. Публиковал статьи и обзоры, набирал научный капитал, чаще всего выступал в областной прессе, в тех регионах, где разворачивались особенно грандиозные проекты. Потом, наблюдая за тем, как в стране начало шириться патриотическое движение по сохранению старины и уважительности к народной памяти – особенно во время подготовки площадок под новые комплексы, – почувствовал: вот оно! Надо срочно переориентировать диссертацию, дописать главу о необходимости координации строительных работ с историками, археологами, творческими союзами.
Будучи по природе своей холодным логиком, Кузинцов прежде всего думал о будущем, вопросы, связанные с тем, что ушло, его не волновали, однако он точно просчитал, что блок с носителями идеи уважительного отношения к отечественной истории выгоден ему. Идею поддерживают крупные ученые, художники, писатели, общественные деятели, такие люди нужны, в бизнесе не сведущи, доверчивы, – за ними как за каменной стеной.
Начал присматриваться к тем, кто стал во главе неформального общества по охране памяти «Старина». Остановился на доценте Тихомирове – человек достаточно странный, истеричен, но цепок и поворотлив, к тому же – трибун, умеет зажигать молодежь. Его поддержка – при благоприятной ситуации – может оказаться бесценной. Правда, Кузинцова несколько беспокоила национальная зашоренность доцента: он категорически отрицал опыт новой архитектуры, предложенный литовцами и армянами, считая нецелесообразным перенимать его: «Хватит, натерпелись с Корбюзье»; болезненно воспринимал работы Зураба Церетели в Москве: «Есть Грузия, пусть там и экспериментирует!» Кузинцов понимал, что русская интеллигенция наверняка одернет его. Видимо, если он и впредь не сможет контролировать себя, соблюдая рамки приличия, его рано или поздно переизберут, но Кузинцов твердо знал: надо ковать железо, пока горячо, пока в руках у человека сила. Решил покатить пробный шар, чтобы все стало на свои места: чему-чему, а этому чиновничья жизнь научила его отменно.
Уникальный Петровский штоф тяжелого цветного стекла и набор стаканов, сделанных по спецзаказу в экспериментальной мастерской министерства, Тихомиров принял легко, с детским восхищением: «Хоть и не люблю этого монарха, но отношу себя к числу тех, кто не вычеркивает персоналии из отечественной истории… Полагаю необходимым пропагандировать не только радищевское путешествие, но и встречное, пушкинское, из Москвы в Петербург… Да и Пуришкевича должно судить не только по его речам в Думе, но и по тому, что он сделал во имя России вместе с Юсуповым и великим князем Дмитрием, убрав Распутина… А уж коль скоро Герцен у нас в таком почете, то отчего замалчиваем Хомякова с Аксаковым? Однобокая информация – штука опасная, негоже преклоняться только перед домашними гегельянцами! Своих мыслителей, слава богу, немало, есть чем гордиться, и надобно еще поглядеть, кто на кого больше влиял – мы на Европу или она на нас».
Прочитав дописанную Кузинцовым главу, Тихомиров предложил включить несколько строк о деятельности секретаря МГК Лазаря Моисеевича Кагановича («Он же «Мойсеевич», наши тоже встречаются «Моисеевичи», обязательно поставьте «й», это необходимое уточнение – человек, лишенный чувства почвы, хасид»). Кузинцов заметил, что в таком случае надо писать и о Сталине с Молотовым, которые возглавляли ЦК и правительство. Тихомиров отмахнулся: «Они были игрушками в его руках, к тому же Молотов женился на Полине Соломоновне, сами понимаете, куда идет ветвь». Кузинцов включил несколько намекающих цитат из выступлений ряда историков архитектуры; на открытую конфронтацию не решился – неизвестно еще, куда пойдет дело.
Когда Тихомиров обмолвился, что негде дописать заказанную статью, дома шумно, приехали родственники, Кузинцов сразу же определил его в Прибалтику, в тихий дом отдыха. Система связей с нужными людьми продолжала функционировать, хотя пришлось попросить у доцента официальное ходатайство на бланке – раньше такие пустяки решались телефонным звонком, ничего не попишешь, дань времени. Все устроится, пару лет пройдет, пыль уляжется, вернемся на круги своя, только б сейчас удержаться, только б не дать порваться цепи, один за всех, все за одного, иначе нельзя…
Через месяц Тихомиров сказал, что его помощник, отменный специалист по русской керамике и фарфору Савенков, лишен сколько-нибудь серьезной производственной базы: «А ведь на нем лежит огромная ответственность – восстановить утраченные орнаменты, секреты рисунка, все то, что составляло гордость наших мастеров». Кузинцов сразу же предложил замкнуть Савенкова на экспериментальную мастерскую Гуревича в Москве, творят чудеса, прекрасная техника, только-только закупили в ФРГ.
Тихомиров покачал головой: «Доверчивая вы душа, Федор Фомич! Да разве можно отдавать восстановление нашего фарфора Гуревичу? Нет уж, лучше мы в Сибирь подадимся, есть люди, которые поддержат нас и словом и делом. Национальным искусством должен заниматься свой человек… Нет, нет, я лишен предрассудков, пусть себе Гуревич работает, но не надо ему входить в наше предприятие, пусть занимается современностью, если вы убеждены, что он делает это честно и во благо обществу».
Кузинцов ответил тогда, что есть база в Поволжье, стоить, правда, будет значительно дороже: и транспортные расходы, и размещение специалистов, и согласование пройдет труднее – местные власти весьма ревнивы к столичным вторжениям, – придется походить по коридорам администрации.
Тихомиров только рассмеялся: «Никаких хождений не будет, скажите, кто должен подписать бумагу и на чье имя… Кстати, как фамилия поволжского директора? Потапов? Хорошо. А как зовут жену? Ее девичья фамилия? Быкова? Годится. Я не шовинист и чту искусство всех народов – у кого оно исторически существовало, – но, согласитесь, смешно было бы, учи англичан театральному искусству русский режиссер!»
Кузинцов хотел было заметить, что англичане по сю пору учатся у Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова и Таирова, но понял, что делать этого не следует: порою лицо доцента – во время бесед о национальном – замирало, покрывалось мелкими старческими морщинками, глаза останавливались, делаясь какими-то водянистыми, прозрачными, словно наполнялись невыплаканными слезами. Собеседника в такие моменты Тихомиров не слышал, говорил с маниакальным устремлением, словно бы продолжая с кем-то давний спор, который никак не может закончить.
Бумагу, которую Кузинцов продиктовал Тихомирову, тот подписал во всех инстанциях за три дня, – немыслимое дело. Заметив нескрываемое удивление на лице собеседника, посмеялся:
– Милый Федор Фомич, это все не штука… Дайте время, развернемся так, что все барьеры сломим! Мы еще свою удаль не выказали миру, обождите – выкажем, громко выкажем…
Подписи на бумаге свидетельствовали: Тихомиров имеет такие выходы, о которых Кузинцову и не мечталось, хотя он, за долгие двадцать три года службы в своем маленьком кабинетике, обитом теплыми деревянными панелями, оброс связями со всеми министерствами.
И сейчас, анализируя беседу с Варравиным, он вдруг ясно понял, что потушить дело с Горенковым в зародыше может только один человек – доцент Тихомиров.
Выслушав просьбу Кузинцова о встрече, Тихомиров ответил, что днем будет занят, встреча с архитекторами, составление плана мероприятий «Старины» на летние месяцы, так что освободится не раньше семи, готов заглянуть. Кузинцов сказал, что в семь будет стоять у входа.
– Нет, нет, не надо, Федор Фомич! Я могу задержаться, а вы будете в вестибюле ждать, я себя стану чувствовать в высшей мере неловко, закажите пропуск, – боюсь ощущать себя связанным во времени.
…Кузинцов вышел на улицу, неторопливо прогулялся по городу, думая о том лишь, как бы не испугать Тихомирова. Если солгать в малости – доцент ощутит это своим внутренним локатором, а потеря такого контакта невосполнима. Упаси господь стать его врагом, – с его-то связями сомнет в момент, а человек он подвластный настроениям, интригабельный, женственная натура, от пылкой привязанности может мгновенно перейти к яростной неприязни. Но и обо всем с ним говорить нельзя, есть какие-то вещи, в которых и самому себе нельзя признаваться, иначе душу разъест ржавчиной, погибнешь от вечного неспокойствия. Не зря ведь раковые больные интуитивно отторгают самое возможность болезни. На Западе люди бездуховны, врачи там теперь открыто говорят пациенту, что у него рак, а ведь не каждому дано пережить такого рода стресс, не всякая правда угодна человеку, в этом с Горьким можно согласиться, действительно, некоторая правда разит наповал… Вот, Хрущев открыл правду на двадцатом съезде, ну и что? Сколько душ искалечил… Сделали Сталина богом, ну и оставаться б ему таким, все равно убиенных не воскресишь, да и надо ли? Наш человек без святой веры в авторитет верховного вождя жить не может, такова уж история, – куда ни крути! Нам нужны пряник, страх и кнут. Всяческие демократии не по нашу душу – жаль, об этом в открытую нельзя сказать, сразу книжку отберут, а куда без нее?! Учителем в ПТУ? Да еще и не примут, если сверху звонка не будет. Выпал из номенклатуры – поминай как звали, был человек – нету! А нынешние выборы руководителей? Разве мы готовы к этому? Надо постепенно, десятилетиями подводить наш народец к такому, а тут – раз, два, и – валяй! Страху нет, руки тянут вразнобой, вольница… Ивана Грозного помним, оттого что боялись, а кто отдаст должное Александру Второму – освободителю, подписавшему рескрипт о свободе крестьян? Да никто не помнит! Подняли бедолагу бомбой, порвали в куски, – демократии дыхнули! При Николае Первом не посмели б, декабристов так скрутил, что десятилетиями никто и пикнуть не смел, элита жила в радость, а мужику что надо? Хлеб имел, молочка перепадало, незачем всем навязывать то, к чему ты, достигший, допущен.
…Не отдавая себе отчета в том, что его потянуло в ЦУМ, Кузинцов тем не менее зашел в универмаг и, словно подталкиваемый кем-то, поднялся в отдел электротоваров, купил маленький самовар, вернулся в министерство, снял кофейник-экспрессо с маленького столика, а вместо него водрузил самовар, заменив при этом чашечки на хрустальные стаканы. Чай, по счастью, был у дежурного по коллегии индийский, от старых времен, когда были на прикрепленке к Елисеевскому.
…Тихомиров ни разу не перебил Кузинцова, слушал вбирающе, тех вопросов, которых так страшился Федор Фомич, не задал, от чая отказался – «грешным делом выпил бы чашку крепкого кофе, измотался за день, сил нет», потом сокрушенно покачал головой:
– Ладно, не печальтесь, вопрос решим, вы даже с лица спали… Завтра, кстати, помогите Виктору Никитичу Русанову еще раз покопаться в вашем архиве: надо тщательно посмотреть проекты, разработанные для заповедных мест России, и снять ксероксы с подписями тех, кто визировал и утверждал. Что же касается Каримова, то составьте на него обновленную справочку… Хочешь мира – готовься к войне… Наши арийские праотцы умели формулировать мысль емче, чем мы: издержки революционных сдвигов, плебс говорлив, аристократия – медальна.
Закрыв глаза – устал, лицо побледнело, – Тихомиров тихо, с горечью заключил:
– Хорошая фамилия Варравин… Что-то удалое в ней есть, широкое… Жаль парня, но если мешает, придется ломать, иного выхода в создавшейся ситуации нет, вы правы.
IX
Я, Иван Варравин
Редактор моего отдела Евгений Кашляев пришел в редакцию год назад, до этого руководил культурой в горкоме комсомола. В свое время он прославился тем, что пригнал бульдозер, который снес выставку абстрактных гениев. После этого Кашляев резко пошел в гору, из инструкторов сразу переместился в замзавы, начал кампанию против вокально-инструментальных ансамблей, – страшнее кошки зверя нет, в стране с мясом ни к черту, детям на Севере молоко по карточкам давали, а он заливался соловьем: «Уничтожим чужеземные влияния, наша культура не приемлет пугачевскую пошлятину и кривлянья Леонтьева с его джинсовыми самоцветами!» Кому-то его кампания нравилась: «Парень мыслит как патриот, чтит традиции, молодец». Кашляев разогнал самодеятельных джазистов, во Дворцах культуры выступали одни лишь танцовщицы в сарафанах и певцы в картузах – жалкое подражание высокому искусству хора Пятницкого, ни лада замечательного коллектива, ни настоящей фольклорной памяти, подделка. Понятно, на концерты гоняли пенсионеров, молодежь пряталась в подвалы, исподволь появились рокеры и панки – копирование американских рок-групп, но если те состоялись на том, что выступали против вьетнамской войны, то наши, ничегошеньки об этом не зная, выли и кричали, гнусавя так, что и слов-то понять нельзя. Тем не менее молодежь танцевала вместе с ними, улюлюкала, стонала от восторга. Тогда Кашляев отправился в пригород – туда, где раньше были деревеньки, снабжавшие московские рынки зеленью. Столица эти деревеньки поглотила, но дух перелопатить не смогла – ни пролетарский, ни крестьянский. Бизнес там делали старухи, копаясь в огородах, молодежь с земли бежала, не выгонишь на грядки. Поговорив с «юными пролетариями» из клуба культуристов, Кашляев привел их – одетых в белые рубашки, черные костюмы и аккуратные галстуки – на подвальные вечера рокеров: «Если милиция отказывается разогнать эту нечисть, сами наведем порядок». Началась драка, семерых увезли в больницы. Кашляева с грохотом сняли, но, поскольку он номенклатурный, ему не предложили устраиваться на работу, а перевели к нам в газету – на перевоспитание, у вас, мол, коллектив хороший, парень поймет свои ошибки.
Узнав об этом, мы отправились к главному. Тот, однако, ответил, что вопрос решен не им, обсуждению не подлежит: «В конце концов, от вас теперь зависит все. Климат таков, что мастодонтов мы не потерпим». Наш главный на переломном возрасте – сорок два года, в это время комсомольские работники ждут перемещения, очень ответственный момент, нельзя допустить ни малейшей ошибки, десятки глаз внимательно тебя изучают, резкие движения или, более того, необдуманные решения могут повлиять на всю дальнейшую жизнь. Терпенье – это гений.
Мы тем не менее потребовали общего собрания. У нас сильная коллегия, все из пишущих, пробивались сами, – никаких там пап или волосатых дядиных рук, рабочая косточка, только редактор иностранного отдела из профессорской семьи, потомственный интеллигент.
…Кашляев сидел возле окна, спиною к свету, но все равно были заметны синяки у него под глазами и отечная, нездоровая бледность. Мы высказали ему все, что о нем думаем: немотивированное запрещение рождает протест. Никто из нас не поклоняется абстрактной живописи, но делать из нее главную угрозу социализму – значит ни черта не понимать в реалиях сегодняшней жизни. Опасность – в другом: как только разрешили выставки авангардистов, они перестали быть борцами за свободу искусства. Нет ничего легче запрета, но никогда еще в истории запрет на то, что кому-то не нравится, к добру не приводил. Нам тоже не очень-то нравится визг рокеров, но не лучше ли предложить молодежи такие песни, танцы и развлечения – телевидение, кстати, ищет в этом направлении, – которые оставят рокеров в меньшинстве. А пока молодежи негде проводить время, пока ей не подсказали, как выпустить энергию (повтори какой взрослый движения детей, что носятся во дворе, – умрет от истощения, ученые просчитали это на ЭВМ), пока комсомол проводит свои помпезные слеты и митинги, но реально не помогает молодым найти себя, – мы не вправе уповать на конформистские запреты. Было время, когда милиция хватала тех, кто ходил в узких брюках, потом сажали за клеши, а чего добились? То, что молодежь набралась тюремного ума-разума? Словно сами подталкиваем их к тому, чтобы с понятием «власть» постоянно связывалось зловещее слово «нельзя». Как новый редактор отдела Кашляев может руководить нашей работой, если мы придерживаемся противоположных взглядов на происходящее в молодежной среде?
Главный на этом собрании не был, сказал, что не может не принять участия в коллоквиуме, проводимом Академией наук, взял туда одного из фоторепортеров и пообещал сам написать отчет – «будет интересно». Раньше на эти встречи ездил обозреватель из отдела науки. Ладно, пусть себе, но так взвешивать каждый шаг – с ума можно свернуть или инфаркт заработать.
Вел собрание наш первый заместитель Павел Гунько, его к нам перевели из Львова, парень моего возраста, тридцать один год, с хорошим пером; резок, когда дело касается правды, не терпит вихляний и околичностей.
– Давай, товарищ Кашляев, – сказал он, после того как все высказались. – От твоего ответа зависит исход дела. Коллектив теперь вправе поставить на голосование вопрос: можешь ли ты возглавлять отдел? И я не буду перечить в этом коллегам, несмотря на то, что ты утвержден бюро, – если уж гласность, то для всех…
– Я скажу несколько слов, – Кашляев поднялся, судорожно, как-то даже по-детски вздохнул и сжал кулаки так, что мне послышался хруст костяшек. – Я вот что хочу спросить товарищей: является ли сплетня, оговор, донос неизбежным, более того, необходимым спутником демократии и гласности? Думаю, ответ однозначен – нет, такого рода гнусь компрометирует тот процесс, который мы с вами так приветствуем, – перестройку, рождение нового гражданского мышления… Я хочу спросить также вот еще о чем: отменяет ли дальнейшее расширение демократии…
Гунько усмехнулся:
– Демократия – не брюки, ее нельзя расширять или сужать… Если есть, так есть, а нет – так и нету,
– Верно, – согласился Кашляев, – вы тут сидели на живом слове, вы бритвой режете, я так не умею, аппаратчик… Но все же я кончу формулировать мой вопрос, согласившись с твоей коррективой, товарищ Гунько: отменяет ли гласность необходимость комсомольской дисциплины и норм демократического централизма? Думаю, нет. Во всяком случае, я такого постановления не читал. Между тем не я был инициатором запрета ВИА, я лишь выполнял постановление бюро. Имел ли я право отказаться? Вы скажете: «Да, имел». Но тогда я и вас спрошу: «А вы, каждый из вас, отказались бы, очутившись на моем месте?» Почему вы печатали на страницах вашей газеты разгромные статьи – и против абстрактников, и против Леонтьева, и против рок-ансамблей?! Почему не отказались публиковать то, с чем не согласны? Кто может доказать, что я, именно я, пригнал бульдозер на выставку левой живописи? Вы там были? Читали документы, подписанные мною? Или слышали? Я не понимаю абстрактную живопись и не люблю ее – да, это так, я этого не скрывал, не скрываю и впредь скрывать не намерен, и когда вы захотите печатать статьи в поддержку этого, с позволенья сказать, направления, я буду требовать опубликования противной точки зрения. Да, я люблю Бетховена и Моцарта, да, я плачу, когда слушаю Чайковского, да, я воспитывался в Воронеже, и для меня «Летят утки» – самая нежная песня. Выступая против рок-ансамблей, я хотел привить молодежи любовь к непреходящему, вечному! Да, мне отвратительны «металлисты», доморощенные панки, увешанные цепями, но кто докажет, что я был поклонником «люберов»? Наверное, я виноват в том, что бездумно соглашался со всякими решениями, проштемпелеванными круглой печатью… Видимо, я слишком ретиво выполнял то, что надо было микшировать… Но сейчас все умны, все демократичны, все прогрессисты… Это легкая позиция – отшвырнуть ногою того, кто тебе почему-то неугоден, про кого что-то, где-то, кто-то не так говорит… Но как это вписывается в нормы демократии? Вот и все, что я хотел ответить. А просить я хочу о следующем: пусть будет создана комиссия, которая расследует мою работу в отделе культуры, пусть повстречаются с молодыми художниками-реалистами, с обществом молодых поэтов, со студией бального танца, с дизайнерами и модельерами… И еще… Наверное, процесс, происходящий нынче, потому и называется перестройкой, что он дает возможность всем и каждому – включая тех, кто раньше в чем-то добровольно заблуждался, – именно перестроить себя… Не репрессии, не тройки и особые совещания, не ссылки и травля на открытых собраниях, но именно атмосфера доброжелательности, товарищеской помощи, взаимовыручка, – вот что такое для меня пере… пере…
Кашляев побледнел еще больше, медленно опустился на подоконник и тяжело рванул воротник накрахмаленной рубашки. Девушки бросились к нему с водой, приехала неотложка, вкатили пару уколов, не до голосования… Впрочем, я не убежден, голосовал бы я против после его выступления – при всем том, что там было много чуждого мне, какие-то пункты опровергнуть было невозможно, особенно про то, что мы все тоже были хороши, чего уж грех таить…
После того собрания Кашляев бюллетень не взял, хотя врачи требовали, чтобы он провел в постели хотя бы неделю, приходил в редакцию первым, уходил последним, как-то алчно влезал во все дела, рукописи наши не правил, только высказывал соображения, какие у него возникали, – часто весьма дельные, он хорошо чувствует слово, относится к нему бережно, хотя выступает против излишней телеграфности стиля: «Мы все устали без воздуха».
– Отбей у главного лишние сто строк для нашего отдела, – сказал я ему, – тогда появится место для воздуха. Думаешь, мы его не ценим?
– Попробуем, – ответил Кашляев. – Но это надо решить не бюрократической бритвой в секретариате, а парой таких материалов, которые сделают нашу просьбу оправданной.
Один из таких материалов сделал я – удалось найти ветерана, награжденного орденом Красного Знамени на пятый день войны. Старик жил в сарае, исполком отказывал ему в жилплощади за то, что он якобы продал свою квартиру в городе, а он ее никому не продавал, прописал туда дочь, а та, по прошествии трех лет, турнула старика на улицу, – Шекспир потому и гениален, что писал сюжеты, которые непреходящи во времени, круто мыслил англичанин, нашим бы так литераторам, а то ведь все плачут и стенают, хоть бы один вышел с программным произведением, предложил возможный путь выхода из тупика, нет, все охи да вздохи.
Второй материал написал Кашляев. Честно говоря, написал неплохо, – задрал министра финансов за то, что тот до сих пор не издал единого разъяснения для тех, кто переходит на самофинансирование и самоокупаемость. Полнейшая неразбериха, а при нашем исконном рвении «тащить и не пущать» делу перестройки наносится громадный урон, промышленность топчется на месте, особенно строители. Его статью вывесили на красную доску, а Павел Гунько похвалил Кашляева на летучке.
И командировку в колонию, к Горенкову, пробил мне тот же Кашляев. Сначала хотели отправить нашего сибирского собкора, чтобы сэкономить на транспортных расходах, но Кашляев стеною встал на заседании редколлегии:
– Это тема Варравина, он и должен туда лететь, в конце концов, существует журналистская этика, давайте будем ей следовать не на словах, а на деле.
Напутствуя меня, Кашляев посоветовал:
– Если Горенков действительно получал такие бешеные премиальные, как ответили из местной прокуратуры, – бей наповал, гад и сутяга. Если же это не подтвердится, защищай до последнего…
Когда я вернулся из Загряжска, именно он договорился с главным о трехдневном отпуске, чтобы я мог толком отписаться. Как всегда, в три дня я не уложился, я вообще-то здорово разбрасываюсь, это моя беда: до этого я три месяца собирал материалы по Новосибирску, – там псевдоученые дурачат мозги студентам, прикрываясь святыми для каждого из нас понятиями о народной памяти. Полез в справочники и сразу же споткнулся о барьеры, потому что мне понадобились материалы о власовцах, министерстве пропаганды Геббельса, речах черносотенцев в Государственной думе. Пока главный написал ходатайство в институт военной истории, архив, пока все это стало обкатываться по нашим бюрократическим волокам, я увлекся сказочной темой – музыканты создали хор церковных песнопений на старославянском, молитвы шестнадцатого века, мороз дерет по коже, только у негров есть подобные «спиричвелс», скорбь и надежда, правда, если у негров солирует певец – особенно велик был Армстронг, – то у нас многоголосье, ощущение космической надмирности, прощание с суетной устремленностью землян.
Меня все ругают за то, что я разбрасываюсь, все, кроме матушки. Образцово-показательная мама, честное слово: «Никогда не делай то, что тебе в тягость. Твой отец говорил, что журналистика – это искусство, оно требует огромной отдачи и многия знания, что рождают многия печали… Отец тоже метался, всегда писал одновременно три, четыре статьи, одно подталкивает другое, все в мире взаимосвязано, отдельность закончилась, когда изобрели паровоз, это утопия – вернуть сказочное патриархальное прошлое, всегда надо осваиваться в новых условиях, думая, как их приспособить к себе, а не раствориться в них… Писатель, просто фиксирующий происходящее вокруг него, никогда не станет великим, надо навязывать окружающему свою мечту, а мечта всегда несет в себе добро». – «Гитлер тоже был бо-ольшим мечтателем…» – «Нет, Гитлер не был мечтателем, Ванечка. Он был маниаком, кликушей. На определенных этапах это угодно толпе, изверившейся в возможности найти выход из тупика добром, разумом, анализом… Тогда главное – найти врага, чужака, от которого все беды… Как ни странно, это очень объединяет середину, лишенную собственной точки зрения… Отец верно говорил: «От фашизма – чьим бы он ни был по национальной выраженности, – есть только одна панацея: культура, причем не казенная, школьная, а широкая, демократическая».
Кашляев прочитал мои наброски к материалу о Горенкове залпом:
– Но это же только часть, – задумчиво сказал он, – какое-то ощущение айсберга, много недоговоренностей, линия уходит в вопросительные знаки.
– Собираю информацию, – ответил я. – Чурин, этот замминистра, от меня прячется, пришлось базлать с Кузинцовым…
– А это кто такой?
– Помощник. Кашляев удивился:
– Не твой уровень. Чем тебе интересен помощник?
– Интересен… Доктор наук, кстати говоря..
– Как его зовут?
– Федор Фомич… А что?
– Да ничего, фамилия больно расхожая… Кстати, мне неясно, какое отношение ко всему этому делу имеет Каримов? Ты будь поаккуратней, все же пока еще он премьер-министр автономной республики, возможны национальные амбиции…
– По-твоему, критиковать надлежит только русских? Башкиры, евреи и литовцы – неприкасаемы? Какой же мы тогда интернационал?
– Я тоже так считал… Пока не нагрелся.
– На чем?
– Руководителем ансамбля «Ритм» был Юозас Якубайтис, начался визг, мол, шовинизм, и все такое прочее. Так что поаккуратнее с Каримовым, мой тебе совет… Есть Горенков, им и занимайся..
– Он – звено в цепи.
– Какой цепи? – Кашляев пожал плечами. – Не буди химеру всеобщей подозрительности.
– У меня факты. А как говорил наш великий кормчий, факты – упрямая вещь.
– Я не вижу фактов. Я вижу фрагменты.
– Правильно. Ты видишь кирпичи, готовые к кладке, но еще многого не хватает, и нет раствора… Я в поиске, забросил сети, на днях придут ответы – с именами, телефонами, ссылками на документы… Отобьешь мне еще пару дней свободы?
– Попробую. Но не обещаю: запарка в связи с конференцией, будет много работы… Мой тебе совет, – повторил он, – обозначь тему, повесим дело на прокуратуру, пусть они пишут развернутое объяснение, в конце концов, ты не частный детектив…
Кашляев все же отбил мне еще один день. Утро я провел у старика Маркаряна – он передал мне целое досье: «подарок от старика молодому волку, дерись, Ванюша, пока молод!» Когда мне исполнилось тридцать, я сидел у иллюминатора АН-24, выбив командировку на БАМ, в небе сочинил стихи: «Мне тридцать, мне тридцать, мне скоро шестьсот, минул мой последний молоденький год…» А что, правда, после тридцати все мы едем с ярмарки, Пушкин себя ощущал стариком, а сколько уже написал?! Писарев? Погиб в двадцать три… Добролюбов? До тридцати не дожил… А Лермонтов? Будь проклято мое разгильдяйство, не умеем мы работать, обломовы, маниловы, только б облегчить душу в застолье, сплошные соловьи… Вот они, издержки демократии: работай не работай, все равно зарплата капает, да и народ у нас добрый – сегодня я тебя накормлю, завтра ты меня, так всю жизнь можно просвистеть, никакого страха за завтрашний день.








