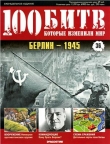Текст книги "Приказано выжить"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
13. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ – III
(Снова ОСС)
…Полковник советской разведки чекист Максим Максимович Исаев был отправлен Центром из Берна в Берлин и потому еще, что Москве стало известно о весьма странном поведении союзников по отношению к ведущим физикам Европы.
Аккуратные допросы, проводимые американскими исследователями, направленными на работу в органы разведки США, вызвали определенное недоумение у тех ученых Франции, которые занимались изучением возможности создания нового оружия, построенного на принципе расщепления ядра атома.
Жолио Кюри опрашивали активнее всех других; относясь к англо-американцам как к боевым союзникам по антигитлеровской коалиции, выдающийся ученый охотно обсудил все вопросы, но потом, вполне естественно, начал ставить свои; американцы, однако, отвечали гробовым молчанием.
– Это неэтично, – заметил тогда Жолио Кюри. – Разговор приобретает форму допроса. Но я француз, член антигитлеровской коалиции друзей, а не пленный враг. Как француз, как патриот своей страны, я не могу допустить того, чтобы моя родина плелась в хвосте научного прогресса. Если вы не объясните причину вашего интереса к нашим работам, то станет очевидно, что вы делаете свой проект, но не хотите работать вместе с нами. Следовательно, вы намерены помешать Франции занять место, подобающее ее значению в мире. Что ж, тогда Франции не останется ничего другого, кроме того как ориентироваться в своих исследованиях на Россию. Генерал де Голль разделяет точку зрения моих коллег и мою.
Вопросы, связанные с «атомным проектом», американцы никак не обсуждали с Москвою, это была тайна за семью печатями; трудно было сказать, кого больше боялись в Америке: немецкого противника или советского союзника.
Это, понятно, не могло не настораживать Кремль.
Но еще большую озабоченность Москвы вызвали загадочные операции американской разведки в Германии, когда специальные группы генерала Гровса начали диктовать штабам армии и авиации направления главных ударов; не надо быть физиком, чтобы догадаться, к чему шло дело; Германия разваливалась; против кого же тогда готовилось оружие нового качества?
…Вильям Донован, вернувшись домой после ужина с Дэвидом Лэнсом, когда тот выдвинул дерзкий план припугнуть Москву, позволив уйти туда информации о работе над проектом нового оружия, довольно долго обсуждал с самим собою все выгоды и проигрыши, прими он предложение друга.
Да, рассуждал Донован, действительно, если помочь русской секретной службе узнать нечто большее по сравнению с тем, что она наверняка знает, это может вызвать серьезное охлаждение между Рузвельтом и Сталиным. Всякое столкновение Кремля и Белого дома служит той концепции будущего, которую представлял Донован и его единомышленники. Однако Рузвельт человек парадоксальный, как, впрочем, и Сталин. Донован отдавал себе отчет в том, что Сталин мог задать вопрос об атомном проекте: «Зачем? С какой целью? Против кого? С какой поры?» И Рузвельт, предполагал Донован, мог дать ответ. Естественно, окружение нашло бы весьма обтекаемые фразы; понятно, руководитель атомного проекта генерал Гровс подключил бы к этому всех своих могучих покровителей, начиная с начальника генерального штаба Маршалла и кончая главнокомандующим Эйзенхауэром; естественно, группа миллиардера Дюпона, вложившая в атомное предприятие большую часть капиталов, нашла бы возможность оказать нужный нажим на людей, близких к Белому дому, но явление, которого до сегодняшнего дня не существовало, оказалось бы обозначенным, то есть сделалось бы реальностью, но не тайной.
Донован знал, что генерал Гровс впервые перебросил своих разведчиков и ученых с первыми частями американской армии, когда те еще только вторглись в Сицилию. Он знал, что Гровс вывез многих итальянских физиков в Штаты, поселил их за забор и подверг тщательному допросу. Он знал, что люди генерала Гровса чуть что не первыми вошли в Париж. Он знал, что с конца февраля подразделения генерала Гровса начали шерстить Германию в охоте за немецкими физиками, за их архивами и библиотеками, за складами урановой руды и хранилищами «тяжелой воды».
Агентура Донована, внедренная в аппарат разведки Гровса, сообщала директору ОСС, что более всего последние недели руководителей атомного проекта волновала судьба тех нацистских заводов, связанных с добычей урана и «тяжелой воды», которые находились на той части Германии, которая должна была отойти русским.
Донован отдал должное смелости и пробивной силе генерала Гровса, когда тот провел блистательную по дерзости операцию против завода «Ауэргезельшафт» в Ораниенбурге, который должен был перейти к русским. Именно там велись самые интенсивные исследования в сфере атомной физики, именно там добывался уран и торий, именно поэтому Гровс обратился к главнокомандующему стратегической авиации США и вместе с его разведчиками разработал любопытную комбинацию: чтобы усыпить бдительность русских, в один и тот же день, в один и тот же час две волны бомбардировщиков нанесли яростные удары по двум объектам: налету подвергся штаб вермахта, Цоссен, возле Потсдама, и завод «Ауэргезельшафт». Удар по Цоссену был отвлекающим, «успокоительным» для русского союзника; зато шестьсот «летающих крепостей» смели с лица земли все заводские корпуса в Ораниенбурге, русским достанутся руины – это было главное.
Главком авиации Спаатс особо тщательно планировал этот налет потому еще, что поступило приказание генерала Маршалла: «Просьбу Гровса необходимо выполнить немедленно». А на письме стоял гриф: «Тому, кого это касается».
…В марте сорок пятого отряд Гровса, десантированный в Германию, окружил Гейдельберг и захватил группу ведущих немецких физиков во главе с Рихардом Куном; затем были захвачены Отто Ган и Вальтер Боте.
Во время допросов Боте сказал, что его научная библиотека по атомной физике, самая уникальная в мире, находится в соляных штольнях Саксонии.
Люди Гровса кинулись к картам: русские части находились в трех километрах от этого места. В шифровке, отправленной в Вашингтон, разведчики Гровса потребовали немедленно бросить десант в тот район.
Гровс вошел с ходатайством, генерал Джордж Маршалл поддержал его предложение; государственный департамент отклонил, сославшись на то, что Сталин не простит столь откровенно недружественного акта: возможны серьезные политические осложнения.
Гровс остервенел от гнева:
– Но поймите же, мы решим все политические осложнения в тысячу раз проще, если атомный проект обретет реальность! Когда в наших руках будет штука, Кремль не посмеет спорить с нами! В конце концов, только сила определяет устойчивость политики!
– Вот когда у вас будет штука, – ответили ему, – тогда и можно будет по-новому оценивать политические вероятия; в настоящий момент мы должны жить по законам пороховой дипломатии, а не атомной.
(Пока шла перепалка в Вашингтоне, русские заняли тот район, где хранилась библиотека Боте и Куна; Гровс неистовствовал.)
Донован отдал должное смелости Гровса, когда тот сделал нужный вывод после стычки с государственным департаментом. Он знал, что Гровс посетил военного министра Стимсона и сказал ему:
– Основные центры германских предприятий, связанных с атомными исследованиями, находятся в районах Штутгарта, Ульма и Фрайбурга. Все эти города отходят – согласно Ялтинской декларации – французам. Я не верю французам, они традиционно близки к России. Если мы не захватим эти районы первыми, высшим интересам Штатов будет нанесен ущерб, непоправимый ущерб.
– Предложения? – сухо поинтересовался министр.
– Мы обязаны захватить эти города, вывезти немецких ученых, библиотеки, архивы, руду, «тяжелую воду» и уничтожить все лаборатории и заводские постройки.
– Полагаете, государственный департамент пойдет на то, чтобы вконец испортить отношения с де Голлем?
– Убежден, что не пойдет. Те джентльмены, с которыми я обсуждал необходимость нашего десанта в русскую зону, долго объясняли мне, что дипломатия – наука реализации малейших возможностей. Я терпеливо их выслушал и пришел к выводу, что дипломатами у нас работают люди с искалеченной психикой, их тянет в разведку, но они попали в паутину, и им не остается ничего другого, кроме как жужжать и перебирать лапками…
– Очень похоже, – хмуро усмехнулся Стимсон. – Не обращайтесь к ним более. Договоритесь с Маршаллом о захвате городов, которые, должны отойти французам.
– Возможен скандал…
– Вам не привыкать.
– Это верно. Я готов и поскандалить, потому что французы наверняка поделятся новостями с красными, а ради того, чтобы этого не случилось, я готов не только скандалить, но и воевать.
Гровс закодировал эту операцию, как «Убежище», и срочно отправил своих помощников в Европу, к начальнику штаба Эйзенхауэра генералу Беделу Смиту. Было принято решение бросить американские войска наперерез французам, оттереть их, задержать и не позволить войти туда, куда они должны были войти в соответствии с тем документом, который подписал в Ялте президент США.
…Донован – в тот вечер, когда он расстался с Дэйвом Лэнсом, – так и не решил, как ему следует поступить.
Мысль все время вертелась вокруг того, чтобы проинформировать – в определенной, впрочем, мере – Аллена Даллеса; тот найдет возможность запустить слух, который немедленно дойдет до Кремля.
«А как Рузвельт? – в который раз задавал себе вопрос Донован. – Что, если он пойдет на откровенность со Сталиным? Как быть тогда? Неужели Дэйв прав, и у нас только один выход, кардинальный, хирургический? Неужели политика исповедует жестокость как главный инструмент в достижении того, о чем мечтаешь? Неужели компромисс невозможен?»
И Донован ответил себе ясно и недвусмысленно: нет, с Рузвельтом компромисс действительно невозможен, он идеалист, он, словно дитя, верит в возможность решить все добром, и это дитя будет – по закону Соединенных Штатов – еще четыре года убеждать, примирять, взывать к разуму, вместо того чтобы стукнуть кулаком по столу и ощериться.
«Гувер, – сказал наконец себе Донован. – Мне нужен Гувер. Я не знаю еще, как я построю с ним беседу, я не чувствую ее тона, но мне ясно, что я должен его спросить: „Джон, что вы станете делать, когда президент порекомендует вам в заместители члена американской коммунистической партии?“
Донован знал Гувера, он отдавал себе отчет в том, какой будет реакция его «брата-врага»; надо только решиться и сказать себе со всей определенностью: «Рузвельт приведет нас не столько к победе над Гитлером, сколько к капитуляции перед Москвой».
14. И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ КАНАЛОМ ДЕЗИНФОРМАЦИИ НАДО УМЕТЬ ДОРОЖИТЬ…
Мюллер сокрушенно покачал головой, когда Штирлиц вошел к нему, потом недоумевающе, холодно усмехнулся:
– Ну и чего вы добились, в который уже раз облапошив бедного Ганса? Сколько ночей вы не ночуете дома? Три? Пять? И что? Нашли клад в миллион марок? Получили венесуэльский паспорт, с которым вас пустят в любую страну мира, без пограничной проверки?
Штирлиц вздохнул, полез за сигаретами:
– У меня есть предложение, группенфюрер…
– Валяйте…
Снова, в третий уже раз, тонко и ужасно заныли сирены воздушной тревоги.
Мюллер спросил:
– Пойдем в подвал?
– Как вы? Я на это не реагирую.
– Только дураки лишены страха, а вы не дурак.
– Фаталист… А это одно и то же…
– Значит, остаемся. Ну, так каково же ваше предложение?
– Посадите меня в ту камеру, где я уже сидел, там будет моя квартира. С утра я стану выходить на работу, а вечером возвращаться за решетку. Только проведите это решение по вашему ведомству, чтобы после ареста красными или американцами мне это зачлось.
– Рассчитываете дожить? – спросил Мюллер. – Ну-ну…
…Несколько раз Мюллер останавливал себя, когда с языка был готов сорваться вопрос: чего следует ждать, если он, Мюллер, станет помогать Штирлицу в его работе на русскую секретную службу? Ему было нелегко удержать себя от этого, потому что внутри постоянно ворочалось ощущение упущенного времени; он чувствовал, как оно сыпалось, словно в песочных часах; если бы Гёте ощущал их, понял их неотвратимую жестокость, никогда бы не написал свою фразу: «Остановись, мгновенье!» Она ведь воистину страшна, ибо рождает иллюзию возможного, а время остановить нельзя, это кажущееся возможное, а нет ничего ужаснее кажущегося. Мюллер хотел было тщательно изучить личное дело Штирлица, чтобы понять, когда случился его первый контакт с русскими, на чем, на каком эпизоде они взяли его, но оказалось, что те города, где тот начинал свою работу, оккупированы американцами; партийные документы штандартенфюрера хранились в ведомстве партайгеноссе Боле, отвечавшего за заграничные организации НСДАП, ибо Штирлиц примкнул к движению в Америке; перебирать бумажки здесь, в архиве на Принцальбрехтштрассе, нет смысла, мало что дадут: «выдержан, ариец, отмечен…» – шелуха, а не данные…
Мюллер отдавал себе отчет в том, что, задай он вопрос Штирлицу о его связях с русскими, потребуй гарантий от Москвы взамен работы в их пользу, ответ из их Центра придет отрицательный… Наверняка отрицательный; может быть, гарантируют жизнь, но разве существование в тюремной камере до конца дней своих – это жизнь? Нет, гарантия нормальной жизни заключена лишь в политическом решении вопроса: Гиммлер и Шелленберг ведут переговоры с Западом; если им удастся заключить сепаратный мир, то он, Мюллер, обеспечен местом под солнцем или же возможностью спокойно уйти к нейтралам; доверенность на счета СС в банках у него есть не на одно имя, а на девять; также семь паспортов постоянно лежат в сейфе. В случае неудачи Гиммлера в операцию «Жизнь» входит Борман: он обращается к Сталину, подтверждая это силой ста отборных дивизий, сконцентрированных на берлинском направлении; если их развернуть на запад, то – вместе с русскими, а можно и без них – они так ударят англо-американцев, что те слетят в океан через пару-тройку недель. Борману трудно: он должен сделать так, чтобы фюрер остался в Берлине, а не передислоцировался в Альпийский редут, во-первых; ему надо сделать так, чтобы фюрер передал власть ему, Борману, а не Герингу, как это утверждено решением партии в сорок первом году, во-вторых; ему, в-третьих, надлежит в самые ближайшие дни свалить начальника генерального штаба Гудериана и вместо него привести к власти генерала Кребса, знакомого русским. А он, Мюллер, должен вести круговую оборону, чтобы эта задумка осуществилась. Поэтому он обязан подготовить Борману – не далее как к послезавтрашнему дню – компрометирующие материалы на Гудериана и Гелена – «пессимисты», «лишены веры в великий дух нации, преданной до последней капли крови фюреру»; поэтому он не имеет права задать Штирлицу тот вопрос, который вот-вот готов был слететь с языка о гарантиях его, Мюллера, неприкосновенности, в случае если он начнет оказывать услуги Москве; поэтому он обязан играть с каналом по имени Штирлиц, превратив его в надежный элемент битвы за себя, пугая – через него – Москву, заставляя русских – путем этой игры – думать о том, что не сегодня завтра будет подписан сепаратный мир с Западом и тогда еще семьдесят дивизий откатятся на восток, и примут сражение под Берлином, и выиграют его, и это может оказаться таким шоком для красных, измученных четырьмя годами войны, что последствия трудно предугадать. Интересную идею подбросил Шелленберг: его остатки сообщили из Лондона, что между Кремлем и Западом возникли серьезные трения по поводу Польши; у него, у Мюллера, есть агент, внедренный в окружение польского правительства в Лондоне, связь постоянна, осуществляется через человека из испанского консульства, купленного людьми гестапо за пять картин Веласкеса, вывезенных из Гааги и Харькова; информация для агента ушла позавчера, значит, сегодня или завтра следует ждать нажима лондонских поляков на окружение Черчилля. Вести массированное наступление, не будучи уверенным в прочности коммуникаций, – дело трудное и рискованное.
Да, он, Мюллер, не имеет права задавать Штирлицу ни одного вопроса, который по-настоящему насторожит штандартенфюрера – особенно сейчас, когда можно читать все его телеграммы; дай-то бог, чтобы сообщения из его Центра шифровались тем же кодом, каким работает и он, но, в конечном счете, зная его тексты, значительно легче работать по расшифровке указаний и запросов Москвы; и совершенно не важно, кто его ведет – ЧК или разведка Красной Армии.
Он, Штирлиц, – бесценный объект игры, им надо дорожить. Один неверный шаг – и будет нанесен непоправимый удар по его, Мюллера, жизни.
– Ну рассказывайте, зачем вам надо было обманывать моего наивного, доброго Ганса? Чего вы добились, усыпив его нервическую бдительность?
– Я не умею жить, когда на меня смотрят в глазок, группенфюрер… Я начинаю говорить не то, что думаю, делаю глупости. Если бы, начав работу с Дагмар Фрайтаг, я знал, что ваш Ганс сидит, скукожившись, в машине, я бы ничего не смог…
– Пригласили бы и его к ней… Что, там нет второй комнаты?
Штирлиц засмеялся:
– Тогда бы я не смог работать…
– Что она из себя представляет?
– Вы никогда не видели ее?
– На фотографии она очень мила, – ответил полуправдой Мюллер, и Штирлиц сразу же отметил, как ловко и точно он ответил.
– В жизни – лучше, – сказал Штирлиц, просчитав, что ему не следует добиваться от Мюллера однозначных ответов – знает ли он женщину или нет; она описала ему Мюллера, а он сказал ему, что начал с нею работу, значит, вполне мог добиться от нее признания в том, кто ее напутствовал на дело в Швеции; порою надо бежать от правды, ибо лишнее подтверждение знания лишь помешает делу.
– Когда вы ее перебрасываете?
– Хоть завтра.
– В интересах мобильности операции снабдите ее деньгами… Я знаю из ее дела, что она водит машину… Пусть купит в Швеции автомобиль и ездит к вам на встречи в Копенгаген или Фленсбург. Лучше бы во Фленсбург, оттуда есть прямая связь с моим кабинетом, в датчан я не верю, там сейчас вовсю развернулись англичане, а они в технике – доки, поставят еще где-нибудь свою звукозапись… Если б докладывали Черчиллю, а то ведь по субординации: от капрала к лейтенанту, а каждый лейтенант мечтает стать капитаном, потащит информацию не к тому майору, к кому нужно, – и насмарку наша задумка.
Мюллер ждал, что Штирлиц возразит, и ему было что возразить: женщине трудно гонять шестьсот километров по сложной дороге от парома до Стокгольма; он, Штирлиц, мастерский водитель, он сжился с машиной, он может за сутки управиться туда и обратно; однако же Штирлиц возражать не стал, даже наоборот.
– Я очень боялся, – сказал он, – что вы заставите меня таскаться по Швеции два раза в неделю, силы на исходе…
– А вы говорите, я не ценю вас… Я ценю вас очень, пусть ездит шведская немка или, точнее, немецкая шведка, одно удовольствие покататься по стране, где вдоль трассы открыты ресторанчики, дают хорошее мясо и не надо брякаться в кювет при налетах русских штурмовиков… Но в Швейцарию с этим вашим евреем придется пару раз съездить, я не могу поручить с ним связь никому другому – ни я, ни Шелленберг, вы понимаете… Не возражайте, туда ездить значительно ближе, назначьте ему встречи в Базеле… Ну, а что вы мне скажете по поводу того, о чем мы беседовали после филармонии?
– Мне кажется, – ответил Штирлиц, – что ответить на те вопросы, которых вы коснулись, невозможно.
– Почему?
– Потому что Шелленберг с вами неискренен. Он ведет свою партию, вы не посвящены во все тонкости, он любимчик Гиммлера, он может себе позволить обходить вас. Но мне сдается, что, выполняя его поручение, мы, тем не менее, имеем шанс приблизиться к разгадке его тайны. Видимо, он использует меня, как подсадную утку, он позволяет целиться в меня как стрелкам из ОСС, так и охотникам НКВД… Мне кажется, если Дагмар и Рубенау станут моими друзьями и начнут работу по первому классу, многое прояснится… Вы были правы, мой вопрос Шелленбергу обо всем этом бесстыдстве означал бы бессмысленную гибель в его кабинете. А уж если суждено погибнуть, то хотя бы надо знать, во имя чего…
– Во имя жизни, – буркнул Мюллер и повторил: – Так что отрабатывайте обе линии – и эту самую шведку, и Рубенау в Швейцарии. И подключите там своего пастора. Почему-то я очень верю в то, что именно в Швейцарии вы подойдете ближе всего к разгадке этого дела…
«Я был убежден, – подумал Штирлиц, – что он закроет для меня и Швейцарию… Может, я паникую? Если бы он меня подозревал, то ни о какой Швейцарии не могло быть и речи, какая разница, Швеция или Швейцария? Впрочем, из Швеции ближе до дому – через Финляндию, там наши. Ну и что? А из Женевы пять часов езды до Парижа… Фу, я тупею, право! Ведь и в Стокгольме, и в Берне есть советские посольства, в конце концов!»
Мюллер посмотрел на часы, поднялся из-за стола, подошел к аквариуму:
– Рыбки еще более пунктуальны, чем люди, Штирлиц; мне следовало стать ихтиологом, а не полицейским… Если бы у родителей были деньги, чтобы отдать меня в университет, я бы стал ученым… Ну а как вам Рубенау?
– Вы уже прослушали мою с ним работу?
Мюллер бросил корм своим рыбкам, мягко улыбнулся самой шустрой из них – диковинной, пучеглазой – и ответил:
– Нет еще. Мы вчера отправили на Зееловские высоты батальон наших мальчиков, поэтому все службы стали работать минут на пятнадцать медленнее… Наверное, сейчас принесут… Но вы мне сами расскажите, вы работаете прекрасно, я внимательно изучал ваш диалог с русской радисткой, высший класс!
– Вы записываете всех, кто работает с арестованными?
– Что вы… Единицы… Выборочно…
– Среди кого выбираете?
– Среди самых умных, Штирлиц… А что, если этот еврей убежит от вас в Швейцарии?
– Мы держим его жену и детей – он никуда не убежит. Пусть ваши люди запросят на Вильгельмштрассе сертификаты на выезд детей и сделают новый паспорт на его жену…
– Вы хотите их выпустить?
– Я хочу, чтобы он верил мне. Я пообещал отъезд его семьи по частям в зависимости от стадий выполнения им нашей работы.
– А если он придет в Берн к русским, расскажет им свою историю, предложит услуги и попросит помочь с семьей?
– Ну и как они ему помогут? Напишут вам записку? Пришлют ноту рейхсминистру Риббентропу?
Мюллер усмехнулся:
– Вы с ним будете продолжать работу в камере? Или предпочитаете конспиративную квартиру?
– У вас, видимо, сейчас трудно с такого рода квартирами – где к тому же хорошо кормят.
– Не обижайте гестапо-Мюллера, дружище. Даже после того как сюда войдут завоеватели, у меня сохранится по меньшей мере десяток совершенно надежных берлог… А чего это вы стали спрашивать моих указаний? Поступайте сами, как знаете, в змействе я вам не советчик, сами, словно питон, весь из колец составлены…
– Я полагаю, что через тройку дней смогу вывезти его на границу… Думаю, что в Швейцарию мне сразу нет нужды ехать, пару дней он будет устанавливать контакты, подходить к союзникам и раввинам, к Музи, проводить зондаж…
– А я считаю, что вам обязательно надо быть с ним первые дни. Поговорите, конечно же, с Шелленбергом, но если хотите мое мнение, то извольте: бросать его нельзя, Эйхман не спускал с него глаз, когда брал с собою в Будапешт.
…Шелленберг пожал плечами:
– Я бы не стал бросать его одного… В первые часы возможна неуправляемая реакция… Он у нас насиделся, придет к американцам или – что самое страшное – к русским, все станет известно Москве, наша последняя надежда – псу под хвост.
(Мюллер сказал Шелленбергу лишь сотую часть правды; он сказал, что в Швейцарии у Штирлица были странные контакты с неустановленными людьми неарийской национальности; больше он ничего ему не открыл – слишком молод, не уследит за эмоциями, испугается: человек он трусливый, коли в своем кабинете держит стол, в который вмонтированы два пулемета помимо трех фотоаппаратов, звукозаписывающей аппаратуры и специального уловителя на принесенный посетителями динамит. Мюллер играл всеми вокруг себя, Шелленбергом в том числе. Он ни словом, понятно, не обмолвился бригадефюреру, что его главная задача состоит в том, чтобы Москва постоянно была в курсе его, Шелленберга, переговоров с Западом; именно это было основанием той комбинации, которую он проводил сейчас, взяв в долю Бормана. Он понимал, что Борман, наоборот, считает его, Мюллера, у себя в доле. Он допускал, что и Шелленберг убежден, что он, Мюллер, счастлив, оттого что мы отныне вместе. «Дурашка. Я ж играю тебя, ты вообще сидишь за моим ломберным столиком в качестве болванчика, которому насовали крапленых карт. Считай, что хочешь, Шелленберг. Пусть. На здоровье. По-настоящему считаются после того, как сработали дело, а не до – так мне говорили клиенты из мира бандитов в Мюнхене, когда я был счастливым и беззаботным инспектором криминальной полиции. Борман поступил благородно, он дал мне семь счетов в банках, остальные у меня открыты по своим каналам; уходить сейчас пока еще невозможно; ради того чтобы найти изменника – а я им стану, – Гиммлер снимет с фронта дивизию, ему плевать на фронт, лишь бы вернуть меня, поскольку я знаю все; во-вторых, свои же предадут меня, переправив все данные обо мне союзникам и нейтралам: «Он сбежал, а мне погибать?!» Зависть правит миром, черная, маленькая, кусачая зависть. Нет, исчезать можно только во время артиллерийской канонады, когда окончательно рухнет то, на чем состоялась эта государственность, – порядок, фанатизм и страх».)
– Кто будет осуществлять связь с Фрайтаг? Мюллер сказал, чтобы я контактировал с нею в Копенгагене… Или Фленсбурге…
– Она готова к отъезду?
– Да.
– Договоритесь, что через пять-шесть дней вы будете ждать ее во Фленсбурге… Текущую информацию лучше передавать из нашего посольства, у нее залегендирован контакт: обмен между университетами на государственном уровне и все такое прочее… Да и потом у них сейчас тоже неразбериха: все ждут нашего крушения, весь мир ждет, но многие стали этого бояться, поверьте… Шведы ей не будут мешать… Тем более она едет ни к кому-нибудь, а к Бернадоту, и не в русское будет заходить посольство – в германское…
Провожая Штирлица к двери, Шелленберг – как в былые времена – взял его под руку и мягко спросил:
– А если вдруг Мюллер отправит своего человека к русским и предложит им мою голову, шею рейхсфюрера, Кальтенбруннера, вашу, наконец, как думаете, они пойдут с ним на контакт?
– Думаю, что нет, – ответил Штирлиц без паузы, очень ровным, спокойным голосом, словно бы размышляя сам с собою. – Вы им были бы куда как более интересны.
– Я знаю. Но я туда никого не пошлю, я – европеец, а Мюллер из баварской деревни, причем мать, я слыхал, пруссачка, он это скрывает, оттого что все пруссаки в чем-то немного русские… Значит, думаете, удара в спину с его стороны ждать пока не приходится?
Штирлиц пожал плечами:
– Черт его знает… Думаю, все же – нет… Вы просили меня в прошлый раз сказать вам, что я пущу себе пулю в лоб, если кандидат Эйхмана предаст нас в Швейцарии, и что только после этого вы по-настоящему объясните мне суть предстоящего дела… Я готов сказать, что ручаюсь за Рубенау…
– Я хочу попробовать фронтально разложить еврейскую карту, Штирлиц… Я решил поторговать евреями в наших концлагерях, а взамен намерен потребовать на Западе гарантий для нас с вами и мир для немцев. Но чтобы Кальтенбруннер или Борман не начали очередной раунд борьбы против нас, несмотря на перемирие, заключенное мною с Мюллером, я поставлю перед ними и второе, легко выполнимое условие: не только раввины, но каждый еврей должен быть выкуплен. Стоимость рассчитывается в лошадиных силах моторов и литрах горючего; словом, я даю машины армии, мы помогаем фронту, цель оправдывает средства, камуфляж патриотизмом должен быть значительно более надежен, чем в Берне… Единственно, кого я сейчас боюсь, – это Москву; только Кремль может сломать наше дело, если снова надавит на союзников…
– Думаете, они все-таки надавили?
– Еще как, – ответил Шелленберг. – Сведения не липовые, а самые надежные, из Лондона… Ладно, теперь вы знаете все. Я жду, когда вы – после работы Рубенау – доложите мне из Швейцарии: экс-президент Музи готов на встречу со мною и Гиммлером там-то и там-то. Первое. После работы с Фрайтаг вы сообщите: Бернадот готов выехать из Стокгольма в рейх тогда-то и тогда-то. Это второе. Все. Желаю удачи.
– Спасибо за пожелание, но это далеко не все, бригадефюрер. Через кого Рубенау подойдет к экс-президенту Музи? Он что, позвонит ему и скажет, что, мол, добрый вечер, господин экс-президент, здесь Вальтер Рубенау, у меня есть идея освободить евреев из лап кровавых нацистов, только передайте мне за них пару сотен хороших грузовиков с бензином?
Шелленберг рассмеялся весело и заразительно, как в былые дни.
– Слушайте, Штирлиц, вы юморист, вы умеете так грустно шутить, что не остается ничего другого, кроме как от души посмеяться… Спасибо вам, милый, словно принял хорошую углеродную ванну в Карлсбаде… Нет, конечно, Рубенау не должен звонить к Музи, его с ним просто-напросто не соединят; приставка «экс» – пустое, важен смысл – «президент»; у Музи по сю пору государственный статус – швейцарцы чтят тех, кто возглавлял их конфедерацию. К Музи позвонит наш с вами Шлаг и попросит принять представителя подпольного движения, с которым вышли на связь здравомыслящие силы из числа зеленых СС и политической разведки; есть возможность спасти несчастных; Рубенау до этого должен посетить раввина Монтрё и сказать ему, сколько потребуется денег, чтобы спасти людей. Он поначалу назовет не очень-то крупную сумму – пять миллионов франков. Раввин, однако, откажет ему; думаю, он согласится на пару миллионов, поставив условием освобождение определенной когорты узников. Думаю, он не будет заинтересован в освобождении философов, экономистов, историков еврейской национальности – раввины не любят конкурентов, да и потом многие евреи в науке тяготеют к марксизму… Я думаю, раввинат – в глубине души – заинтересован, чтобы мы задушили еврейских интеллектуалов: с ними хлопотно… Знаете, кто лучше всего понял Маркса? Не знаете. Бисмарк. Он сказал: «С этим бухгалтером Европа еще наплачется»… Что же касается Дагмар…
Штирлиц перебил; он понял, что Шелленберг где-то в самой своей глубине окончательно сломан, ему сейчас угодно равенство, в нем он обретает хоть какую-то надежду на будущее:
– Дагмар – ваш человек? Или Мюллера?
– Она – ваш человек, Штирлиц. Не надо играть роль правдоискателя. Они все – истерики. Правдолюбцы чаще всего рождаются среди угнетенных народов. Свободные люди не ищут правду, но утверждают самих себя; личность – высшая правда бытия.
– Браво! Отправьте эту тираду, написав ее на пишущей машинке, конфискованной у коммунистов, лично фюреру.
– Вы сошли с ума? – деловито осведомился Шелленберг.