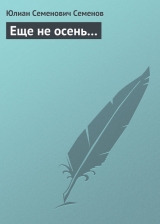
Текст книги "Еще не осень…"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Юлиан Семенович Семенов
Еще не осень…
1
Лес был сизый. Стволы сосен казались черными, оттого что ночью прошел дождь. Небо было низким; оно начиналось от самых корневищ деревьев и пробивалось сквозь чащобу острыми солнечными высверками.
В лесу было тихо. Только слышалось, как изредка тяжело переваливалось близкое море и вода шершавила по серой гальке, пенно исчезая в ней, и снова наступала тишина, становившаяся гнетущей, когда кричали чайки…
Серебровский боялся пошевелиться, чтобы не разрушить то, что в нем появлялось каждое утро, пока он жил здесь. Это было сладостное чувство, и он не мог объяснить себе, в чем же сокрыто оно: то ли в тишине и одиночестве, и в этом громадном сосняке, и в море, над которым летали чайки, и в том, как утопали ноги во мху, пока он шел к своей лодочке, чтобы, оттолкнувшись веслом, уйти рыбачить; то ли в незнакомом ему доселе ощущений покоя – тревожном поначалу и таком привычном теперь.
«Наверное, это и есть старость, – подумал он, решив, что пора вставать и что не сохранить уж более это утреннее, тихое счастье просыпания. – Старость – это когда можешь позволить себе раствориться в лесе».
– Дед! – услышал он голос шофера Ромки. Тот каждое утро развозил рыбаков по тоням и на обратном пути забрасывал Серебровскому хлеб. – Дед! Вставай!
Ромка посигналил еще раз, потом Серебровский услышал, как жестяно хлопнула дверь машины, и звук этот был противоестественным в здешнем лесу, и услышал, как Ромка спрыгнул на дорогу.
«Сейчас он ляжет в мох и закурит „Дымок“, – подумал Серебровский и поднялся с кровати. Он сделал эту кровать в первый день, когда только приехал сюда. Он натаскал в сарай еловых лап, сверху постелил одеяло, а потом положил надувной матрас; вымыл пол, затащил диковинный пень, прибил к этому пню доску, обчистил ее ножом, и пень стал красивым, пахучим столом; протер стекла, чудом сохранившиеся в окошке; нашел несколько красивых, жутковатой формы корней, расставил их по сараюшке, и стало у него красиво и странно, будто он здесь живет давным-давно. Он вообще обживался быстро и любил, чтобы вокруг было красиво и странно.
– Дед! – снова закричал Ромка. – Рыбалку проспишь!
«Это он докурил свой „Дымок“, – определил Серебровский, – и сейчас скажет, что хлеб оставил на корнях, около камня».
– Я хлеб на корневище оставлю! – закричал Ромка. – Около камня плесневелого!
Серебровский вышел из сарая, когда Ромка впрыгнул в кабину.
Ромка уехал, а Серебровский, подняв с корней хлеб, занес его в сарай, взял спиннинг и пошел к лодке. Солнце уже поднялось над морем. Небо с каждой минутой меняло свои цвета, превращаясь из белого, дымного, серого, синеватого – в голубое, размытое не видимым, а лишь ощущаемым розовым.
Серебровский оттолкнулся веслом, нос лодки гладко разрезал воду, камни на дне стали увеличиваться и темнеть, потому что дно здесь было пологое, вода прозрачная и даже пятак, который он как-то бросил с лодки, казался громадной желтой лепешкой.
«Угол преломления зависит от угла падения света и от коэффициента среды, через которую свет проходит, – машинально отметил Серебровский. – Тьфу, пакость какая… Даже красоту я подтверждаю уравнением. Бедные интеллектуалы, как они нас ненавидят… И, между прочим, с ними трудно спорить, хотя они не правы. По-человечески они справедливей нас, но с точки зрения прогресса мы теперь похожи на инквизицию. НТРовская инквизиция – неплохой термин, а?»
Он подгреб к маленькому каменистому островку, бросил якорь, привязал выточенную из плексигласа собственной конструкции блесну, поплевал на нее и метнул к чуть видной каменистой гряде – щука сейчас должна ходить поверху.
«Я хорошо забросил, – подумал он, – далеко и как раз возле гряды, но сейчас она не возьмет».
Он выбирал леску, точно зная, что щука не возьмет на этот раз. У него вообще было очень сильно развито предчувствие, и однажды лечащий врач посоветовал ему попить седуксена, чтобы успокоить нервы, но Серебровский тогда сказал, что нервов нет, а есть душа и жизнь, которые никогда не совместимы, и чем больше несовместимость окружающего с конкретной особью, тем активнее будет процесс «корреспондирования» личности и общества. «Это, – продолжал Серебровский, – очень полезно обществу и гибельно для личности, но черт с ней, с личностью, в конце концов, поскольку общее – как ни крути – всегда значимее частного и оборачивается пользой другим частным, составляющим одно общее». Доктор с этой версией не очень-то согласился, но спорить не стал, потому что переубедить Серебровского было невозможно. …Серебровский забросил блесну еще раз и точно ощутил, что сейчас, сразу же, как только грузило утащит плексигласовую прозрачную рыбку на дно, щука схватит ее, и он почувствует рывок, и сердце замрет, а потом напрягутся все мышцы, и даже пальцы ног станут неживыми, напряженными, как у бегуна перед стартом, и лицо зальет краска, и перехватит дыхание.
– Оп! – сказал Серебровский, почувствовав, как рыба схватила блесну.
– Ну что?!
Он подсек, красиво подсек, и начал выбирать леску, и сначала удивился тому, как легко шла леска, словно он взял не щуку, а судака – тот всегда первые мгновения покорно идет к лодке, – глубинный, он, вероятно, переживает шок и приходит в себя, когда видит над собой не черную твердь воды, а близкую, пузырчатую, зеленоватую хлябь неба.
Серебровский увидел щуку, когда она была метрах в трех от лодки. Она поднималась из глубины, как подлодка, и шла она медленно, словно бы пружинясь, и щука была большой, и Серебровский почувствовал, какая она скользкая, и даже ощутил, какая она холодная и сильная и как она будет вырываться, когда он забагрит ее, и схватит под жабры, и бросит на дно лодки.
Когда до борта оставалось полтора метра, щука резко пошла вниз; она исчезла, словно бы ее и не было, а на том месте, где она была, еще секунду стояла ее тень – зловещая и черная. Серебровский отпустил леску, придерживая ее пальцем, а второй рукой полез за сигаретами.
«Давай, давай, – подумал он, – давай, милая. Подерись, а то у меня испортилось настроение, когда ты покорно шла ко мне. На кой черт ты нужна мне такая? Такую можно купить… Ты подерись, тогда я обрету в своих глазах еще большую значимость – я победил хищника, и я буду рассказывать про тебя друзьям, когда уеду домой… Помнят лишь то, что с трудом дается, все остальное забывается, скоро забывается…»
Он почувствовал, что рыба остановилась где-то в глубине, и начал наматывать леску на катушку, и снова рыба покорно шла к лодке, и снова она исчезла, когда до борта оставалось метра три, и снова после нее стояла в воде длинная тень, но теперь она уже не казалась черной, а была густо-зеленой, потому что солнце поднялось еще выше.
Рыба начала метаться, и Серебровский понял, что она устала, и взял ее легко, и бросил себе в ноги, и увидел, какая она сильная и большая.
«Эту старую щуку хорошо бы отварить с молоком, – подумал Серебровский. – А если бы я поймал судака на глубине, в горловине, и несколько окуней, а потом пару пескарей, я бы мог сделать уху по-царски».
Серебровского однажды угощали царской ухой. Это было в Астрахани, за Икряным. Ему казалось, что уха по-царски должна обязательно вариться из стерляди, но бакенщик Феодосий, у которого он тогда жил во время путины, объяснил, что это неверно и что высший смысл царской ухи состоит в ином.
– Смотри, Яковлевич, – объяснил он Серебровскому, пробуя уху на вкус, – смотри и запоминай, помру – хрена тя кто этому обучит. Сейчас пора пришла другая, торопливая. Знаешь, как мой брат все объясняет? Он умный, ему только думать и осталось – ноги-то отчекрыжило во время войны. Он говорит, что-де, мол, ныне все норовят машинно работать, с удобством, и чтоб в поясницу не дуло. То-то и оно – всё норовят бегом и мимо бегут, мимо, пристальность теряют, лик видят, а в глаза заглянуть не успевают. Так что учись, Яковлевич, покуда живой я. У меня в затылке ломота – к смерти это, да и врач в глаза не смотрит, все в лоб мне глядит, в лоб… Еще лавра кинь. Хорош. А теперь пескаря. С этого и пошла царская ушица. Пескаря мы с тобой выварим, потом выймем, он клейкость даст воде, вроде как всех других рыб соединит. Выймем его и щуку кинем. Она для вкуса жесткоту даст и силу – щука рыба сильная, от нее ноги крепнут. Откипит белой пеной, мы и ее выкинем и бросим в котел карася и карпа для сладости. А уж потом белужью головизну, коль стерляди нет. А как сымем с костра, в кипень молочка подольем – тут тебе и готова царева уха… …Серебровский, вспомнив Феодосия, ощутил голод, под ложечкой засосало, он достал из клеенчатой сумки кусок хлеба, медленно прожевал, запил сладким чаем из термоса. Затем снова метнул блесну и порадовался тому точному, графическому эллипсу, который прочертила она в небе, и снова понял, что на этот раз щука блесну не схватит, и рыба действительно блесну не схватила.
Серебровский досадливо сплюнул и посмотрел на свое отражение в воде и долго, глядя на себя, размышлял: действительно ли видно, что волосы его седые и отросшая за две недели борода тоже седая, или просто он знает, что это так на самом деле, и примысливает водному зеркалу отсутствующие физические качества, дерзко покушаясь на извечность закона природы, который жесток и четок, как фронтовой продраспред…
Серебровский забрасывал в этом месте еще раз двадцать, но щука больше не брала – то ли жор прекратился, то ли здесь была одна-единственная эта старая рыба, пришедшая к каменной гряде на песчаную отмель, чтобы погреться в одиночестве, застыв в спокойной расслабленности, когда не надо работать плавниками, чтобы, сопротивляясь течению, стоять там, где хотелось бы стоять; когда не надо напрягаться, набирая скорость, чтобы опередить других во время жора; когда можно быть самой собою – уставшей, старой щукой и не пыжиться, чтобы боялись другие, более молодые, и поэтому уступали лучшие места на утренней и вечерней охоте…
Серебровский выбрал каменный якорь, обогнул островок с севера, развернул лодку так, чтобы мягкое солнце грело лицо, и попробовал блеснить на глубине, на том таинственном водоразделе, где прозрачная, белая вода четко и устойчиво граничила с водой черной, масленой – глубинной.
«Здесь может быть судак, – подумал Серебровский, – если я возьму судака, тогда сразу же заложу его в тузлук, а завтра повешу на солнце, и он провялится дня за два, а как раз в субботу Ромка обещал привезти из Выборга дюжину пива, и я устрою пир: на сковородке поджарю в оливковом масле черный хлеб с солью, потом зажарю окуней и приготовлю уху по-царски».
Блеснил он долго, но рыба не брала. Он попробовал было новую блесну, тоже самодельную, из латуни, верткую, быструю: «Сам бы схватил – покажи издали». Но и здесь рыба не брала, и он, чтобы не портилось настроение, поехал к берегу, решив вернуться сюда под вечер, когда запоет комарье, и по воде пойдут точные, быстрые круги, и солнце будет плавить море, растекаясь по горизонту малиновым, зловещим цветом: перед тем как исчезнуть на ночь, солнце словно бы пугает людей безысходностью розового марева, и красота природы в эти последние солнечные минуты делается тоскливой, как затаенное ожидание смерти.
«Черт, молочка хочется, – снова подумал он, когда кончил разделывать рыбу и побросал большие бело-красные куски в кипящую, дымную воду, – литр бы выпил, ей-богу…»
Он съел щучью голову, отнес котелок в сарай, чтобы комарье не набилось, нашел в карманах мелочь, взял флягу и пошел по тропке, мимо двух маленьких, заросших камышом озер, через луг, напоенный тяжелым гудом пчел, сквозь лес, где росли березы, и было ему так хорошо, как бывало в юности, – детства у него не было, оно всегда казалось ему жестоким, горьким и несправедливым, и чем дальше он отходил от той поры, тем с большим недоумением думал о несправедливости и не мог найти однозначного ответа, и это раздражало его, приученного к точности – во всем, что касалось жизни, впрочем, смерти тоже.
Сразу за березовым лесом начиналась пойменная луговина, и по синим травам ходили коровы, и где-то вдали, словно на манеже цирка, сухо щелкал кнут пастуха.
«Наверное, доярки живут в том домике, что на взгорье, – подумал Серебровский, – туда и дорога ведет».
Он посмотрел на часы. «Всего сорок минут, – отметил он, – я могу ходить сюда через день. Здесь напьюсь молока, а литр унесу с собой – фляга не мешает идти, руки свободны…»
– Эй, кто тут живой? – спросил Серебровский, подойдя к финскому домику. – Молочка можно купить?
На крыльцо вышла девушка с большим половником в руке, рассеянно посмотрела на Серебровского и закричала:
– Леня! Ленька! Когда надо сыпать соль?!
Никто ей не ответил, она вздохнула, еще раз посмотрела на Серебровского и рассеянно ответила:
– Мы сами молоко покупаем…
– А где доярки?
– Доярки? – переспросила девушка, потом замерла, потянула носом воздух и стремглав убежала в дом.
Серебровский пошел следом за ней. Девушка стояла на кухне и мешала уху, которая белопенно выкипала на раскаленную плиту. Она мешала уху неумело и половник тоже неумело держала, и Серебровский сразу же угадал в ней нелюбовь к этому извечно женскому занятию – делать еду.
Глаза у девушки были длинные, нос курносый, со смешинкой, и две ямочки на щеках.
«Стереотип обаяния, – отметил Серебровский, – прямо с рекламного буклета „Женитесь! Вас ждет уют и ласка!“
Девушка осторожно отхлебнула уху из половника.
– Вкусно? – спросил Серебровский.
Девушка отрицательно покачала головой, и ее волосы точно повторили движение – такие они были густые и мягкие.
«Почему женщины обижаются, когда говоришь им про волосы – грива? – подумал Серебровский. – Что есть в мире лучше лошадей?»
– По-моему, дрянь, – ответила девушка, – горечь сплошная.
– Вы не очень-то любите это дело…
– Просто не умею.
– Мама не учила?
– Конечно… Вы же все считаете, что нас надо оберегать от плохого и грязного, что надо дать возможность спокойно жить, потому что вы слишком много мучились в молодости…
– Кто это «мы»?
– Старики родители, кто же еще…
– Черт его знает, – ответил Серебровский. – Наверное, вы все-таки не правы… Мне кажется, что дело тут не в перенесенных лишениях… Просто, видимо, ваша матушка считала, что она приготовит лучше, чем вы, вкусней… И вы приучились к мысли, что это действительно так… Мы, старики, – вдруг улыбнулся он, – всегда считаем, что знаем больше и думаем верней…
– Неудачники из вашего поколения всегда склонны к подобного рода словесному мазохизму… А на деле вы все одинаковые…
Серебровский рассердился:
– На эту тему есть хорошие стихи.
– Из хрестоматии?
Серебровский подумал было, что лучше ему уйти, потому что нежность, сокрытая в этой красивой девушке, странно дисгармонировала с тем, как жестко и сухо она говорила, но потом он решил, что уходить вот так – побитым – как-то до обидного несправедливо, и еще спина у него сутулая, и седые патлы на затылке слежались, и брюки сзади порваны – как он ни забивал гвоздь в лодке, но все равно каждый раз приходилось зашивать зелеными толстыми нитками угольную, словно вектор, дырку; он представил себе, как девушка засмеется, глядя в его спину, и поэтому он достал сигареты, заметил, как девушка усмехнулась – всё так же жестоко, увидав в его грязных руках пачку «Уинстона», покраснел отчего-то и начал читать стихи Пастернака, злясь на себя и понимая, как нелепо он сейчас выглядит.
Стихи сейчас были для него как круг спасения в шторме, а еще кругами спасения стали глаза девушки, сделавшиеся вдруг иными – как у ребенка, который слушает интересную сказку, и поэтому он успокоился и дочитал последние строчки скучным голосом, потухнув, как победитель за мгновение перед победой:
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым, и только,
Живым, и только – до конца.
Он вышел, задержав воздух в легких, чтобы спина его не казалась такой сутулой и жалкой, какой она отражалась в зеркалах, когда он проходил по третьему этажу института, но он недолго чувствовал себя победителем, потому что кухня была длинной, и ему хотелось выдохнуть, пока он шел к двери, и он выдохнул, и весь обмяк, и подумал про себя: «Старый идиот, а еще фанаберится».
– Доярки живут возле ручья, – сказала девушка, – если хотите, я вас провожу…
– Вы мне лучше объясните, – сказал он, остановившись возле двери, и несмело обернулся, – я найду.
– Вы здесь отдыхаете?
– Рыбачу…
– Ну, значит – отдыхаете? – настойчиво повторила девушка, и снова прежние суховатые нотки прозвучали в ее вопросе. – Как-то вы нечетко отвечаете.
– На отдыхе можно отвечать нечетко… А вот рыба у вас разварится – это вот точно. Достаньте ее и положите на тарелку.
Девушка заглянула в котелок и ответила:
– Уже разварилась. А сейчас мои вернутся… Надо мне было с вами схлестываться!
– Это вы так схлестываетесь?
– Конечно. Я же вас обижала.
– Схлестываться – не значит обижать. Схлестываться – это новая формула поиска истины.
Девушка улыбнулась, и лицо ее стало иным, и Серебровский не смог даже определить, в чем оно изменилось, потому что, вероятно, оно изменилось все и во всем.
– Меня зовут Катя, – сказала девушка, – нас вывезли сюда на натуру, мы из строгановского… Коров рисовать, знакомиться с жизнью народа… А вас как зовут?
– По-разному. Александром Яковлевичем, дядей Шурой, Саней и дедом.
– Я вас буду называть дедом, можно?
– Конечно, можно. Это в принципе соответствует допустимости моих возрастных потенциалов.
Катя засмеялась:
– Ничего не понятно…
– Все понятно. Надо только подумать, настроившись на меня, на мой строй мысли. Мы все настроены на самих себя и, пока слушаем собеседника, обдумываем ответ, совсем даже не стараясь понять другую правду. Я ответил вам точно и ясно: «Допустимость моих возрастных потенциалов». Мне пятьдесят. Женись я в возрасте двадцати пяти, у меня могли быть дочь или сын. Сейчас женятся рано и рано рожают, и это правильно. Следовательно, у моей дочери или у моего сына сейчас мог быть ребенок, и, таким образом, я был бы дедом. Ясно, Савушка?
– Ясно, бабушка, – вздохнула Катя, – «дедушка» не рифмуется с Савушкой.
– Сейчас все рифмуется, – ответил Серебровский, – и хотя мне это не нравится, но я за это, потому что сие – от поиска.
– Боже мой! Вы реформатор! Бедненький! Как вам, наверное, трудно жить с такими-то настроениями… Или вы их высказываете только во время рыбалки? На работе помалкиваете в тряпочку?
– Все-то вы знаете, – улыбнулся Серебровский.
– Да ну вас, – сказала Катя, – сейчас я брюки натяну, а то доярки ругаются, если мы в купальниках ходим…
Она убежала в комнату. Уха бурлила. Серебровский достал половником разварившиеся куски рыбы, сложил их на большой тарелке, прикрыл газетой, добавил в уху лаврового листа, раскрошив его в ладони, снял котелок, укрыл его полотенцем и услыхал за спиной голос Кати:
– На месте вашей жены я бы вас ненавидела…
– Почему?
– Суетесь в бабьи дела.
– Да? Странно… Моим знакомым женщинам это всегда очень нравилось…
– Они с вами интриговали.
Они вышли из домика, и Серебровский спросил:
– Почему вы думаете, что они со мной интриговали?
– Потому, что я сама женщина. Нам нравится, когда мужчина властный, сильный… А вы кастрюлю тряпочкой накрываете…
Они шли через луг… Луг был синий. Он был синим, оттого что в нем росли красные маки, – иначе он был бы обыкновенным, зеленым.
– Кто-то писал, что настоящий художник рождается только в том случае, если он постоянно думает о смерти, – сказала Катя. – Я в поле всегда о смерти думаю, а в лесу мне страшно, и жить хочется, и чтоб поскорей домой, и чтобы в доме были стены из кедрача…
– Бывали в Сибири?
– Почему?
– Кедрач… Это сибирское…
– Не была я в Сибири… Нигде-то я не была, ничего-то я не знаю… А время бежит – ужас…
– Это понятно. Я помню, как год тянулся, когда мне пять лет было, – сказал Серебровский, – целую вечность тянулся. А после тридцати защелкало, будто в такси… Когда человеку пять лет, он проживает год, как одну пятую часть его бытия, а уж когда пятьдесят, тогда – одну пятидесятую… Естественное наращивание скоростей… Ничего с этим не поделаешь…
– Господи, – сказала Катя, – какой вы умный, а?
– Это верно, – согласился Серебровский, – но меня это далеко не всегда радует.
– Ничего себе скромность…
– Правда, – серьезно сказал Серебровский, – мы отчего-то стыдливы до необыкновения… Самореклама, самореклама… Какая глупость… Если дурак будет рекламировать себя как Спинозу – все равно ведь не поверят.
– Можно уговорить…
– Ненадолго… Надо всегда называть собаку собакой. А мы смущаемся.
Катя вдруг рассмеялась. Она очень хорошо смеялась – раскованно, просто, для себя.
Серебровский хотел было спросить, отчего она сейчас смеется, и он посмотрел на нее, но вдруг странная робость родилась в нем, и он нахмурился, поняв, отчего она в нем родилась, эта цепенящая робость.
– Дядя Шура! – услыхал он голос и сразу вспомнил Настьюшку, дочку бакенщика Григория Васильевича, и увидел ее веснушки, словно бы размытые, а потому до боли нежные, а она их смущалась и всегда прикрывала лицо ладонью, и только когда он объяснял ей, как это красиво, убирала руку и недоверчиво, с таинственной улыбкой слушала его. Было это позапрошлым летом, когда он жил не в лесу, а в домике Григория Васильевича, и Настьюшка была ломким четырнадцатилетним подростком, длинноногим, быстрым, как олененок, и таким же недоверчиво-нежным.
– Дядя Шура! – кричала она и бежала через луг, и это ее движение по точной кривой, наискосок через синий, нет, не синий, а красно-зеленый луг было прекрасным и каким-то даже нереальным в одинокой, прошлого века, красоте своей. – Дядя Шура! Мне Ромка сказал, что вы теперь в лесу…
Она не договорила, только сейчас заметив Катю, и краска залила ее лицо, и веснушки сделались бронзовыми, яркими, и от этого глаза ее стали прозрачны и голубы.
– Здравствуйте, дядя Шура, – сказала она, – чего ж к нам не зайдете?
– Здравствуй, Настьюшка, – улыбнулся Серебровский и хотел было, обняв ее за шею, поцеловать в лоб, но она чуть отодвинулась от его руки, и он только тогда понял, что перед ним уже не подросток-олененок, а красивая девушка – высокая, рыжеволосая, с глазами, которые сейчас погасли, сделавшись спокойно-синими.
– А это кто? – спросила Настя, не поворачиваясь к Кате.
– Катя, – ответил Серебровский.
– Мы здесь рисуем, – пояснила Катя.
– Студенты, что ль?
– Студенты… Вы бы не согласились мне попозировать? – спросила Катя.
– Фотографировать, что ль, хотите?
– Рисовать…
– А чего рисовать? Фотоаппараты на это продаются… Дядя Шура, ну, я пойду… Коровы мои разбредутся… Может, навестите? Папаня рад будет, он вас вспоминает…
– Обязательно приду, Настьюшка. Я сначала в лесу отсыпался… Теперь отошел. И приду.
– Вы же хотели купить молока, – сказала Катя. – Настя, тут где можно молоко купить?
– Кому?
– Деду…
– Какому деду?
– Мне, – пояснил Серебровский и снова полез за сигаретами.
– Она что – внучка вам? – со странной надеждой спросила Настя.
Катя рассмеялась и ответила:
– Внучка… У меня дед молодой, хорохорится…
Лицо Насти враз ожесточилось, и она ответила, повернувшись к Серебровскому:
– Я вам сама принесу молока, Александр Яковлевич, мне Ромка объяснил, где вы живете.
– Спасибо.
– Дайте мне закурить, – сказала Катя, глядя вслед девушке, которая почти совсем скрылась в траве, только рыжая голова ее прорезала синь луга.
– Не дам, – ответил Серебровский. – Это дурной тон, когда девушки курят.
– Жалко импортных…
– До свидания, – сказал Серебровский и пошел к лесу, не оборачиваясь.
«Старый идиот, – думал он, глубоко затягиваясь. – Правды, правды, ничего, кроме правды. Примочка лжи, как свинцовая вода от синяков. Мы все ждем этой примочки. Наверное, и семидесятилетние думают наедине с собой, что еще не все кончено, и что возможно чудо, и что можно еще все вернуть, если только бегать по утрам сорок минут и принимать ледяную ванну. Конечно, не все пропало, если любить дело, свое дело. А я люблю мое дело, и я не могу без него жить, и ничего не кончено. Зачем мне понадобилось идти за этим чертовым молоком?!»
Он шел размашисто, часто хмурился, много курил, и, когда пришел к себе, спина его взмокла от пота, и он сбросил рубашку, снял брюки и начал стягивать трусы, чтобы окунуться в море, но замер, потому что услыхал за спиной голос Кати:
– Мне обнаженная натура не нужна… Для этого есть Аполлоны…
Он обернулся, нахмурившись еще больше.
Катя жевала травинку. Она держала ее в пальцах, как сигарету.
– Это я курю, – пояснила она. – Даже затягиваясь. Видите? А с девочкой вы плохо говорили, дядя Шура. Девочка в вас влюблена… А никто так не влюбляется в четырнадцать лет, как девочки. Особенно в умного, седого дядю, который называет себя дедом. Кокетки вы все – ваше поколение, – пояснила она, – кокетки… Не дожили своего, бедненькие, не долюбили… Одевайтесь, а то вы как в бане…
Она легла в мох, утонув в нем, зажмурила глаза и тихо, словно засыпая, прочитала:
В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав…
Натягивая штанину, танцуя на одной ноге, Серебровский хмуро продолжил:
Трава на просеке сосновой
Непроходима и густа.
Мы переглянемся и снова
Меняем позы и места.
Танцуя на одной ноге, он споткнулся об корень, выругался, упал в золу костра, а когда поднялся и Катя посмотрела на него, она рассмеялась и сквозь смех, вытирая слезы, повторила:
– Вы на домового… на черта… похожи… домового…





