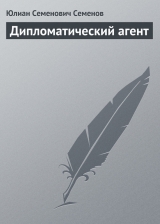
Текст книги "Дипломатический агент"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Виткевич шел по шумному бухарскому базару. Без денег и без лошадей. Но главная трудность заключалась еще и в том, что Иван знал таджикский и киргизский, а здесь бытовал узбекский язык.
Несмотря на усталость, на головокружение, Виткевич словно зачарованный смотрел на людей. Кого здесь только не было! Толстые, ленивые персы-купцы, смуглые черноусые индусы, лихие наездники-таджики, веселые узбеки – все они смеялись, кричали, торговали, покупали, шутили, пели песни. Иван жадно вслушивался в их речь, но понимал совсем немного из того, что слышал. Глядя на этих веселых, голодных, оборванных, чудесных люден, Виткевич вдруг подумал; «А туда ли я иду? Может быть, мое место с ними? Может быть, здесь счастье? Ведь быть другом Сарчермака – счастье. А стать другом всех этих людей – счастье еще большее…»
Виткевич думал о своем и не замечал, как чьи-то глаза неотступно следовали за ним. Миновав базар, он свернул в узенькую улочку, прислонился к дувалу. В глазах пошли зеленые круги. Сел, вытянул ноги, застонал от боли. Когда он поднял голову, прямо над ним стоял человек: смуглый, черноглазый, нос горбинкой, желваки грецкими орехами под кожей перекатываются.
– Салям алейкум, – поприветствовал он Ивана.
– Ваалейкум ассалям, – ответил Виткевич.
– Вы откуда? – спросил человек. – Из Хивы, Ургенча?
Виткевич ничего не ответил, наморщил лоб. Решил выиграть время.
– Вы не понимаете по-узбекски? – продолжал допытываться человек.
– Нет, я говорю по-киргизски.
– Говорите. А понимаете какой?
Виткевич снова промолчал. Тогда, понизив голос, человек спросил по-французски:
– Откуда вы, мой дорогой блондин?
– Что вам надо от меня? – нахмурился Виткевич и поднялся на ноги.
– Вы сделали три ошибки в одной персидской фразе. У вас хорошее произношение, но вы слабоваты в грамматике, коллега. Лучше говорите на родном языке. – Человек оглянулся. – Не хотите? Ладно. Тогда послушайте, что скажу я. Сейчас мы уедем отсюда. Естественно, вместе. И лучше, – человек подыскивал нужное слово, – лучше никому не жалуйтесь на мой произвол. – Засмеялся. – Я отвезу вас из дикости в цивилизацию. Договорились? Ну и хорошо. Давайте руку, я помогу вам.
Капитан Александр Бернс считал, что ему чертовски повезло. Как талантливый разведчик, он не мог не предполагать, что агенты России подвизаются в ханствах Срединной Азии. Правда, чиновники из Ост-Индской компании уверяли его, что русские никак себя в Азии не проявляют, замкнувшись в маленьких форпостах вдоль по Уралу. Крепости эти не представляли сколько-нибудь значительной стратегической ценности даже с точки зрения обороны, не говоря уже о нападении.
С этими постулатами Бернс соглашался, учтиво покачивая головой, а про себя думал о том, каких тупоголовых баранов присылают в Индию.
«Вместо того чтобы держать здесь резидентуру, достойную Востока, засылают кретинов, скомпрометировавших себя чем-то на острове. Какая нелепость!» – думал Бернс.
Воспитанный в наступательных традициях английской внешней политики, Бернс не мог, не имел права ни на минуту допускать мысли о том, что контрагент да причем такой сильный контрагент, как Россия, беспечно наблюдает за тем, что происходит на Востоке. Недвусмысленные акции Британии в Азии мог не увидеть только слепой.
Цель этой политики – вовлечение всего Востока в орбиту Альбиона – казалась Бернсу естественной и необходимой.
Когда он в первый раз заговорил с высшими чиновниками компании о целесообразности поездки в срединные азиатские ханства, его подняли на смех. Но какой это был смех! Истинно британский: учтивый, исполненный самого искреннего расположения, мягкий и обходительный. Словом, это был такой смех, за которым обычно следовал отзыв обратно в Шотландию в связи с «обострением болезни сердца». Дерзких, мыслящих людей здесь, как и повсюду, не особенно-то жаловали.
Здесь, как и повсюду, предпочитали иметь послушных исполнителей, оставляя право делать политику за избранными. Один из руководителей компании пустил даже каламбур по поводу предложения Бернса: «Когда лейтенанты входят в политику – жди термидора».
Конечно, предложение Бернса было записано и положено в один из сейфов компании, с тем чтобы когда-нибудь вытащить его на свет божий. Когда-нибудь. Чуть позже того, как Бернс будет отправлен к себе в Шотландию, к милым своим собратьям, волынщикам.
Однако ни люди из компании, ни уважаемые господа из губернаторства не смогли толком оценить красавца лейтенанта.
Сразу же поняв создавшуюся ситуацию, Бернс отправил в Лондон маленькое письмо за тремя сургучными печатями, столь искусно поставленными, что не было никакой возможности познакомиться с содержанием письма, даже если бы кто и рискнул это сделать, невзирая на адрес, выведенный в правом верхнем углу конверта.
Лорд отдал должное беззаботно-веселому тону письма, чуть грубоватому, «лесному» юмору шотландца, жаловавшегося на головные боли в связи со спорами с некоторыми высокими господами из генерал-губернаторства.
Через день корабль, вышедший из устья Темзы, взял курс на Индию. Капитан корабля вез небольшое письмецо Бернсу и еще меньшее – в губернаторство.
Сразу же после того, как письма эти были вручены адресатам, Бернс получил аудиенцию у одного уважаемого господина, который сначала заботливо осведомился о самочувствии лейтенанта после недавно перенесенной им болезни, а потом спросил, не желает ли сэр Бернс совершить путешествие в места с более резко выраженным континентальным климатом.
Александр Бернс выразил свое согласие на столь нужную его здоровью прогулку.
– Мы сделаем так, что никто из служащих компании не будет знать о вашем путешествии, – сказали ему в заключение, – это ведь будет первый опыт такого рода лечения.
– Первый, – согласился Бернс и спрятал улыбку.
Через несколько месяцев он встретил в Бухаре русского резидента. Это ли не подтверждение правильности его положений? Бернс отдал должное выдержке русского агента, его замкнутости и стоицизму. «Он прошел неплохую школу, хотя и молод», – заключил Бернс.
Может быть, лейтенант и не гнал бы свою состоявшую всего из пяти человек кавалькаду дальше к Герату, Кабулу, Индии, если бы он мог хоть краешком глаза посмотреть на происходившее в Санкт-Петербурге. А происходившие там события заслуживали того, чтобы их видеть.
4Сегодня у Виельгорских хоры. Канцлер, граф Карл Васильевич Нессельроде большой любитель попеть. В черном, без регалий, сюртуке, само воплощение скромности, Карл Васильевич стал во второй ряд хора и, откашлявшись, ждал начала.
Виельгорский качал головой. Потом, устав качать головой, решившись, он тронул клавиши пухлыми пальцами.
– О-о-аа-оо, – тихонько выводил Карл Васильевич хор из «Гугенотов». Глаза его полузакрыты, лицо светлое, спокойное.
Когда ария закончилась, Карл Васильевич первым захлопал в ладоши и закричал:
– Браво, браво, господа! Это настоящее «Боже, царя храни».
При этих словах канцлера молодой человек, стоявший рядом с хозяином, удивленно вскинул брови и растерянно посмотрел на Виельгорского. Тот нахмурился и покачал головой, что, по-видимому, должно было означать: «Молчи и не удивляйся, если задумал с ним поговорить».
Молодой человек – историк, филолог, нумизмат Борис Дорн понял знак Виельгорского и, полуобернувшись к канцлеру, почтительно склонил голову. Похлопал в ладоши, стараясь сделать это так, чтобы Нессельроде увидал.
Позже, когда гости разбрелись по залам, Виельгорский подвел Дорна к Карлу Васильевичу и представил молодого человека как талантливого востоковеда.
Нессельроде поморщился; два дня перед тем он имел пятую за эту неделю беседу с британским послом как раз о делах азиатских, восточных.
– Граф Карл Васильевич, – выпалил Дорн, – не соблаговолите ли вы посмотреть мои соображения о наших делах азиатских, кои развиваются не весьма блестяще, – и с этими словами он протянул дрожащей рукой листки, свернутые в тонкую трубочку и перевязанные синей лентой.
На секунду глаза Нессельроде широко раскрылись. Потом он опустил веки, и лоб его прорезала морщина.
– Я прихожу сюда, к друзьям моим, петь, а не решать дела азиатские, кстати сказать, блестяще развивающиеся, – и, повернувшись к Дорну спиной, Нессельроде пошел в другую залу.
Дорн не мог знать, что Нессельроде в своих беседах с британским послом не проявлял должной твердости в защите позиций России на Востоке. Именно поэтому Дорн испортил себе карьеру на многие годы вперед.
Но ничто это не было известно Бернсу, а если бы даже и стало известно, все равно он не поверил бы в такую нелепость. Бернс был, при всей своей талантливости, начинающим политиком. Начинающий в любой области не верит в нелепость. В этом одновременно и преимущество и недостаток начинающего.
Поверил в нелепость Александр Бернс только через три дня, когда утром, очнувшись после тяжелого, тревожного сна, не увидел рядом с собою пленника, русского агента. Трое его провожатых спали таким же тяжелым сном, а около тлеющих углей костра валялись пережженные веревки, которые вчера вечером надежно связывали руки Виткевича.
Глава пятая
1Виткевич вернулся в Орск и свалился в горячей, сжигавшей его лихорадке. Доктор Зенченко и Садек просиживали около его постели долгие ночи, прислушиваясь к дыханию Ивана. Дыхание было прерывистое, жаркое. Часто он бредил, кричал.
Повторял ссохшимися губами: «Анна, Аннушка». Зенченко, услыхав это имя, отошел к окну. Закат, разлившись по земле алой кровью, догорел и потух.
Приходил Яновский. Он тоже услышал, как Иван повторял имя его жены. Яновский хмурил брови и менял на лбу Ивана холодные компрессы.
Однажды утром, когда Зенченко решил, что все уже кончено, Иван открыл глаза, осмотрелся и сказал:
– Слава богу. Дома.
После он уснул. Кризис миновал.
Однажды выздоравливавшего Ивана зашла наведать Анна. Она тосковала в крепости, и Яновский предложил ей вернуться в Петербург. Анна не сумела скрыть радости.
Яновский улыбнулся и погладил ее по голове, как ребенка.
– Я возьму отставку и приеду к тебе позже, – сказал он.
– Только поскорей, а то я буду скучать, – пролепетала Анна.
– Хорошо, дорогая, – пообещал Яновский. – А сейчас пойди попрощайся с Иваном.
Виткевич лежал, откинувшись на высокие подушки. Он смотрел в открытое окно. Дул горячий ветер. Если выставить в окно руку и держать до тех пор, пока не начнет дрожать ослабший за время болезни мускул у плеча, в ладони окажется несколько теплых, крошечных песчинок.
Иван любил разглядывать песчинки. Словно крохотные миры, они, казалось, вмещали в себе чудесные таинства природы. Там, внутри, тоже дули ветры с жарких, крошечных степей, плескались крошечные полноводные реки, и, быть может, такой же, только совсем крохотный Садек приходил к такому же больному Ивану и сидел около его кровати, ничего не спрашивая и ничему не удивляясь.
Анна заглянула в дверь и, улыбнувшись, постучала пальцем в стену. Иван оторвал глаза от песчинок, глянул на дверь и увидел Анну. Смутился, покраснел.
Садек недоумевал: «Мужчина стал красным, испугавшись женщины. Это ли не смешно?» Но Садек не показал виду, что он удивлен. Он встал, небрежно, свысока кивнул женщине и выпрыгнул в окно.
– Я так рад, – не решаясь поднять глаз, сказал Иван. – Прошу вас…
– Чего же вы просите? – спросила, улыбаясь, Анна и села на стул рядом с кроватью. – Чего же вы просите, милый киргиз?
Сердце в груди гулко ухало; то стремительно падало вниз, то тяжело, рывками, поднималось вверх.
Иван исподлобья посмотрел на женщину и, точно ожегшись о ее взгляд, опустил голову еще ниже и начал внимательно разглядывать свои руки, похудевшие во время болезни.
– Я пришла попрощаться с вами, – продолжала говорить Анна. – Я уезжаю.
Иван не поднимал головы. Анна нагнулась к нему и прошептала:
– Такой отважный странник, и столь застенчив в обществе дамы, его навещающей.
Кровь ударила Ивану в голову. В глазах Анны зажглись огни, яркие, обжигающе близкие. Он неловко обнял женщину и прижал к своим губам ее голову.
…Когда Анна ушла, Иван отвернулся к стене и заплакал. Он никогда не думал, что все это может быть так просто и обыденно. Он ждал, что в дневном небе зажгутся звезды, он ждал, что земля запоет песнь свою, великую и радостную. Но ничего этого не случилось. Со степей дул по-прежнему жаркий ветер.
Начинало темнеть.
Когда Иван встал на ноги, Анны в крепости уже не было. Он пошел к Яновскому.
Подполковника дома не оказалось. Денщик сказал Ивану, что Яновский гуляет в степи. Иван нашел его сидящим под молоденькой березкой, листья которой стали желтыми от суховеев.
Яновский смотрел в небо. Там, курлыкая извечную песню, летели журавли.
Иван подошел к нему и сказал:
– Здравствуйте, Александр Андреевич.
Тот поднял голову и ответил:
– Здравствуй, Иван.
– Александр Андреевич, я должен сказать вам, что…
Яновский поднял руку ко лбу, потер переносье и, перебив его, попросил:
– Не надо, Иван. Смотри, журавли-то как, а?
– Я должен сказать вам… – настаивал Виткевич.
Яновский странно посмотрел на него. Глаза у него сейчас не такие, как всегда. Мягкие. Грустные. И не рысьи даже совсем.
– Не надо ничего говорить мне. Ты иди, Иван. А я тут посижу один. На журавлей смотреть люблю до смерти. Им что, журавлям! Им вольно…
2Только после отъезда Анны Виткевич заметил, как сильно изменился за эти годы Яновский. Поджарая фигура его сделалась сухой, старческой. Волосы на висках поседели, между бровями залегла глубокая, словно вырубленная морщина.
Каждое утро он по-прежнему вставал с зарей и уходил в степи. Когда трубили подъем – возвращался. Он слушал отчеты, давал команды, гневался, смеялся, но все это делал отрешенно, издалека.
Как-то раз вечером Яновский вызвал Ивана. Виткевич пришел к подполковнику и поразился: около окна сидел сгорбленный человек и неотрывно, тяжело смотрел в одну точку – в выщерблину на полу.
– Здравствуйте, Александр Андреевич.
Яновский зажмурился, несколько раз сильно провел рукой по лбу, словно желая разгладить морщины, встал, пошел навстречу. Обнял Ивана, поцеловал в щеку и усадил рядом с собой.
– Ты уж извини, друг мой бесценный, – сказал подполковник, – что я тебя столь поздно к себе вытащил.
Он покачал головой, вздохнул.
– Страшно мне одному. Запить боюсь, Иван. А это трусость. Конец, словом. Так что прости меня, старика.
Виткевич положил свою горячую руку на ледяные, длинные пальцы Яновского. Тот благодарно посмотрел на Ивана.
– Давеча пришел ко мне Фырин. Сели обедать – он на меня смотрит, словно собака голодная, губы облизывает и кадыком в горле ерзает, как пальцем в тесном сапоге. Понял я его голод, принес штоф, Выпили. Еще принес – и тот выпили. И стал он мне тогда говорить разное, – Яновский поморщился, пояснил, – ну, словом, успокаивать меня начал.
Иван почувствовал, как во рту у него пересохло и стало горько, как будто съел стебель полыни. Он сердито засопел, не в силах побороть в себе острое, гнетущее чувство жалости к подполковнику. Яновский отвернулся и сказал коротко:
– Не надо, друг мой бесценный, не надо, пожалуйста. Не ты виноват и не мучь себя зазря.
Прошел по комнате и остановился у окна.
– Понимаешь, вчера Фырин был близок мне своей жалостью и жестоким примитивизмом суждений. Но мне было хорошо с ним, я растворился в его слабости, покорности жизни. Мы расстались друзьями. Сегодня он снова придет, так я, чтобы завтра весь день перед самим собою не краснеть, тебя позвал: Ты стойкости и. правде учен не то что я – наставлениями родительскими, а каторгой солдатской.
Они говорили, не зажигая лампы, до прихода Фырина.
От ротного несло таким терпким винным запахом, что Иван подумал: «Ежели неловко огниво к его лицу поднесть – вспыхнет вся комната синим пламенем спиртовым».
Виткевич не умел пить. Однажды он пристал к Тимофею Ставрину:
– Угости хлебным, попробовать страсть как хочется.
Тот начал было отговариваться, да потом, спрятав в глазах лукавство, принес десяток крутых яиц, дюжину огурцов, пару штофов и так напоил Ивана, что тот потом целый день на сеновале лежал, питаясь одним лишь огуречным рассолом.
Поэтому сейчас, когда Яновский разлил в высокие синие стаканы хлебное вино, Виткевича всего передернуло. Выпив, он закашлялся и пришел в себя только после того, как Яновский довольно долго стучал ему по спине между лопатками.
– Не туда, – пояснил Фырин, – пошло не туда. К сердцу пошло, а надобно, чтоб к животу… Я полагаю так: два великих блага отпущены человеку. Сие есть вино и баба. Счастья эти лё-огкие, за них сражаться, как за орден али медаль, не приходится.
Фырин быстро налил себе еще, так же быстро выпил и, не закусывая, продолжал:
– И то и другое – я о вине и бабах – дано нам жизнью и жизнью же, в случае надобности, отбирается без всяких промедлений. Вино – хлеб, земли производное. Баба – опять-таки откуда-то оттуда. А я господин и того и другого. Знаете, как по-хохлацки слово «баба» говорится? Жинка. А мужчина? Чоловик. Человек, значит. Вон сейчас выйду, денщика, каналью, кликну – он вина мне нальет. Да девку, коль прикажу, затащит. Я человек земной, земным пользуюсь и в химеры умственные ни в какие не верю.
Чем больше пил Фырин, тем белее становилось его лицо и; краснее – шея. Пил он беспрерывно, обливая вином сюртук и панталоны. Яновский курил и не смотрел на ротного. Иван теребил край скатерти и шаркал ногами, как от зуда.
– Любовь, говорите? Ер-рунда. Нет любви. Если мужчина любит, так он делает величайшую глупость. Как умный с дураком никогда не сговорится, так и баба – по натуре своей животное – не в состоянии понять мужское чувство. Значит, зачем же нужны чувства эти самые? Не нужны, – сам себе ответил Фырин. – Любовь – сие не что иное, как неудовлетворенное скотское влечение, вот что это такое.
Ивана взорвало. Он вскочил со стула, забегал по комнате.
– Да как говорите вы такое?! Это позор, гадость!
– Позор? – удивленно и в то же время зло переспросил Фырин. – Молчи, младенец. Скажи мне проще: ты бабу имел?
– Вы не просто подлец, – медленно, с расстановкой проговорил Иван, чувствуя, как у него задергалось левое веко, – вы мерзавец и гадкое животное!
Он подскочил к Фырину, рванул его одной рукой к себе, а когда тот поднялся, два раза ударил по лицу наотмашь. Фырин закатил глаза и упал. Яновский, бледный как бумага, склонился над ним, расстегнул ворот: ротный лежал без сознания, закусив губу.
– Он без чувств, – почему-то шепотом сказал Яновский, – зачем вы так? Он же пьян до последней крайности.
Иван, все еще сопя, хрипло ответил:
– Не будь он сейчас таким… Мерзавец, гниль!… Да что он понимает в любви, в женщине? Минуты восторга, мучительной, божественной любви переживал ли он? Когда мысли, воля, биение сердца подчинены одному лишь чувству, как небо, радостному! Любимая рядом – руки дела ищут, трудной работы ждут, мысли, при всей невообразимой горячности их, чисты, отчетливы. И творишь не просто так, не как обычно, но во имя любви к женщине. Любовь – это Данте, Микеланджело, Пушкин, Мицкевич! Любовь – это такая радость, сравниться с которой ничто не может. А нет любви – все тухнет, все исчезает словно дым.
Яновский скривил лицо и попросил:
– Иван, друг мой, негоже в доме больного говорить о смерти.
– Да, – ответил Иван и посмотрел в глаза Яновскому, – но мне все-таки должно сказать вам, что Анну я люблю больше жизни. И всю жизнь мою любить ее буду. Вы хороший и умный, Александр Андреевич, вы все понять обязаны. Ведь и вы восторг юности и любви первой пережили… Если можете – простите меня: я в любви своей чист и перед богом и перед вами.
Продолговатое, с выпирающими скулами лицо Яновского вдруг сразу все сморщилось, глаза стали жалобными, большими, и он заплакал. Иван выбежал из дома. Высоко в небе стыла луна, холодная, как утренняя роса на лугах.
Через месяц Яновский вышел в отставку и уехал из Орска.
3Путешествие Александра Гумбольдта по России подходило к концу. Объехав добрую половину страны, сейчас он держал путь к Орску. У Гумбольдта разболелась голова, и он, мягко потирая виски своими красивыми пальцами, старался отвлечь боль. В Тобольске ему дали новую карету. Она вся громыхала, потому что была плохо смазана. Азиатская пыль разъедала не только смазку. Она заползала в уши, щекотала ноздри, от нее краснели глаза и веки.
Сказывались годы: привыкший к путешествиям Гумбольдт начинал уставать.
– Скоро ли Орск? – спросил он адъютанта.
– Еще часа три, ваше превосходительство.
Гумбольдту стало душно, он открыл окошко и, задернув его занавеской, прислонился к стене кареты. «Боже, какая огромная страна, – подумал он. – Страна просторов, страна загадок». Гумбольдт улыбнулся, вспомнив, как недавно он попросил казака в одной из крепостей достать со дна траву. Тот нырнул и достал.
– Холодно внизу? – спросил Гумбольдт.
Казак попался хитрый. «Нет, – подумал, – меня не проведешь». Стал казак во фрунт и ответил:
– Так служба требует, неважно как, холодно али нет. А вообще-то мы завсегда рады стараться!
Гумбольдт улыбнулся еще раз. Прислушался. В сухом воздухе дрожала тихая, переливно-гортанная песня.
– Что это? – удивился Гумбольдт, сразу позабыв боль в висках. – Опера в степях?
Адъютант не понял шутки. Почтительно звякнул шпорами:
– Это не опера. Азият горланит.
Гумбольдт поморщился. Подумал: «Сам ты азият, дубина».
Через несколько минут к запыленному экипажу подъехал маленький киргиз и стал внимательно, с усмешкой разглядывать Гумбольдта, высунувшегося из окна. Барон обратился к нему по-персидски:
– Зебан-е-фарси медонид?[7]7
Понимаешь по-персидски? (перс.)
[Закрыть]
Киргиз отрицательно покачал головой и легонько стегнул плеткой неспокойного коня. Барон спросил его по-арабски. Тогда киргиз засмеялся:
– Мало руси-руси…
– Поговорите с ним на родном языке, – попросил Гумбольдт адъютанта.
– Что вы, ваше превосходительство, – раздраженно ответил тот, – их варварский выговор…
«Боже, какой осел», – еще раз подумал Гумбольдт и откинулся на подушки.
В Орске ему отвели две крохотные комнатки в свежебеленой хатке; у батальонного командира и у коменданта в семьях свирепствовала простудная хворь.
Гумбольдт прилег на кровать. Против обыкновения он не потребовал сменить белье. Усталость взяла свое. Гумбольдт уснул.
Вечером, осматривая свое прибежище, он, к удивлению необычайному, обнаружил на самодельных полочках томик Вольтера, Пушкина, две свои книги и – самое интересное – прекрасно составленные словари киргизского, татарского, персидского, афганского и узбекского языков.
На вопрос, кто автор этих интереснейших словарей, батальонный адъютант Попов не смог ответить ничего вразумительного. Не мог же он сказать иностранцу, что автор этих безделиц ссыльный в солдаты Виткевич. О ссыльных в России говорить не любили, так же как в семье о неудачных детях.
Под вечер на сенокос прискакал тот самый Попов, который принимал Гумбольдта. Он что-то быстро прошептал командиру и ускакал обратно. Следом за ним уехал и батальонный командир Бабин, приказав через своего денщика Виткевичу остаться на поле для охраны скошенных трав.
Иван удивился: раньше никто не оставался, потому что охранять сено было не от кого.
Стемнело быстро. В небе, затянутом низкими тучами, ворчал гром. Где-то на востоке, совсем над землей полыхали зарницы. Иван сидел на копне свежескошенной травы и, зажав между ладонями стебелек, высвистывал песенку. Сбившись, он запрокинул руки за голову и повалился на траву. Выпадала роса. Луг, темный в ночи, становился серо-голубым. А небо от этого казалось еще более темным.
Около полуночи приехал Ставрин и, остановившись подле стога, позвал сонным голосом:
– Иван Викторов, а Иван Викторов!…
– Э!… – откликнулся Иван.
– Ты гдей-то?
– Здесь.
– Здесь, здесь… Нешто я филин, чтобы в ночи наблюдение иметь?
Иван засмеялся.
– А ты найди.
– Ишь, озорник! Давай жылазь. Пойдем-ка спать ко мне.
– Это почему ж к тебе? Я к себе пойду.
– Не положено тебе сегодня к себе идти.
– Почему?
– А у тебя какой-то французский генерал остановился. Сказывают, Наполеонов брат али дядя. Худой, белесый, а глаза как все равно у волка голодного. Да вылазь, говорю!
Виткевич пошел к бричке. Лошадь тяжело вздыхала и переступала с ноги на ногу.
По-прежнему ворочался гром. Чтобы не удариться, Иван выставил перед собою руки. Уперся в грудь Ставрина. Сел рядом, и Тимофей почувствовал, как дрожало мелкой дрожью плечо Ивана.
– Ты четой-то, Иванечка? – спросил он.
– Зябко.
– А я тебя дома погрею. Наталья хлебы испекла. Да и полуштофик у меня припасенный.
– Ты меня домой сначала завези.
– О, козьи рога, душа упрямая! Да не велено ж!
– Я только в окошко загляну. Интересно…
– Ох, от греха бы, Иванечка, от греха…
Не доезжая до того дома, где теперь жил Иван, Ставрин остановил лошадей.
Виткевич соскочил с телеги и пошел прямо на светящиеся окна. Заглянул внутрь и сразу же отпрянул. Зажмурился. Не от яркого света, а от того, что представилось его взору. Он заглянул в окно еще раз: сомнений быть не могло. У Яновского был маленький портрет этого человека. За столом, устало опершись на руку, сидел Александр фон Гумбольдт. Человек, которого весь мир звал «придворным революционером». Человек, совместивший в себе блестящие дарования историка, естествоиспытателя, географа, лингвиста и этнографа.
Справа от него сидел батальонный командир Бабин. Он молчал. Он не знал, по-видимому, о чем следовало говорить со знаменитостью. Боевой офицер, рубака, храбрец, Бабин был человеком скромным, и поэтому многим, не знавшим истории его жизни, он казался скучным.
«Ах, сюда бы умницу Яновского, – с горечью подумал Иван. – Где-то он сейчас?» С тех пор как подполковник уехал в Россию, Иван ничего не знал о нем.
– Тимофей, скорей уезжай, – громко прошептал Виткевич, отбежав от окна.
Ставрин вздохнул, чмокнул губами, и повозка тронулась. Виткевич вернулся к окну.
Бабина в комнате уже не было. Хлопнула дверь: батальонный ушел к себе. Гумбольдт остался один. Он по-прежнему сидел у стола и неотрывно смотрел на колеблющееся пламя свечи. Иван подождал, пока Бабин отойдет подальше. Обошел дом, постучался в дверь. Вошел. Остановился на пороге. Скрипнула половица, Гумбольдт поднял голову. Испугался.
– Кто вы?
– Хозяин этого дома.
– И этих словарей? – Гумбольдт кивнул на полки.
– Да.
– Но мне же сказали, что вас нет в Орске.
– Вам не могли сказать иначе, потому что я считаюсь государственным преступником.
Глаза Гумбольдта оживились, он встал, шагнул навстречу Ивану и протянул ему обе руки.
– Ваше имя?
– Иван Виткевич.
Уже перед утром, обходя крепость, дозорные заметили свет в окнах домика, где остановился заезжий чужестранец. Солдаты заглянули в окна, любопытствуя, чем можно заниматься в столь поздний час.
Увидев в комнате чужестранца и Виткевича, солдаты пошутили:
– Как два ученых схлестнутся, так по ним дня и ночи нет.
Кто-то из солдат сказал:
– А глянь, Ванька-то наш, поляк, с ним как словно с равным разговор ведет. Молодца парень!
Около вала солдатам повстречался батальонный адъютант Попов, назначенный сегодня дежурным по крепости.
– Что, орлы? Ходите? – глубокомысленно спросил он.
– Ходим, – ответили солдаты, довольные представившейся возможностью поговорить с начальством.
– Спать, верно, хочется?
– Так-то оно так. А вон иноземец не спит.
Попов насторожился:
– Что это?
Молоденький солдатик радостно выпалил:
– С нашим разговаривает, с Виткевичевым.
Пожилой солдат пребольно наступил молодому на ногу. Парень охнул, посмотрел на старого солдата, на Попова, который стал похож на ищейку, и понял, что сделал он плохое дело.
Попов подбежал к домику Виткевича. Крадучись, подошел к окну и замер прислушиваясь.
– Я не понимаю лишь одного, – говорил Гумбольдт. – Государство подобно дереву. Так зачем же обрывать лучшие цветы со своих ветвей? Для того, чтобы удобрить почву для будущих? Слишком долго придется ждать плодов.
– У меня есть только один путь, – ответил Виткевич после долгого молчания. – Бежать.
– Куда? Всюду люди. И потом человек должен иметь родину.
– Она есть у меня.
– Где?
– Здесь.
– Тогда зачем бежать?
– Для того, чтобы помочь страданиям наших людей или в крайнем случае не видеть этих страданий. Ведь наши люди отличаются светлым умом, добрым сердцем и величайшей долготерпеливостью.
– Это великолепная сумма. Это сумма величия нации.
– Да. И трагедии ее.
Попов услышал шаги и отпрянул от окна. Когда он опять приблизился, говорил Гумбольдт.
– Жить среди азиатов? Вы не сможете. Я тоже люблю Азию. Только ненадолго. После путешествий я возвращаюсь домой. Я согласен с англичанами: мой дом – моя крепость. Лишь за крепкими стенами можно мыслить. Здесь в степях я смотрю и запоминаю, но не делаю выводов. Для того чтобы делать вывод, надо уметь закрывать глаза. Вот так, – и Гумбольдт опустил веки, прикрыв ими, словно материей, выпуклые глазные яблоки.
– Сейчас вы, – продолжал он, – в экстазе. Вам радостна стихия просторов. Это от молодости. Но для того чтобы стихия стала по-настоящему широкой и всеобъемлющей – я говорю о стихии чувств, вы понимаете меня, – для этого она должна пройти процесс, подобный закалке клинка. Из огня – в воду. Из холода – в жару. Необходимо испытание веры. Вы талантливы, вы переживаете несправедливые горечи судьбы, и вы несете в сердце веру. Сама по себе вера прекрасна, пусть даже это будет вера в черта.
– Не хотите ли вы сказать, что всякая вера в конце концов обман? Самообман. Красивый, мужественный, но самообман?
– Нет. Я никогда не скажу так. Человек, переставший верить, становится бесплодным. Но мне кажется, Виткевич, что вы сами создали образы тех людей, к которым собираетесь бежать.
Иван молчал. Его подмывало сказать, что он не создавал своим воображением людей, к которым собирался уходить, что он уже однажды жил среди них. Но сдержал себя.
– Вы верите в тех, к кому уходите? Вы верите в азиатов? – настойчиво и, как показалось Ивану, строго допытывался Гумбольдт.
– Да. Верю.
– Тогда вы счастливы. Тогда вы, конечно, вправе делать то, что задумали. Есть такой поэт Генрих Гайне. Я не отношу себя к особым поклонникам его таланта, хотя обожаю как человека. Он мне сказал как-то изумительные слова. Эти слова должны быть занесены на скрижали. Послушайте их.
Гумбольдт встал, поднялся на цыпочки, взмахнул руками и смешно, с завыванием продекламировал:
– Стучи в барабан и не бойся!
Откашлялся, спрятал глаза под бровями, отвернулся, подошел к окну и распахнул створки.
Попов врос в стену, дыхание у него перехватило, на лбу выступил пот.
Гумбольдт потянулся до хруста в суставах и вдруг весело рассмеялся:
– Какую прелестную ночь мы с вами провели, Вяткевич! Я себя чувствую иным. Вы в меня просто вдохнули своей юности. Знаете, иногда надоедает быть фейерверком и эрудитом. И тогда – вроде сегодняшнего – пессимизм из-за угла.








