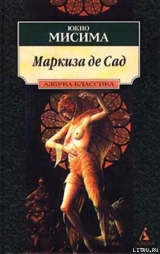
Текст книги "Мой друг Гитлер (пер. Г. Чхартишвили)"
Автор книги: Юкио Мисима
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Рем. Смотри-ка, не такие уж они, выходит, кретины.
Гитлер. Это не шутки, Эрнст. Дело принимает скверный оборот. Я получил от генерала фон Бломберга ультиматум. Считай, что это – мнение всего генералитета, вопль прусской армейской традиции. На, читай. (Достает из кармана лист и протягивает Рему.)
Рем (читает). «Его превосходительству господину рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру надлежит ответить, способен ли он незамедлительно разрешить нынешний политический кризис собственными средствами или же предпочтительнее просить рейхспрезидента ввести в стране чрезвычайное положение с передачей функций управления командованию рейхсвера…»
Гитлер. То есть выбирай, мол, сам.
Рем. Выбирай сам?
Гитлер. Да. Причем «незамедлительно»…
Рем. Это же открытое запугивание! Шантаж! Да у них на такое…
Гитлер. Пороху не хватит, хочешь ты сказать? Я бы тоже желал на это надеяться. Но не знаю, как насчет пороху, зато уж исконного прусского гонора у них предостаточно. Раз они зашли так далеко, то не отступят.
Продолжительная пауза.
Рем (порывисто встает и обнимает Гитлера за плечи). Адольф, надо решаться. Для нас, для партии наступает звездный час. Никаких компромиссов! Иначе наше движение, ради которого мы поставили на карту свои жизни, навсегда запятнает себя грязью… Адольф, давай вернемся к нулевой отметке, давай начнем все заново! Я буду рядом с тобой. Ты же знаешь, Адольф, я всегда с тобой!
Гитлер (ошарашенно). Да-да, ты всегда со мной…
Рем (рывком поднимает Гитлера из кресла и тащит за собой по сцене). Нужно устроить новую революцию. Воскресить молодой мюнхенский задор. Иначе нас не простят души павших боевых товарищей. Народ пойдет за нами. Молодежь – наша. Жалкие угрозы этого старья лопнут, как мыльный пузырь, – в одночасье! И не забывай, Адольф, в Германии шесть миллионов безработных. Их недовольство, их обида – тоже наш капитал. (Тянет Гитлера на балкон.) Взгляни! Взгляни же! Вон на тех скамейках, и на тех, и еще на тех сидят молодые мужчины с унылым и скучающим видом. Такими когда-то были и мы с тобой. Прямо с фронта судьба швырнула нас в пасть голода и инфляции. Мы-то с тобой знаем, какое это мощное топливо – молодость, нищета, безнадежность. Давай снова подпалим этот жалкий хворост! Знаешь, какой полыхнет огонь! На всю Германию. И он станет всепожирающим огнем Сурта.
Гитлер (отворачиваясь от балкона, пятится в глубь сцены). Нет, Эрнст, не заманивай меня. Не надо. Не искушай вновь испить этого сладкого, жгучего вина.
Рем. Все в твоих руках, Адольф.
Гитлер (наконец высвобождается из объятий Рема и садится в кресло спиной к собеседнику. Говорит, не глядя на него). Ты кое-что забыл, Эрнст. Один очень важный урок, который забывать не следовало бы. Делать армию своим врагом нельзя. Ты помнишь двадцать третий год? Как я уламывал генерала фон Лоссова, а он так и не выдал нам оружия? И заявил: если мы начнем затевать беспорядки, армия и полиция откроют по нам огонь. А мы уже объявили сбор и мобилизовали двадцать тысяч штурмовиков. Помнишь, как мы стояли и смотрели на марширующие через центр города колонны красных, а поделать ничего не могли? Даже те ружья, которые тебе удалось захватить в казармах, после приказа генерала мы были вынуждены вернуть. Мы сдались, Эрнст.
Рем молчит.
Поразмысли над этим сегодня ночью, Эрнст. И я тоже поразмыслю. Встретимся за завтраком, и я расскажу тебе, к каким выводам пришел… Эй, там в приемной ждет Штрассер. Пусть войдет.
Рем выходит. Гитлер погружен в раздумья. Появляется Штрассер.
Штрассер. Господин рейхсканцлер…
Гитлер. А-а, давно не виделись, давно. Прошу сюда.
Штрассер. Как прикажете.
Гитлер. Спасибо, что пришли. Вспомним нашу старую дружбу. У отшельников времени для раздумий много, поделитесь-ка со мной светлыми идеями.
Штрассер. Господину рейхсканцлеру прекрасно известно, что новым идеям у меня взяться неоткуда. Я – как попугай, все талдычу про одно и то же. Про идеи, от которых ничего не осталось.
Гитлер. Так-таки ничего?
Штрассер. Абсолютно. Куда подевалась программа партии? Где идеи борьбы с капитализмом, упразднения Пруссии, замены рейхстага самостоятельным форумом фашистского движения? Все осталось по-старому.
Гитлер. Так. И что?
Штрассер. Ничего. Просто констатирую – все осталось, как было раньше. По-прежнему плачут дети рабочих. Ничего не изменилось.
Гитлер. И есть какой-нибудь конкретный план, как все исправить?
Штрассер. План? Нет, плана нет. Но есть Идея. Во всяком случае, у меня.
Гитлер. И каковы же пути осуществления Идеи?
Штрассер. Меня сюда что, экзамен сдавать пригласили? Я уже не в том возрасте.
Гитлер. Дело в том, что стоящие за вами профсоюзы тоже придерживаются Идеи, не так ли? Доктору Шмидту, министру экономики, приходится с вами несладко. Жалуется на вас, говорит, что левая фракция нашей партии ничем не отличается от красных.
Штрассер. Но армия, кажется, так не считает.
Гитлер. Вы уверены? Под «армией» вы, очевидно, имеете в виду старого дурака фон Шлейхера?
Штрассер. Не только его. Я имею в виду армию как таковую.
Гитлер. Надо же, как вы осведомлены о настроениях в армии.
Штрассер. Армия – клинок обоюдоострый. Как знать, может быть, именно ей суждено осуществить преданную забвению программу партии.
Гитлер. Штрассер, дружище, в ваших словах мне слышится зубовный скрежет. К чему это?
Штрассер. Что поделаешь – страстная убежденность не выбирает выражений.
Гитлер. Вот как? Так вас одолевают страсти?
Штрассер. О да.
Гитлер. Так-так. Разузнали что-нибудь интересное?
Штрассер. Кое-что. Например, об ультиматуме министра обороны Бломберга…
Гитлер (пытаясь скрыть удивление). У вас отличные осведомители.
Штрассер. Если будет введено чрезвычайное положение…
Гитлер. Ну, этого я не допущу.
Штрассер. А если придется? Как вы думаете, к кому обратится армия за политической поддержкой? К полутрупу рейхспрезиденту? Или, может быть, к вам, господин рейхсканцлер?
Гитлер. Откровенно говоря, думаю, что не к нему и не ко мне.
Штрассер. А что, если она обратится ко мне?
Гитлер. Самообольщение.
Штрассер. Возможно. И все-таки я бы на вашем месте подстраховался на случай такого казуса и кое-что предпринял.
Гитлер. Что же?
Штрассер. Это уж вы сами соображайте. Если, конечно, хотите при поддержке армии стать рейхспрезидентом.
Гитлер. Вы хотите сказать, что можете этому помешать?
Штрассер. Ну, этого я не говорил.
Гитлер. Надо же, как я ошибался. Я считал вас человеком цельным. А оказывается, социалист при случае может и с генералами сторговаться, а?
Штрассер. Это уж домысливайте сами. Ясно одно, если так пойдет дальше, партия расколется и погибнет. Надо немедленно что-то делать.
Гитлер. Что?
Штрассер. Воскресить дух партийной программы. Встать на сторону рабочих, строить национал-социализм.
Гитлер. Мы тратим время впустую.
Штрассер. Что же, так или иначе решать господину рейхсканцлеру.
Гитлер. Хорошо. Спасибо за совет.
Штрассер. Что вы, что вы. Не за что.
Гитлер. Жду вас на завтрак. Я постараюсь до того времени что-нибудь придумать и сообщу вам о своем решении.
Штрассер. Отлично. Значит, до завтра.
Штрассер уходит. Гитлер в одиночестве раздраженно прогуливается по сцене. Выходит на балкон и останавливается, повернувшись к зрителям спиной. Появляется Крупп.
Крупп. Уже освободились?
Гитлер. А-а, господин Крупп.
Крупп. Что, дождь пошел?
Гитлер. Заморосило. Поразительно – всякий раз после моей речи обязательно идет дождь.
Крупп. Надо полагать, ваши речи способствуют сгущению туч.
Гитлер. Как только мостовая на площади почернела от дождя, все скамейки разом опустели. На редкость вульгарное зрелище – опустевшая площадь. Ни души. А ведь совсем недавно тут было целое море голов – крики, аплодисменты. Площадь после митинга напоминает оцепенение эпилептика после припадка… Везде, куда ни глянь, люди причиняют друг другу зло, ранят один другого. В ткани, из которой соткана любая власть, есть швы, через которые лезут вши. Скажите мне, Крупп, бывает ли власть без швов, неуязвимая власть, подобная белому рыцарскому плащу?
Крупп. Если и не было – закажите. Вам сошьют.
Гитлер. И вы согласны стать моим портным?
Крупп. Надо бы сначала мерку снять.
Отступает на шаг и, подняв трость, делает вид, что снимает мерку.
Гитлер. Ну и как?
Крупп. Увы, на глаз не получается.
Гитлер. Квалификации не хватает?
Крупп. Уж больно деликатная у портного профессия, Адольф. Если не уверен, что заказ оплатят, работа не идет. Хочется сшить столько всяких чудесных вещей, но без точной мерки разве получишь истинное творческое наслаждение? Да и потом, сшитое платье должно ведь прийтись заказчику впору. Чтобы он чувствовал себя в нем легко, свободно, чтоб нигде не жало, не тянуло. Вот как шить-то нужно… Никогда себе не прощу, если одежда выйдет тесной. Не смирительную же рубашку для сумасшедшего шить – сами понимаете.
Гитлер. Если я и сумасшедший…
Крупп (слегка коснувшись его плеча). Сомнения в здравости собственного рассудка посещают и меня! Бывают такие моменты, когда лучше сказать: «Я – сумасшедший» – иначе невозможно вынести и понять самого себя…
Гитлер. А что потом?
Крупп. А потом надо сказать себе: «Это они все сумасшедшие, а я нормальный».
Гитлер. Кажется, я переживаю именно такой момент. А если вспомнить, что я глава правительства…
Крупп. Странная вещь – перед дождем у меня всегда приступ ревматизма, а сегодня почему-то не было.
Гитлер. Господин Крупп, я хочу заказать смирительную рубаху. Сшейте мне ее так, чтобы руки у меня были скручены и я не мог никого ранить. Но уж зато чтобы и меня никто не мог достать.
Крупп (покачивая головой, идет прочь). Нет-нет, Адольф. Еще рано, рано, рано…
Занавес
Действие второе
Следующее утро. Декорация та же. В центре сцены – стол, накрытый к завтраку на троих. Гитлер и Рем только что закончили есть: тарелки пусты, они пьют кофе и курят. Стол позднее будет убран, поэтому его ножки должны быть на колесах. Дверь на балкон открыта, через нее в зал льется утреннее солнце, виден край ясного неба.
Гитлер. Отличное утро. Все как в старые добрые времена… Эх… Хоть бы раз в месяц иметь возможность посидеть вдвоем, без посторонних, попить кофейку, покурить…
Рем. Остальные члены кабинета полопаются от зависти… Давай к делу, Адольф. У тебя, конечно, тоже лишнего времени нет. Перед тем как расстаться, уточним еще раз – все как договорились.
Гитлер. Мы не договаривались, Эрнст. Это приказ.
Рем. Ну, приказ, приказ – я же понимаю. Не в первый раз.
Гитлер. Формальную сторону предоставляю тебе. Итак, я приказываю, чтобы СА, все три миллиона бойцов, получили отпуск. До конца июля. Во время отпуска формы не носить, маршей и учений не устраивать – это запрещается. Ты напишешь соответствующее распоряжение… Вот, собственно, и все.
Рем. А ты уверен, что рейхспрезидент до конца июля отдаст Богу душу?
Гитлер. Он совсем плох. Немецкие врачи, равных которым нет во всем мире, утверждают, что до августа ему никак не дожить.
Рем. Хорошо. Значит, до той поры – политическое затишье… Я тоже много думал этой ночью и понял – только твой светлый ум способен вывести нас из этой передряги. Пока ты не станешь президентом, мы затаимся – пусть впавшие в истерику генералы подуспокоятся. Это компромисс, с которым я могу согласиться.
Гитлер. Спасибо, Эрнст. Ты – настоящий друг.
Рем. Да и время подходящее. Лето – пусть мои сорвиголовы малость расслабятся, поднаберутся сил в родных местах. Неплохая передышка перед грядущей осенней сварой. Если с улиц исчезнут коричневые рубашки и марширующие колонны, военщина почувствует себя в безопасности. Генералы убедятся, что ты полностью контролируешь ситуацию. А народ за лето пусть почувствует, каково это – остаться без нас. Будут дни считать до нашего возвращения.
Гитлер. Именно. Дадим нашему суфле подостыть, охладим раскаленную сталь. Когда я стану рейхспрезидентом, отдать в твое ведение армию будет легче легкого. Надо лишь набраться терпения. Прошу тебя – прояви такую же выдержку, как и я. Хоть зовемся мы с тобой теперь красиво – «рейхсканцлер», «член кабинета», – на самом-то деле положение наше аховое. Трудные, дружище, времена – как в двадцать третьем. Ну да ничего, когда взвалишь на себя тяжкую ношу не один, а с верным товарищем, то и пот, льющий с тебя ручьем, блестит по-другому. Хорошим, мужественным блеском… Эрнст, никогда еще я не доверялся тебе так, как сейчас. Если мы с тобой на пару, плечо к плечу, прорвемся…
Рем. Я все понял, Адольф.
Гитлер. Спасибо, старина.
Рем. Только вот что. Такой длительный отпуск ни с того ни с сего… Как бы мои парни не забеспокоились. Хорошо бы найти какой-нибудь предлог…
Гитлер. Стоп. Я об этом думал. Значит, так. Ты у нас заболел, и…
Рем (со смехом). Я? Заболел? (Хлопает себя по груди, по плечу.) Капитан Рем? Который с рождения не знал лекарств и докторов? Да я здоров как бык, крепче железа!
Гитлер. Именно поэтому.
Рем. Брось, Адольф. Кто в это поверит? Да меня лишь пуля может свалить. Мой железный организм погибнет только от маленького кусочка такого же железа – и ни от чего другого. Вот когда одно железо вопьется страстным поцелуем в другое, тогда я рухну. Но рухну не на постель, это уж точно.
Гитлер. Конечно, Эрнст. Такой храбрец, как ты, даже став министром, не способен встретить смерть в постели. И все же ты должен объявить себя больным и издать соответствующий приказ. Мол, пару месяцев подлечусь, а потом возьмусь за укрепление штурмовых отрядов с удвоенной энергией.
Рем. Никто же не поверит.
Гитлер. В том-то вся и штука! Поверят. Люди легче верят самому неправдоподобному. Штурмовики решат, что, видно, и впрямь дело серьезное.
Рем. Может, ты и прав. Ну а что мне делать?
Гитлер. Поезжай-ка на озеро Висзее. Там на берегу отличные отели – отдохнешь, развеешься.
Рем (мечтательно). Висзее… Райское местечко. Уголок, достойный быть местом отдыха только для истинных героев. (После паузы.) Хорошо. Сегодня же издам приказ, а вечером – в Висзее. Распоряжусь, чтобы из гостиницы «Ханзельбауэр» сегодня же выставили к черту всех постояльцев.
Гитлер. Правильно, дружище. Теперь давай прикинем, как составить приказ.
Рем. Погоди. Дай кофе допить. (Декламирует.) «В день окончания вашего отпуска, первого августа, отряды СА, преисполненные героизма и отваги, с новой силой возьмутся за славное дело, которого ожидают от нас отчизна и народ».
Гитлер (в некотором замешательстве). Что это, начало такое?
Рем. Ну да. А в самом конце еще так напишу: «Штурмовые отряды были, есть и будут судьбой Германии». Ничего, а?
Гитлер. Сойдет, наверное.
Рем. Ты же знаешь, Адольф, без твоего согласия я ничего не сделаю.
Гитлер. Да нет, я согласен, согласен.
Рем. Ты ведь понимаешь, как-никак я – командующий трехмиллионной армией.
Гитлер. Я все понимаю, Эрнст.
Рем. Конечно. Мы ведь друзья… Нет, но какая скотина Штрассер, а? Пренебречь приглашением на завтрак к рейхсканцлеру!.. Ну и черт с ним, мне так даже лучше. Хоть посидим с тобой попросту, с глазу на глаз – в кои-то веки.
Гитлер. Штрассер есть Штрассер. Попробовал меня припугнуть, а когда понял, что навару не будет, снова забился в свою щель. Плетет паутину, заговор – ячеечка к ячеечке. Наш отшельник слишком занят, ему не до нашего общества.
Рем. Если он намерен помешать тебе стать президентом, я ему шею сверну. Этого болтуна давно пора прикончить. А если рабочие зашебуршатся, мои ребята им быстренько глотки позатыкают. Неужели этот ублюдок вчера тебе угрожал?
Гитлер. Да, в общем, нет.
Рем. Смотри. Если что – только скажи. Я его мигом уберу.
Гитлер. Спасибо, старина. Я непременно обращусь к тебе. Ну, всего тебе. (Встает.)
Рем. Счастливо, дружище. Спокойно занимайся делами. У тебя их такая прорва, этих бумажных дел, что у вояки башка бы треснула. Да и у художника тоже, а? Давай работай. Старые бараны, вскормленные на бумажках, ждут, чтоб ты подсыпал им корма. Эх ты, бедолага, с утра до вечера только и делаешь, что свою подпись выводишь. Вся сила из руки уйдет, как потом саблей махать, а? Эх, да что там власть, что там сила. Легкий нажим хилых пальцев, ставящих на бумажке росчерк, – вот во что превратились теперь власть и сила.
Гитлер. Я все понял, Эрнст. Можешь не продолжать.
Рем. Нет, друг, дай я договорю. Не забывай, что твоя настоящая мощь не в пальцах с авторучкой, а в стальных мышцах молодых парней, следящих за каждым твоим словом и движением с обожанием, готовых в минуту опасности без колебаний отдать за тебя жизнь. Когда заблудишься в административно-политических дебрях, положись на крепкие бицепсы, покрытые сеткой голубых, как рассветное небо, вен, – бицепсы прорубят тебе тропу через любую чащу. Во все эпохи и времена истинный, глубинный источник власти – мускулы молодежи. Не забывай об этом, Адольф. И о друге не забывай, человеке, который хочет сохранить для тебя эту мощь и заставить ее работать только в твоих интересах.
Гитлер (протягивая руку). Как я могу забыть, Эрнст.
Рем. И я не забуду, Адольф.
Гитлер. Ну, мне нужно идти.
Рем. Да, Штрассера ждать уже нет смысла. Хоть я бы с удовольствием запихнул ему в пасть остывший завтрак.
Гитлер. Кликни-ка официанта.
Рем. Давай я сам. Уподоблюсь великану Скрюмиру, таскающему за Тором суму со снедью.
Гитлер. А я думал, что ты – Зигфрид.
Рем. Ну ладно, великан пошел.
Толкает перед собой стол на колесиках.
Гитлер. Перестань. Члену кабинета не пристало таскать грязную посуду.
Рем. Ерунда, Адольф, не бери в голову.
Весело укатывает стол за сцену. Гитлер провожает его взглядом, потом поворачивается, чтобы уйти, но тут с балкона появляется Крупп.
Крупп. Адольф!
Гитлер. Доброе утро, господин Крупп!
Крупп. Доброе. Чудесный, ясный денек. Для старика я проявил чудеса циркового искусства, не правда ли? И заодно прогрел колено на солнышке. У меня, знаете ли, весьма своенравное колено, но сейчас оно очень довольно. (Проходится по сцене, не опираясь на трость.)
Гитлер. Что ж, рад за него.
Крупп. И потом, чувствуешь себя таким помолодевшим, когда украдкой подглядываешь и подслушиваешь. В моем возрасте и за шашнями-то собственной жены следить уже сил нет. От ревности пьянеешь, как от вина, соловеешь… Когда я по вашему предложению сделался акробатом и, спрятавшись на балконе, подслушивал ваш разговор, мне казалось, будто я присутствую на спектакле, а задача актеров – вернуть мне молодость. Поразительно, какую торжественность и романтичность событию придает подслушивание и подсматривание.
Гитлер. Вы, кажется, хотите сказать, что наш с Эрнстом разговор был чистым притворством и балаганом?
Крупп. О нет, вы, господин рейхсканцлер, были сама искренность. А уж старина Рем по части искренности даже брал через край. Его возвышенность и благородство чувств были уже даже не совсем приличны.
Гитлер. Я хотел, чтобы вы, господин Крупп, видели это собственными глазами. Вы ведь человек скептический, надо было показать вам, что в политике есть место и искренности, – когда нет рядом посторонних. Рем был не намерен уступать, но в результате пошел-таки на компромисс. Удовлетворит ли это военных?.. Я, честно говоря, не очень-то в это верю. То есть совсем не верю… Хотелось бы, конечно, надеяться.
Крупп. Ах, а как мне хотелось бы! Однако я человек старый, жить мне осталось недолго – я не могу позволить себе тешиться пустыми надеждами. Но скажите мне, Адольф, отчего это, когда Рем жизнерадостно уволакивал отсюда стол, вы провожали его таким неописуемо мрачным взглядом? Вы будто разом постарели на десять лет.
Гитлер (вздрогнув). Не слишком ли вы самоуверенны, господин физиономист?
Крупп. А что касается надежды, то ее в меня вселило не ваше воркование, а тот самый мрачный взгляд. Я достаточно ясно выражаюсь?
Гитлер. Господин Крупп!
Крупп. Вот такие дела, Адольф. Приближается буря. Ее не избежать. Вершины гор уже окутаны густым туманом, горные пастбища потемнели. Бедные овечки беспокоятся, блеют: «Бе-е-е, бе-е-е». Овчарки возбужденно лают, гонят стадо в загон… А в это время вы… Как бы это сказать… Вы ощущаете себя не той мощной бурей, а всего лишь лихорадочно мечущейся овчаркой. Отсюда и компромисс с Ремом. С этой овцой.
Гитлер. Это Рем-то овца? Слышал бы он…
Крупп. Ну, пусть не овца. Но сознание у него овечье, стадное. Или я не прав? И когда вы смотрели Рему вслед, ваше потемневшее лицо напоминало не овечью и даже не овчарочью морду – это была сама буря, ну а если и не буря, то, во всяком случае, первое ее дуновение, черное и обжигающее. Предвестие бури, которая вот-вот окрасит горные пики лиловым сиянием молний, заставит затрепетать от громовых ударов весь мир, а живую человеческую душу мгновенным электрическим разрядом обратит в кучку пепла. Неужто вы сами этого не ощутили?
Гитлер. Я ощутил страх. Смятение. Глубокую грусть. Вот и все.
Крупп. Что ж, человеку не следует стыдиться естественных человеческих чувств, даже если этот человек – рейхсканцлер. Но когда диапазон обычных человеческих чувств беспредельно увеличивается, они вырастают до размеров природного явления и становятся самим Провидением. Если вы вспомните историю, то увидите, что людей, которым удалось этого достичь, можно пересчитать по пальцам.
Гитлер. Вы говорите об истории человечества?
Крупп. Да, поскольку об истории богов мне ничего не известно. Зато я разбираюсь в железе. И должен сказать вам, Адольф, что на моих заводах метаморфоза, о которой я говорю, свершается каждый день и каждую ночь. Пройдя сквозь огненную бурю в три тысячи градусов по Фаренгейту, железная руда превращается в чугун. В нечто качественно новое.
Гитлер. Я подумаю над вашими словами, господин Крупп.
Они уходят со сцены. Некоторое время спустя с противоположной стороны быстро, словно убегая от кого-то, на сцену выходит Рем. Следом за ним появляется Штрассер.
Рем. Ну что вы ко мне прилипли?! По-моему, я ясно дал понять, что не желаю с вами разговаривать.
Штрассер. Это я понял. Да и не я один. Все знают, что мы друг с другом не разговариваем. Рем – правый, Штрассер – левый, они – кошка с собакой и все такое. Если Рем со Штрассером встречаются на людях, то воротят рожу друг от друга. Сторонятся один другого, будто заразы боятся… Все эти разговоры мне известны, так что можете не утруждаться. Но именно поэтому – да, именно поэтому – нам непременно нужно потолковать.
Рем. Вы опоздали на завтрак к рейхсканцлеру. Он уже удалился в рабочий кабинет. Неплохо бы извиниться, а?
Штрассер. Бросьте, Рем. Сейчас не до дворцовых реверансов.
Рем. Ну и черт с вами, поступайте как знаете.
Штрассер. Да, я буду поступать как знаю. (Садится в кресло.) Присядьте-ка.
Рем. Я тоже знаю, как мне поступить. (Во время последующего диалога раздраженно прохаживается взад-вперед.)
Штрассер (смеется). Вы как дитя малое… Будет вам брюзжать. Ведь вы недовольны рейхсканцлером. Вам не нравится, как он ведет себя в последнее время.
Рем. Фу-ты ну-ты, все мои мысли и чувства видит как на ладони. Да мы с Адольфом старые товарищи! А вы, хоть и давно в партии, но его другом никогда не были.
Штрассер. Но сейчас вы в нем разочаровались. Что, не так?
Рем. Да с чего вы взяли?
Штрассер. А с того. И я в нем был разочарован. Он очень, очень мне не нравился. Гитлер-рейхсканцлер – Гитлер, ходящий на задних лапках перед дряхлыми драконами с облезшей чешуей, мне был просто противен… Но теперь я начинаю думать иначе. После моего вчерашнего с ним разговора моя позиция изменилась. Нет, я больше не возмущен Гитлером и не разочарован в нем. Гитлер – молодчина!
Рем (с некоторым интересом). И поэтому вы не соизволили явиться на завтрак?
Штрассер. Нет, не пришел я по другой причине. Подумал, придешь – не дай Бог, еще отравы подсыплет.
Рем. Что за шутки! (Незаметно для себя втягивается в разговор.) Значит, Гитлер – молодчина? Это что, чисто по-человечески или исходя из нынешней ситуации?
Штрассер. А по-всякому. Гитлер сейчас вступил в период, подобного которому не бывало прежде. Новый период нуждается в новой тактике. Требуем мы ее от Гитлера или не требуем – он все равно и сам вынужден к ней прибегать, и чем дальше, тем больше. Я не хочу сказать, что Гитлер действует безупречно, но, во всяком случае, он чувствует ситуацию лучше, чем кто бы то ни было. Вот почему он – молодчина.
Рем. Вы прямо соловьем заливаетесь про этот ваш «новый период». Такой великий революционер расхваливает эпоху всеобщей сумятицы и безверия.
Штрассер. Революция – все, кончилась.
Рем. Я-то это знаю, господин Штрассер. Именно поэтому мы хотим…
Штрассер. Знаю-знаю. Сегодня вы не призываете к новой революции. Ведь вы согласились на мирную передышку.
Рем. Откуда вы…?!
Штрассер. И так ясно. Не бойтесь, я вашу беседу под дверью не подслушивал. У такого опытного политического волка слух исключительно тонкий: я и издалека все слышу… Все решается сейчас. Вы ведь согласны, что революция окончена?
Рем (нехотя). Ну, окончена.
Штрассер. Итак, революции больше нет. Вы стали министром, Гитлер стал рейхсканцлером, а я – я удалился от дел. Каждый занял определенную позицию. Предпосылки такого расклада имелись и прежде… Просто поразительно – никто ни сном ни духом не ожидал, что революция вдруг возьмет и кончится. (С балкона доносится воркование голубей.) Голубки воркуют… Я проходил по коридору, смотрю – стол стоит, неубранный после завтрака. Дай-ка, думаю, захвачу один тост – пташек покормлю. Где он тут у меня? (Шарит в кармане.)…Ах, черт, раскрошился. (Подходит к балконной двери и кормит голубей. Рем садится в кресло.) Ишь, накинулись… Как сияет солнце! Разве во время революции бывает такое утро? Да, не думал я, что доживу до этакого безмятежного, без всякого запаха крови, утра. (Штрассер говорит оперевшись спиной о балконную ограду. Время от времени подбрасывает голубям крошек.) Этого не могло, не должно было произойти. Но в один прекрасный день началось – и все, пошло-поехало. Голуби революции летали под свист пуль, к их лапкам были прикручены листки с боевыми донесениями. Круглую белую грудку в любую минуту могла запачкать алая кровь. А что мы видим теперь? Голубки что-то такое брюзжат, ворчат и мирно поклевывают хлебные крошки… Даже дым из трубы паровоза, мчащегося по путепроводу, напоминает уже не о пороховой гари, а о костерке на пикнике. А когда проходишь под окном, на подоконнике которого хозяйка выколачивает пестрый ковер, вниз сыпятся не засохшие комья крови, а только табачный пепел да грязь с подметок. Или, скажем, бьют часы. Раньше они отстукивали кому-то последний час жизни, а теперь лишь извещают о течении времени: и золотые часы, и даже мраморные, с башни, перестали быть твердыми, они разжижились. Было время, когда женщины носили в своих кошелках вино, чтобы поить раненных бойцов революции, и тогда оно искрилось почище любого рубина. Нынче же вино стало цвета кирпича. Изрытые осколками газоны расцветали роскошными синими цветами, но вот стальных удобрений больше нет, и распускаются сплошь одни паршивые анютины глазки. А песни? Где тот особый надрыв, делавший их похожими на крик отчаяния? Синее небо, отражаясь в широко раскрытых глазах убитых, предвещало новую жизнь, теперь оно похоже на подсиненную воду в корыте для стирки. И табак утратил сладковатый привкус неотвратимой разлуки… Природа, люди, вещи потеряли наполнявшую, питавшую их силу – она ускользает между пальцами. Как воздух, как вода. А сложное сплетение наших острых как бритва нервов как-то обвисло, поистрепалось… Зато в воздухе потянуло новыми ароматами. Знакомый по прошлым годам запашок гниения, когда пригреет солнце и из-под опавшей листвы в лесу вдруг шибанет такой мерзкой тухлятиной. Это падаль, оставшаяся с прошлогодней охоты, – не отыскали псы подстреленной добычи. Гнилостное зловоние распространилось повсюду, от него человеческие пальцы теряют чувствительность, словно их поразила проказа. А ведь было время, когда эти пальцы могли нащупать путь во тьме – безо всяких дорожных указателей и фонарей. Что они могут сегодня – только ставить подпись на чеке да баб тискать. Деградация. Да, каждодневная, невидимая глазу деградация. Не сомневаюсь, Рем, что и вы очень хорошо ее ощущаете. Если настал день, когда скрипка перестает по-настоящему выдавать тремоло, когда знамя больше не изгибается на древке леопардом, когда кофе перестает закипать с той неповторимой, клокочущей яростью, когда бойница в крепостной стене становится не орудийным жерлом, а бельмом, когда не запачканная кровью листовка превращается в рекламный листок, когда сапоги уже не пахнут звериной сыростью, когда звезда утрачивает магнетизм, когда стихи перестают быть паролем… Если такой день настал, Рем, это значит, что революции конец. Революция – время белоснежных клыков, свирепых и чистых. Ослепительно белого оскала молодых ртов – и гневе, и в улыбке. Эпоха сверкающей эмали… А потом наступает эпоха десен. Сначала они красные, но постепенно лиловеют, начинают гнить…
Рем. Ну хватит! А то у меня от ваших речей уши гниют. Да и сердце тоже. К чему вы меня, собственно, призываете? А, Штрассер?
Штрассер. Я знаю – вы хотите затеять новую революцию. И я бы не прочь. По-моему, у нас есть тема для разговора. Нет?
Рем. Методы у нас разные. И цели тоже.
Штрассер. Это как в зеркале: ваше правое – мое левое. И наоборот. Может, расколотить зеркало к чертовой матери? А вдруг мы в аккурат сойдемся?
Рем. Так вот о чем разговор… Занятно. Ну-ка, присядьте.
Штрассер. Спасибо. Наконец я привлек ваше драгоценное внимание. (Садится в кресло напротив.)
Рем. Только говорю сразу – для ясности. Я никогда – ни раньше, ни теперь, ни в будущем – ни за что на свете не клюну на ваши коммунистические штучки. Мутите воду в этих ваших профсоюзах, и уже не поймешь, кому они служат – Германии или Советам. Слышите? Чтобы без этого! Я готов выслушать любые ваши предложения, кроме этого.
Штрассер. Ну-ну, побольше гибкости, дорогой Рем. Вы ведь все-таки министр, а не мальчишка из «Гитлерюгенда». Вы сказали: «Кроме этого». Не «кроме», а вместо этого. Другое измерение, чувствуете?
Рем. То есть?
Штрассер. Что вы думаете о старичке Круппе, этом Рейнеке-Лисе, торговце железом? Он за Гитлером просто тенью следует…
Рем. По правде говоря, терпеть не могу этого старикашку.
Штрассер. Я спрашиваю не о ваших чувствах к этому господину. Как вы думаете, доверяет он Гитлеру?
Рем. Кто его знает…
Штрассер. А я думаю, что вряд ли. Старик пожаловал из Эссена, чтобы предложить режиму Гитлера брачный союз с эссенскими промышленниками. А предварительно выяснить, годится ли новый жених в спутники жизни. Сдается мне, что окончательное решение пока не принято. Железная невеста из Эссена – дама, конечно, собою видная, но несколько потрепана после предыдущего замужества. Я имею в виду Мировую войну. Поэтому естественно, что посредник и сват должен проявить максимум осмотрительности при выборе нового супруга.






