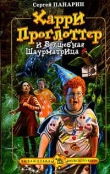Текст книги "Красношейка"
Автор книги: Ю Несбё
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Часть третья
Урия
Эпизод 23
Госпиталь Рудольфа II, Вена, 7 июня 1944 года
Хелена Ланг быстро везла столик-тележку в палату номер четыре. Окна были открыты, и она вдыхала свежий аромат недавно скошенной травы. Разрушением и смертью сегодня не пахнет. Прошел год с первой бомбардировки Вены. В последние недели бомбили каждую ясную ночь. Хотя госпиталь Рудольфа II стоял в нескольких километрах от центра города, скрытый от войны в зеленом Венском лесу, дым городских пожаров перебивал запахи лета.
Хелена миновала поворот и улыбнулась доктору Брокхарду, тот, похоже, хотел остановиться и поболтать, так что она прибавил шагу. Всякий раз, когда она встречалась с глазу на глаз с Брокхардом, с его неподвижным, сверлящим взглядом из-за стекол очков, она чувствовала себя неуютно. Ее мать никак не могла понять, почему дочь избегает этого молодого, многообещающего врача, тем более что Брокхард был из очень обеспеченной венской семьи. Но Хелене не нравился ни Брокхард, ни его семья, ни попытки матери использовать ее как обратный билет в приличное общество. Мать считала, что во всем, что произошло, виновата война. Война была виновата в том, что отец Хелены, Генрих Ланг, потерял своих еврейских заимодавцев так внезапно, что не смог расплатиться с другими кредиторами в условленные сроки. Но проблемы с деньгами заставили его импровизировать, он написал своим еврейским банкирам, чтобы они перевели арестованные австрийским правительством облигации Лангу. Так что теперь Хенрик Ланг сидел в тюрьме за сговор с врагами рейха – евреями.
В отличие от матери, Хелена скучала больше по отцу, чем по тому положению, которое занимала семья. Она, например, вовсе не тосковала по пышным банкетам, с их полувзрослыми светскими беседами и вечными попытками пристроить ее за какого-нибудь богатенького, избалованного мальчика.
Она посмотрела на часы и ускорила шаг. Маленькая птичка, которая, должно быть, залетела через открытое окно, сидела сейчас высоко под потолком на одном из абажуров и беззаботно пела свою песенку. В такие дни Хелене даже не верилось, что там, снаружи, идет война. Может, оттого, что эти плотные ряды елей надежно отгораживали от всего, что не хотелось бы видеть. Но стоило зайти в какую-нибудь палату, тут же становилось понятно, что это была иллюзия мира. Вместе с исковерканными телами, истерзанными душами раненых солдат сюда приходила война. Поначалу Хелена выслушивала их истории, твердо уверенная в том, что ей хватит стойкости и веры, чтобы облегчить их страдания. Но все рассказывали одну и ту же бесконечную, кошмарную сказку о том, что приходится пережить человеку в этом мире, какие муки уготованы тем, кто выживет. Только мертвым сейчас легко. Так что Хелена перестала слушать их. Она просто притворялась, что слушает, пока меняла бинты, мерила температуру и давала им лекарства и еду. А когда они спали, она старалась даже не смотреть на них, потому что их лица продолжали их рассказы даже во сне. Она читала страдания в бледных молодых, совсем мальчишеских физиономиях, жестокость – в огрубевших, суровых лицах и желание умереть – в исковерканных болью чертах того, кто только что узнал, что ему отрежут ногу.
Но все равно она шла легкими, быстрыми шагами. Может, потому что было лето, может, потому что доктор только что сказал, какая она сегодня красивая. Или все дело в этом норвежском пациенте в четвертой палате, который скоро улыбнется ей и скажет «Guten morgen»[28]28
«Доброе утро» (нем.)
[Закрыть] на своем смешном ломаном немецком. Потом он будет завтракать, подолгу глядя на нее, пока она будет ходить от кровати к кровати, обходя других больных, каждого ободряя парой теплых слов. И каждые пять-шесть секунд она будет оборачиваться на него, и, если он улыбнется ей, она улыбнется ему в ответ и продолжит свою работу, как будто ничего не происходит. Ничего. И вместе с тем для нее это – все. Только мысль об этих коротких взглядах поддерживала ее все эти дни и придавала ей силы смеяться, когда ужасно обгоревший капитан Хадлер, лежавший на койке у двери, шутливо спрашивал, когда же с фронта пришлют его гениталии.
Она прошла через вращающуюся дверь четвертой палаты Солнечный свет, переполнявший помещение, окрасил все в белый цвет: стены, потолок, простыни – все сверкало. «Прямо как в раю», – подумала она.
– Guten morgen, Helena.
Она улыбнулась ему. Он сидел на стуле у кровати и читал книгу.
– Ты хорошо выспался, Урия? – весело спросила она.
– Как медведь, – ответил он.
– Медведь?
– Да. В этой… как это по-немецки? Ну, где они спят зимой?
– А, берлога.
– Да, в берлоге.
Они оба рассмеялись. Хелена знала, что все пациенты смотрят на них, что ей нельзя уделять ему больше времени, чем остальным.
– А голова? Сегодня получше, да?
– Да, все лучше и лучше. Я, видишь, скоро стану таким же красивым, каким был раньше.
Она помнила, каким он к ним попал. Тогда казалось, ему просто не выжить с такой дырой во лбу. Она подошла, чтобы налить ему чаю в кружку, но нечаянно опрокинула ее.
– Эй! – рассмеялся он. – Ты что, вчера допоздна танцевала?
Она подняла голову. Он весело подмигнул ей.
– Да, – сказала она и покраснела оттого, что так глупо соврала.
– А что вы тут танцуете, в Вене?
– Я хотела сказать, нет, я вовсе не танцевала. Я просто поздно уснула.
– Вы же тут танцуете вальс. Ну да, венский вальс.
– Да, это верно, – сказала она, глядя на градусник.
– Так. – Он встал и запел. Остальные смотрели со своих коек. Песня была на незнакомом им языке, но он пел таким теплым, красивым голосом. А самые здоровые пациенты одобрительно кричали и смеялись, глядя, как он кружит по комнате маленькими, осторожными шагами, отчего пояс его халата сполз на пол.
– Сейчас же сядь обратно, Урия, или я отправлю тебя прямо на Восточный фронт! – крикнула она строго.
Он послушно подошел и сел. На самом деле его звали не Урией, но он настаивал, чтобы его называли именно этим именем.
– А ты можешь рейнлендер? – спросил он.
– Рейнлендер?
– Это такой танец, который пришел к нам с Рейна. Хочешь, я покажу тебе?
– Ты будешь сидеть, пока не поправишься!
– А потом я поеду с тобой в Вену и научу тебя танцевать рейнлендер.
Он любил сидеть на веранде в солнечные дни, и у него уже был приличный загар, так что на его веселом лице сейчас ярко сверкали белые зубы.
– Я думаю, ты уже достаточно поправился, чтобы отправить тебя обратно на фронт, – парировала она, но все равно на ее щеках проступил румянец. Она встала, чтобы продолжить обход, но он вдруг взял ее за руку.
– Скажи «да», – прошептал он.
Она звонко рассмеялась и, отмахнувшись от него, подошла к соседней кровати. Сердце маленькой птичкой пело у нее в груди.
– Ну? – сказал доктор Брокхард, оторвав взгляд от бумаг, когда она вошла в его кабинет. Как обычно, она не смогла понять, чем было это «ну?»: вопросом, вступлением к более длинному вопросу или просто междометием. Поэтому она ничего не ответила и просто встала у двери.
– Вы меня спрашивали, доктор?
– Почему ты продолжаешь говорить мне «вы», Хелена? – Брокхард вздохнул и улыбнулся. – Господи, мы же знаем друг друга с детства.
– Зачем вы меня вызывали?
– Я решил, что норвежца из четвертой палаты пора выписывать.
– Ясно.
Она никак не отреагировала на это – с чего? Люди находятся здесь до тех пор, пока не выздоровеют. Или не умрут. Это больничные будни.
– Пять дней назад я сообщил об этом в вермахт, и уже получили новое распоряжение.
– Быстро. – Ее голос был ровным и спокойным.
– Да, там крайне нужны новые бойцы. Мы будем сражаться до конца.
– Да, – сказала она. И про себя подумала: «Мы будем сражаться до конца, а ты, двадцатилетний парень, сидишь тут, в ста милях от фронта, и делаешь работу, с которой справился бы семидесятилетний старик. Спасибо герру Брокхарду-старшему».
– Я думал попросить тебя передать ему эту новость, вы, кажется, нашли общий язык.
Она уловила его изучающий взгляд.
– А все-таки что ты в нем нашла, Хелена? Чем он отличается от остальных четырехсот солдат, которые лежат в этом госпитале? – Она хотела возразить, но он опередил ее: – Извини, Хелена, это, конечно, не мое дело. Но просто из природного любопытства. Мне… – он взял ручку, повертел ее перед собой кончиками пальцев, обернулся и выглянул в окно, – просто интересно, чем тебе так понравился этот иностранный авантюрист, который предал собственную страну, чтобы только добиться благосклонности победителя. Понимаешь, о чем я говорю? Кстати, как там дела у твоей матери?
Хелена сглотнула, прежде чем ответить:
– Вам не стоит беспокоиться о моей матери, доктор. Если вы дадите мне это распоряжение, я передам ему.
Брокхард повернулся к ней. Он взял письмо, которое лежало перед ним на письменном столе.
– Его отправляют в Третью танковую дивизию в Венгрию. Знаешь, что это означает?
Она наморщила лоб:
– Третья танковая дивизия? Он доброволец войск СС. Почему его приписывают к регулярной армии вермахта?
Брокхард пожал плечами:
– В такое время каждый должен делать все, что может, и выполнять те задачи, которые ставятся. Или ты не согласна, Хелена?
– Что вы имеете в виду?
– Он ведь пехотинец? Значит, он будет бежать за этими танками, а не сидеть в них. Один мой друг – он был на Украине – рассказывал, что они каждый день стреляют по русским, пока пулеметы не раскаляются, что трупы лежат уже горами, а этот людской поток не ослабевает, и ничто не может остановить наступления.
Она едва не вырвала это письмо из рук Брокхарда и не разорвала его на кусочки.
– Может, такой девушке, как ты, стоит быть благоразумнее и не привязываться так к человеку, которого ты наверняка больше никогда не увидишь. Эта шаль тебе очень идет, Хелена. Фамильная вещица?
– Я приятно удивлена вашим сочувствием, доктор, но смею вас уверить, что оно совершенно излишне. Я не питаю никаких особенных чувств к этому пациенту. Время подавать обед, так что, если позволите…
– Хелена, Хелена… – Брокхард покачал головой и улыбнулся. – Ты и вправду думаешь, что я слепой? Ты думаешь, мне легко смотреть, какие это тебе причиняет страдания? Близкая дружба между нашими семьями заставляет меня ощущать какую-то особую связь между нами. И это сближает нас, Хелена. Иначе я не стал бы разговаривать с тобой так доверительно. Извини, но ты не могла не понять, что я питаю к тебе некоторые теплые чувства, и…
– Хватит!
– Что?
Хелена закрыл за собой дверь и повысила голос:
– Я здесь по доброй воле, Брокхард, и я не из тех медсестер, с которыми вы можете играть, как вам хочется. Давайте сюда письмо и говорите, что вам нужно, или я сейчас же ухожу отсюда.
– Дорогая моя Хелена. – Брокхард сделал озабоченное лицо. – Ты не понимаешь, что это зависит от тебя?
– От меня?
– Выписывать кого-то или нет – дело субъективное. Особенно если это касается такого ранения в голову.
– Понимаю.
– Я могу выписать его и через три месяца, а кто знает, будет вообще через три месяца какой-нибудь восточный фронт или нет?
Она недоуменно посмотрела на Брокхарда.
– Ты же прилежно читаешь Библию, Хелена. Ты ведь знаешь историю о царе Давиде, который возжелал Вирсавию, хотя она была замужем за одним из его воинов? Он приказал своим генералам послать мужа в первом ряду на войне, чтобы его убили. И тогда царь смог без препятствий к ней посвататься.
– И что это означает?
– Ничего. Ничего, Хелена. Я не собираюсь посылать твоего избранника на фронт, если он пока еще нездоров. Или кого-нибудь еще по этой же причине. Я имел в виду именно это. А поскольку ты не хуже меня знаешь, как у этого пациента обстоит дело со здоровьем, я подумал, что следует выслушать, что ты скажешь, прежде чем принимать решение. Если ты считаешь, что он еще не совсем здоров, я, может быть, пошлю вермахту другой рапорт.
Похоже, до нее медленно доходил смысл его слов.
– Или как, Хелена?
Она едва могла понять это: он что, хочет использовать Урию как заложника, чтобы заполучить ее? Долго он это придумывал? Может, он решил это уже очень давно и просто дожидался подходящего момента? И потом, в качестве кого ему нужна Хелена? Как жена или любовница?
– Ну? – спросил Брокхард.
Мысли проносились в ее голове, пытаясь найти выход из лабиринта. Но Брокхард перекрыл все выходы. Разумеется. Он не похож на дурака. Пока он ради нее выгораживает Урию, она будет обязана во всем ему подчиняться. Ведь решение просто отложено. А если Урия покинет госпиталь, Брокхарду будет нечем давить на нее. Давить? Господи, да она едва-едва была знакома с этим норвежцем. И не знала, что он чувствует к ней.
– Я… – начала она.
– Да?
Он подался вперед. Она хотела продолжить, сказать, что хочет быть свободной, но что-то остановило ее. И через секунду она поняла что. Это все ложь. Ложь, что она хочет быть свободной; ложь, что она не знает, что чувствует к ней Урия; ложь, что человек должен смиряться со всем и жить дальше; все это – ложь. Она прикусила нижнюю губу, потому что почувствовала, что та начинает дрожать.
Эпизод 24
Стадион Бишлет, канун Нового 2000 года
Было двенадцать часов, когда Харри Холе вышел из трамвая у гостиницы «Рэдиссон САС» на Хольбергсгате, отметив, что низкое утреннее солнце сверкнуло в окнах здания Государственной больницы и снова скрылось за облаками. Он в последний раз заходил в свой кабинет. Чтобы в последний раз навести порядок, проверить, все ли он взял с собой, – так он говорил сам себе. Но все его немногочисленные личные вещи уже лежали в пластиковом пакете, который он унес домой еще вчера. В коридорах было пусто. Все, кроме дежурных, готовились дома к последнему празднику тысячелетия. Со спинки стула свисал серпантин – напоминание о вчерашнем прощальном вечере, естественно, организованном Эллен. Сухое заключительное слово Бьярне Мёллера не очень-то подходило к голубым воздушным шарикам и торту со свечами, но этой короткой речи вполне хватило. Вероятно, начальник боялся оказаться напыщенным или сентиментальным. И Харри отдавал себе отчет, что никогда не ощущал большей неловкости, чем в тот момент, когда Мёллер поздравлял его с новым назначением и пожелал ему успеха в СБП. И даже саркастическая улыбочка Тома Волера, и понимающее покачивание головами в задних рядах не могли ничего добавить к его унижению.
В этот раз он пришел в кабинет, просто чтоб посидеть здесь в последний раз, на этом старом скрипучем стуле, в этой комнате, где он провел почти семь лет. От этой мысли Харри вздрогнул. Вся эта сентиментальность только снова напоминала ему о том, что он стареет.
Харри прошел по Хольбергсгате, потом свернул налево, на Софиесгате. Большинство домов на этой узкой улочке в начале столетия были домами рабочих. Долгие годы их не ремонтировали. Но после того, как цены на жилье подскочили так, что небогатым молодым семьям, у которых не хватало средств, чтобы жить на Майорстуа, пришлось переехать сюда, этот район немного облагородился. Теперь фасады были приведены в порядок. У всех домов, кроме одного – дома номер восемь. Дома Харри. Самого Харри это нисколько не беспокоило.
Он закрыл входную дверь на ключ и открыл почтовый ящик внизу у лестницы. Счет за пиццу и конверт от городского казначейства Осло, в котором (он знал это наперед) было напоминание об оплате парковки за прошлый месяц. Он пошел наверх, тихо ругаясь по дороге. У своего дядюшки, которого он, строго говоря, и не знал толком, он купил по бросовой цене пятнадцатилетний «форд»-эскорт. Ржавый, с дрянным сцеплением, но зато с элегантным откидным верхом. Но с тех пор он, пожалуй, чаще оплачивал счета за парковку и ремонт, чем ездил по городу. К тому же старая развалюха зачастую не хотела заводиться, а ставить ее приходилось исключительно в ложбинах, чтобы она не укатилась.
Он запер дверь. У него была спартанская двухкомнатная квартира. Прибранная, чистая, выскобленный деревянный пол, никаких ковров. Единственным украшением на стенах была фотография матери и Сестрёныша и плакат «Крестный отец», который он стянул в кинотеатре «Сюмра» в свои шестнадцать. Здесь не было цветов, камина и разных милых безделушек. Он как-то повесил доску, куда думал прицеплять открытки, фотографии и афоризмы, на которые натыкаешься в жизни. Такие доски он видел дома у других. Когда выяснилось, что он не получает открыток и в принципе не любит фотографировать, он вырезал цитату из Бьёрнебу:[29]29
Бьёрнебу Енс (1920–1976) – норвежский писатель, драматург и поэт, выразитель левоэкстремистских взглядов.
[Закрыть]
И этот рост мощностей – всего лишь выражение, означающее рост нашего знания законов природы. Это знание – ужас.
Харри взглянул на автоответчик, убедился, что никаких сообщений не приходило (глупо было бы рассчитывать на другое), расстегнул рубашку, бросил ее в корзину для грязного белья и взял из аккуратной стопки в шкафу свежую.
Оставив автоответчик включенным (вдруг позвонят из службы социологического опроса), Харри снова отпер дверь и вышел на улицу.
Без какого-либо сентиментального подтекста он купил у Али в киоске последние газеты тысячелетия и зашагал по улице Доврегате. По Валдемар-Транесгате спешили домой люди, сделавшие последние покупки на закате тысячелетия. Что-то дрогнуло у Харри внутри, когда он переступал порог ресторана «Скрёдер» и ему в лицо ударило влажное человеческое тепло. Народу было много, но он заметил, что его любимый столик скоро освободится, и направился к нему. Пожилой мужчина, который встал из-за стола и теперь надевал шляпу, глянул на Харри из-под седых кустистых бровей и молча кивнул, прежде чем уйти. Столик стоял у окна, и днем он, в отличие от многих остальных в этом тусклом помещении, был достаточно освещен, чтобы читать за ним газеты. Едва он сел, как рядом появилась Майя.
– Привет, Харри. – Она стукнула по скатерти серым кулаком. – Будешь блюдо дня?
– Если повар сегодня трезвый.
– Трезвый. Будешь что-нибудь пить?
– А как же! – Он на мгновение поднял глаза: – Что сегодня посоветуешь?
– Значит, так. – Она подбоченилась и громко, отчетливо продекламировала: – Вопреки тому, что думают люди, на самом деле в этом городе самая чистая питьевая вода во всей стране. И чище всего она в зданиях, построенных на рубеже веков. Таких, как наше.
– А кто тебе это сказал, Майя?
– Вообще-то ты, Харри, – хрипло и непритворно рассмеялась она. – Впрочем, эта автоцистерна как раз для тебя. – Последние слова она сказала достаточно тихо, записала заказ и исчезла.
Так как в остальных газетах было полно разной чепухи про миллениум, Харри решил почитать «Дагсависен». На шестой странице он наткнулся на большую фотографию одинокого деревянного дорожного указателя с нарисованной на нем свастикой. На одной стрелке было написано: «Осло – 2611 км», на другой – «Ленинград – 5 км».
Под статьей внизу стояла подпись Эвена Юля, профессора истории. Заголовок далек от лаконизма: «Возникновение условий для роста безработицы в Западной Европе».
Харри и раньше видел имя Юля в газетах. Он был непревзойденным экспертом в своей области – то есть во всем, что касается «Национального объединения» и истории немецкой оккупации Норвегии. Харри пролистал газету до конца, но не нашел ничего интересного и вернулся к статье Юля. Это был комментарий к тому, о чем писалось в прошлом номере: об укреплении позиции неонацистов в Швеции. Юль писал, каким образом неонацизм, бывший в загоне по всей Европе в 90-х, пока шел рост экономики, сейчас возрождается и крепнет. Он отмечал отличительную черту новой волны – сильную идеологическую базу. Если в 80-е неонацизм был не более чем своеобразной модой – на подростковые группировки, униформу, бритые затылки и анахронизмы типа «зиг хайль», то новая волна организованна и продуманна. У новых наци есть экономическая поддержка, которая далеко не сводится к средствам отдельных лидеров и спонсоров. Кроме того, новое движение – это не просто реакция на такие проблемы общества, как безработица и иммиграция, писал Юль. Цель этого движения – создание альтернативы социал-демократии. Лозунг – призыв ополчаться в моральном, военном и расовом смысле. В качестве примера падения нравов – упадок христианства плюс ВИЧ и рост наркомании. И образ врага несколько другой: сторонники Евросоюза, которые стирают национальные и расовые границы; НАТО, протянувший руку русским и славянским «недочеловекам»; и новые азиатские капиталисты, сменившие евреев в качестве мировых банкиров.
Майя принесла обед.
– Картофельные фрикадельки? – спросил Харри и посмотрел на серые комочки, лежащие на подстилке из китайской капусты и политые салатным соусом.
– Фирменный стиль «Скрёдера», – сказала Майя. – Остались со вчерашнего дня. С Новым годом!
Харри загородился газетой, чтобы поесть, но только откусил от одного из этих комков целлюлозы, как услышал из-за газеты голос:
– Что за дьявол, однако!
Харри выглянул из-за газеты. За соседним столиком сидел Могиканин и смотрел прямо на него. Может, он сидел тут все это время, Харри, во всяком случае, не замечал, чтобы он входил. Его звали Последним из могикан, потому что он был, пожалуй, последним в своем роде. Раньше он был военным моряком, два раза его корабль торпедировали, а все его товарищи уже давно отправились в мир иной, – это Харри узнал от Майи. Старик сидел прямо в пальто, как всегда, и зимой и летом. Конец его козлиной бородки свисал в стакан с пивом, а на его лице – худом до того, что череп выпирал из-под кожи, – проступала сеть капилляров, таких красных линий на белой как мел коже. Из-под дряблых складок кожи на Харри таращились красные, навыкате глаза.
– Что за дьявол! – повторил он.
За свою жизнь Харри слышал столько пьяного бреда, что перестал обращать особое внимание на то, что лопочут завсегдатаи «Скрёдера», но на этот раз что-то было не так. За те годы, что он ходил сюда, это были, пожалуй, первые членораздельные слова, которые он услышал от Могиканина. Даже после того, как однажды прошлой зимой Харри ночью наткнулся на него, спящего под стеной дома на Доврегате, и, по всей видимости, спас старика от смерти на морозе, тот удостаивал его отныне лишь кивком при встрече. Сейчас, похоже, Могиканин уже посчитал, что достаточно высказался на сегодня, потому что он снова сжал губы и сосредоточился на стакане с пивом. Харри огляделся и наклонился к его столику:
– Помнишь меня, Конрад Оснес?
Старик хрюкнул и посмотрел перед собой, ничего не ответив.
– Я нашел тебя на улице в сугробе прошлой зимой. Было минус восемнадцать.
Могиканин поднял глаза к потолку.
– Там еще плохое освещение, так что я тебя еле-еле увидел. Ты мог окочуриться, Оснес.
Могиканин закрыл один красный глаз, а другим злобно посмотрел на Харри, потом поднял пол-литровый стакан.
– Да? Ну, тогда большое спасибо.
Он осторожно отпил. Потом бережно поставил стакан на стол, тщательно прицеливаясь, будто стакану полагалось стоять на каком-то строго определенном месте.
– В бандитов надо стрелять, – сказал он.
– Даже так? В кого же?
Могиканин показал скрюченным пальцем на газету Харри. Харри повернул ее к себе. На первой странице была большая фотография наголо побритого шведского неонациста.
– Всех их к стенке! – Могиканин хлопнул ладонью по столу, кто-то обернулся на них.
Харри успокаивающе махнул рукой.
– Это просто пацаны, Оснес. Успокойся. Новый год на носу.
– Пацаны? А знаешь, кем были мы? Немцам было все равно. Кьеллю было девятнадцать. А Оскару – двадцать два. Надо перестрелять их, пока их не стало больше. Это болезнь, ты должен прибить ее в зародыше.
Он ткнул указательным пальцем в Харри.
– Сидел тут один из них – где ты щас. Ни черта – такие не подыхают! Ты как полицейский, ты должен их всех переловить!
– А откуда ты знаешь, что я из полиции? – удивился Харри.
– Я ж читаю газеты. Ты пристрелил тут одного типа за городом. Это хорошо, но и тут надо кокнуть парочку.
– Что-то ты разболтался сегодня, Оснес.
Могиканин захлопнул рот, еще раз недовольно посмотрел на Харри, повернулся к стене и принялся рассматривать пейжаз в рамке – вид Юнгсторгет. Харри понял, что разговор окончен, кивнул Майе, чтобы та принесла кофе, и взглянул на часы. Новое тысячелетие вот-вот должно было наступить. В четыре «Скрёдер» закрылся на «новогодние мероприятия», как гласила табличка, которую повесили на входной двери. Харри посмотрел на знакомые лица вокруг себя. Как видно, все гости уже собрались.