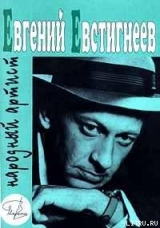
Текст книги "Евгений Евстигнеев – народный артист"
Автор книги: Яков Гройсман
Соавторы: Ирина Цывина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
КОНСТАНТИН РАЙКИН
Евгений Александрович Евстигнеев – один из самых лучших актеров, которых я видел в жизни. Не только на сцене, но и на экране. Как зрителю мне повезло, и, бывая в театре со школьных лет, я видел и Пола Скофилда в «Короле Лире», и Лоуренса Оливье в «Отелло», и Смоктуновского в «Идиоте», и Раневскую в «Странной миссис Сэвидж», и Луспекаева в «Поднятой целине». В кино мы все видели лучших в мире артистов: Джека Николсона, Дастина Хоффмана, Рода Стайгера, Мерил Стрип, Марлона Брандо и других.
Я убежден, что артист Евгений Евстигнеев нисколько не затерялся в этом списке. Его ярчайший талант ничуть не блекнет от сравнения с любым из великих. Настолько он своеобразен и, говоря строго, ни с кем несравним, что, по сути, представляет собой величину безотносительную и абсолютную. Может быть, кому-то из его близких товарищей, постоянных партнеров, для которых он был Женька, Женюра, это не столь очевидно. Но я совершенно уверен, что именно потому, что смотрю на него из другого поколения глазами человека, потрясенного им, так и не успевшего с ним сблизиться настолько, чтобы к нему привыкнуть, – именно поэтому я могу более объективно оценить масштаб его значимости. Помню первый спектакль, где я его увидел в «Современнике», – «Два цвета». Помню, что спектакль мне понравился. Помню Квашу, Волчек. И совершенно отдельное, сильнейшее впечатление, которое произвел на меня Глухарь – в общем, малюсенькая роль в исполнении Евстигнеева.
Настолько это было мощно по таланту, одновременно ярко, узнаваемо и органично, что я вместе со всем залом не мог дождаться, когда этот резко отрицательный персонаж снова появится на сцене. Образ был всерьез страшноватый, но делалось это так по-актерски вкусно, я бы сказал, смачно, с таким магическим обаянием, что оказалось для меня самым мощным впечатлением от спектакля. Так я на всю жизнь полюбил артиста Евстигнеева.
«Традиционный сбор» я сначала посмотрел в БДТ в Ленинграде. Это был вполне хороший спектакль замечательного театра. Не самый лучший, но крепкий и добротный. Роль Усова играл артист Вадим Медведев. Играл хорошо, серьезно и достаточно убедительно. Но сама роль показалась мне менее выгодной, чем многие в этой пьесе, менее выразительной, что ли. Наверное, принципиально по-другому ее играть нельзя, подумал я. Вскоре мне удалось посмотреть спектакль по этой пьесе в «Современнике». Я был поражен. Во-первых, было ощущение, что поставлена другая пьеса. Острее, динамичнее, пронзительнее и современнее. «Традиционный сбор» стал этапным спектаклем в истории «Современника». И сейчас считаю, что это было одно из лучших произведений театра. И душой его стал Евстигнеев в роли Усова.
Я с трудом вспоминаю случаи, когда персонаж пользовался бы такой безумной любовью зрительного зала. И нельзя, казалось, не влюбиться в него. Столько в нем было лихости, ума, юмора, какой-то житейской бывалости, очаровательных ухваток. Как ухарски он выпивал, катя стопку по скуле, как поглаживал себя по лысине, как похохатывал, как, пятясь задом, приближался к любимой женщине, как в самый патетический момент разговора почесывал ляжку. Как незабываемо звучали крученые интонации его голоса. Евстигнеевские интонационные завитушки! Всему, что он делал, хотелось подражать. А сколько мужского обаяния! Это, кстати, мне кажется, очень важная черта таланта Евстигнеева. Не обладая каноническими внешними данными, он на сцене всегда был по-мужски привлекателен. Во всей его очень характерной пластичной тигриной повадке, в низком рокочущем голосе, в тяжелом и лукавом взгляде таилась колоссальная энергетическая пружина. От его игры у меня всегда было внутреннее ощущение упругости и силы.
А еще был Сатин в «На дне». Я несколько десятков спектаклей играл в массовке ночлежника и лежал где-то в ногах у Евстигнеева во время знаменитой сцены разговора Сатина с Бароном. Я имел возможность наблюдать его в этой роли, так сказать, вблизи. Пытался разглядеть, как это делается. Но при всей крупности игры он обладал такой животной органикой, что, даже находясь рядом, невозможно было увидеть никаких швов.
Мне кажется, Сатин – высочайшая его работа. Она абсолютно опрокидывала стереотип некоего назидательного пафоса и декламационности, сложившихся в связи с данным образом. Это было сыграно чрезвычайно живо, неожиданно смешно, остро, горько, даже желчно, парадоксально, но в результате оставляло ощущение редкой значимости и мощи.
Я никогда раньше не думал, что в этой роли столько юмора. А юмор был всегда важнейшим компонентом евстигнеевской игры. Причем он никогда специально не шутил, не комиковал, это просто было неотъемлемой частью его органики. Смех в зале возникал не от текста, а от точных, живых, неожиданных интонаций, от парадоксальности поведения. Когда этот пройдоха-шулер в шляпе, интригующе надвинутой на лоб, в длинном пальто, натянутом руками в карманах на откляченный зад, кошачьей походкой картинно проходил по ночлежке, это было невероятно, непривычно по сравнению с уже виденным раньше, но вместе с тем так точно, узнаваемо и неопровержимо убедительно, что у тебя возникало ощущение открытия единственно правильного решения этой роли.
Помню его полный горечи монолог о человеке. Абсолютное отсутствие внешнего пафоса и декларативности. Тяжелые глаза навыкате. Скривившийся в едкой усмешке рот. Состояние человека, отяжелевшего от выпитого и при этом испытывавшего некое странное вдохновение. Залихватский и одновременно пьяный жест, которым он, вытирая нос, затыкает платок в карман брюк. Медленно шевелящиеся, нетрезвые пальцы растопыренной руки. Напряженный лоб, уперевшийся в ладонь, или откинутое, полулежащее на нарах тело, приподнятое на широко отставленных назад руках, и отчаянно запрокинутая голова. Предельная выразительность каждой позы, почти монументальность. Завороженная тишина зала – и ощущение громады, возникшее от этого невысокого человека, сидящего в центре сцены. Таким я его и запомнил. Гениального артиста Евгения Евстигнеева.
ВАЛЕНТИН ГАФТ
Когда меня попросили написать о Жене, Евгении Александровиче Евстигнееве, мне показалось, что это не так трудно.
Женя десятки лет был рядом, он был всеми признанный, любимый артист. Даже не артист. Он мог появиться на эстраде, просто сказать: «Здравствуйте, добрый вечер» – и этого уже было достаточно. Его принимали, даже если он ничего не говорил, а просто обводил зал глазами и переминался с ноги на ногу. Его внутренний монолог был куда сильнее слов, которыми говорят все. Только он мог сказать мало, но иметь грандиозный успех. С ним не хотелось расставаться никогда, а хотелось смотреть, смотреть и смотреть на него бесконечно. Достаточно было жеста, просто звука, вроде откашливания или кряхтения, что-то вроде грудного носового междометия «мм» и «да-э». И все смотрели только на него и ждали продолжения. Одна рука могла быть в кармане брюк, а большим пальцем другой руки он как-то сбоку ударял себя по носу, произносил «Ну-да, вот», – и сразу становился своим, близким, родным.
У него был низкий, гипнотизирующий, магического воздействия голос. Он иногда не говорил, а плел им такие кружева, в которых было гораздо больше смысла и юмора, чем в самом тексте. Нельзя рассказать, как Женя играл в театре. Этим и отличается театр от кино. Спектакль – творение уникальное, спектакль умирает в тот же вечер, когда и рождается. Опускается занавес, и все остается только в памяти, в ощущении. Описание, пересказ, рассказ, анализ – это уже из области таланта рассказчика. Кино – это режиссер, техника, оператор и т. д. Конечно, и артист, но все-таки в большой зависимости от разной специфической атрибутики. Снимается все по кусочкам, а артист – это живой человек. У него может быть разное настроение, есть нервы, здоровье, внешний вид, а кино может сниматься хоть год. Театр – это один вечер, живой и с живыми. Три часа. Это совсем другое дело. Спектакль – это прекрасный цветок, который опадает ночью, и никто уже не расскажет, насколько он был прекрасен вечером, если, конечно, цветок не пластмассовый или тряпичный. Женя был живым цветком, который никогда не осыпался. Он был прекрасен всю жизнь и ушел из жизни, не уронив ни одного лепестка. Наверно, будут подробно рассказывать, как Женя играл, существует кинопленка, но самое главное все-таки – это живое восприятие зрительного зала, которое не может не учитывать артист, и время, объединяющее зрителя и артиста, а отсюда неповторимое, непредсказуемое, рожденное вдохновением. Нюансы, интонации, паузы. Рядом были великолепные артисты – партнеры, все говорили на одном языке, казалось бы, одной школы, кстати, лучшей, мхатовской, у всех были равные возможности высказаться, каждый был по-своему хорош: и Ефремов, и Волчек, и Дорошина, и Даль, и Козаков, и Толмачева, и Кваша – но Женя был гений. На сцене глаза у него были в пол-лица. Красивая форма почти лысой, ужасно обаятельной головы. Лысина существовала сама по себе, никогда не отвлекала. В зависимости от того, кого Женя играл, он мог быть любым: красивым, мужественным, и наоборот. Спортивный. Пластичный. Я помню, еще в Студии МХАТ (а Женя был постарше других), он прекрасно фехтовал, делал стойки, кульбиты. Я обращал внимание на его замечательные мышцы, мышцы настоящего спортсмена. Руки, ноги, кисти были выразительные, порой являлись самыми важными элементами характеров, которые он создал. Как он менял походку, как держал стакан, как пил, как выпивал, закручивая стакан от подбородка ко рту. А как носил костюм! Любой костюм!
Любой эпохи! От суперсовременного до средневекового. Они на нем сидели как влитые, как будто он в них родился и никогда не расставался. Его всегда было слышно и всё всегда было понятно. Каким-то таинственным внутренним зрением, может быть, через космос, почти мгновенно он ощущал образ того, кого играл. И что интересно: он никогда не клеил носов и ничего не утрировал, но это был всегда новый человек и всегда – Евстигнеев! Ему, по-моему, иногда достаточно было одной первой читки – и он мог превратиться в человека, совсем непохожего на себя и по культуре, и по происхождению, и по интеллекту. Он был умен во всех своих ролях: играя мудрых или простаков. Юмор, импровизация, парадоксальность ходов – и все почти бытово, без нажима. Фантастика!!! Он никогда много не говорил о своих ролях и вообще не тратил свою энергию на пустые разговоры об искусстве, о неудачах своих товарищей. Энергия у него уходила в работу. Поэтому он был добр и непривередлив ни в чем. Он мог есть что угодно, спать где угодно: хоть на полу в тонателье – я это видел сам. Когда ему что-то нравилось, он говорил: «Ну, конечно, ну, правильно». Когда не нравилось, просто: «Нет», – и переходил на другую тему. Слушая другого человека, он сразу улавливал самую суть, мгновенно видел всё. Создавалось такое впечатление, что глаза у него были на затылке и на темени. Иногда, восхищенный чем-то, порой одному ему известно чем, смахивал подступающую к глазам слезу, откашливался, как бы стесняясь своей сентиментальности, и менял тему разговора. Или просто замолкал. У него был великий слух – он был в молодости ударником. Был вообще похож на джазиста: мужественный, простой. Он был мужиком, мужчиной.
Помню, когда я поступил в театр «Современник» в 1969 году, первые мои гастроли были в Ташкенте. Почти все поехали на экскурсию в Бухару, а я то ли по лености, то ли по необразованности не поехал. Евстигнеев тоже не поехал. Я обрадовался, когда Женя предложил мне пообедать вместе с ним в чайхане. Меня в это время ввели на роль Дядюшки в спектакль «Обыкновенная история». И после Козакова, первого исполнителя это роли, играть было трудно, ничего не получалось. Но прежде всего, когда мы сели за столик, Женя сказал, чтобы я не очень переживал по поводу Бухары, что мы туда не поехали: «Вон видишь, киосочек стоит, «Союзпечать» называется, – сказал он. – Так вот. Мы там купим открыточки с видами этой самой Бухары, и полный порядок. Будем знать больше, чем они». Да, ему, вероятно, с его интуицией и фантазией достаточно было и открыточки. Налили, выпили. Женя делал это просто и красиво. Я никогда не видел его пьяным или похожим на пьяного, хотя застолье он любил. «А дядюшку играй репризно», – сказал он. «Как?» – переспросил я. «Репризно», – повторил он. При слове «реприза» всегда возникают в воображении клоуны в цирке, выкрикивающие сомнительные остроты, эхом прокатывающиеся по арене. Это совсем не сочеталось ни с МХАТом, ни со Станиславским. Я смотрел на него вытаращенными глазами. «Репризно», – снова повторил Женя. И показал прямо за столиком несколько сцен, сыграв и за дядюшку, и за племянника. Это было потрясающе! И это было так по-клоунски, только по-настоящему. Женя точно воспринимал все, проживал за двоих. Легко, без напряжения. Потом мгновенно, по-компьютерски перемалывал услышанное – и ответ был яркий, сочный, живой.
– Да, репризно, и ничего плохого тут нет! Все хорошие артисты – клоуны.
Женя был клоуном великим. Повторить это я, конечно, не мог. Только теперь, спустя двадцать с лишним лет, я понимаю, что это значило. Он любил мои эпиграммы: записывал себе на магнитофон, почти все знал наизусть. Понимал, что я их пишу не со зла, – они другими и быть не могут.
Он был всегда сдержанным, жаловаться не любил, все носил в себе. Была слава, но жизнь была совсем не проста…
И что самое странное и удивительное: не складывалось в театре – во МХАТе. Выражаясь футбольным языком, МХАТ недооценивал возможности центрального форварда, ставя его в полузащиту или просто не заявляя его на игру. И пошли инфаркты, один за другим.
Смею сказать про себя, что он меня любил. Однажды, на съемках фильма «Ночные забавы», – а это был его последний прижизненный фильм, который вышел за месяц до Жениной кончины, – он сказал мне в костюмерной, завязывая галстук, тихо, как будто самому себе: «Понимаешь, я сегодня эту сцену не смогу сыграть как надо. Там все проходит через сердце, а я, понимаешь, боюсь его сильно перенапрягать. Боюсь, черт возьми». Но играл он сердцем, до мурашек. По-другому он не мог. Он был великий артист…
…Машина заезжала за мной, потом мы ехали за Женей к Белорусскому – оттуда ближе к Останкино. Женя уже стоял у дома, всегда вовремя: в кепочке, в спортивной курточке, элегантный, молодой, с сумкой наперевес. Да, молодой, у него не было возраста. Открывал дверь машины: «Привет, – коротко здоровался он, усаживаясь, – все нормально?» – «Нормально», – отвечали мы. «Ну, правильно, тогда поехали», – говорил он. И поехали. Он впереди. Мы сзади.
СОФЬЯ ПИЛЯВСКАЯ
Первый год моей службы в Школе-студии в 1954 году совпал с приходом Евгения Евстигнеева на 3-й курс, руководимый Павлом Владимировичем Массальским.
Я хорошо помню: подтянутый, худощавый, всегда аккуратный, внешне спокойный, Евстигнеев внимательно и пристально следил за жизнью Школы-студии, вбирая в себя все нужное ему.
Он как-то сразу стал необходим талантливой группе студентов обоих факультетов, уже тогда объединенных Олегом Николаевичем Ефремовым для создания своей студии – «Современник».
Со слов моих друзей и коллег Павла Владимировича Массальского и Александра Михайловича Комиссарова, которые преподавали на курсе, где учился Женя Евстигнеев, я узнавала о его великолепных актерских качествах.
После окончания Школы-студии и непродолжительной работы во МХАТе Евстигнеев стал одним из организаторов театра «Современник», который, постепенно набирая силу, стал любимым театром Москвы.
Я люблю этот театр, люблю его актеров, они заражают и волнуют правдой своего существования. И Евгений Евстигнеев тут был одним из первых. У него не было так называемого амплуа, ему доступно все. Чувство юмора было в нем настолько остро, что он, ничего не делая, доводил зрителей от смеха до слез. Сколько же он их создал, этих смешных, нелепых, иногда жалких, а то и наоборот, но всегда абсолютно живых, узнаваемых людей! И в драматически серьезных, острых характерах, казалось бы, ничего не делая, этот волшебный артист попадал прямо в сердце.
В1970 году в Художественный театр пришел приглашенный старейшинами театра Олег Николаевич Ефремов, чтобы стать художественным руководителем нашего огромного, но не вполне благополучного в то время коллектива. С Олегом Николаевичем пришла группа актеров из «Современника», в числе которых был и Евгений Александрович Евстигнеев. Его имя к тому времени уже гремело по всей стране. Он был известен за рубежом.
Одной из первых его ролей у нас в театре стал Володя в спектакле «Валентин и Валентина» Михаила Рощина в постановке Ефремова, где я тоже была занята в роли бабки.
Роль Евстигнеева – почти эпизод, две сцены. Первая – случайный пьяный гость, а в следующем акте он же – трезвый, умный и во всем правый.
Мне довелось, сидя на сцене спиной к залу, наблюдать, радоваться, восхищаться тем, что делал Евстигнеев, как каждый раз он привносил что-то новое.
Я помню сдачу этого спектакля нашему театру. Во второй, серьезной сцене Евгений Александрович начал говорить негромко, и вдруг из зрительного зала раздался голос «доброжелателя»: «Громче!» Я видела, как напряглось на долю секунды его лицо, но голоса он не повысил, а, наоборот, стал говорить чуть тише и заставил зрителя слушать себя.
Смотреть спектакли с участием Евгения Евстигнеева всегда было для меня радостью, да и в жизни отношения наши были хорошими, ровными.
Но миновало еще время, и в 1976 году Евгений Александрович пришел в Школу-студию старшим преподавателем на курс, где работала я. Он был педагогом милостью Божьей, и мне хочется рассказать о его отношениях со студентами, которые обожали Евгения Александровича и хвастались им перед товарищами с других курсов.
Ко всем студентам он относился одинаково, не выделяя никого, хотя степень их одаренности, естественно, была разной.
Он много рассказывал студентам о виденном, о человеческих судьбах, характерах, и всегда в этих рассказах был «манок» для той или иной роли. Он умел точно и глубоко ухватить суть произведения.
Обычно предлагал: «А попробуйте зайти с этой стороны», и всегда «эта» сторона была тем, чего недоставало. Никаких высоких слов об искусстве, все просто, понятно и так убедительно.
Когда заходил разговор о костюмах, о внешности, он говорил мне: «Я не знаю, это вы сами, я в этом ничего не смыслю, делайте как надо». А о себе очень всегда знал точно, каким ему надо быть внешне на сцене.
Он был необыкновенно открыт для студентов. Это качество крупного художника и крупного человека – щедро делиться и радоваться, помогая.
Начал он свою педагогическую деятельность с «Вассы Железновой» Горького. Второй его работой со студентами стали «Провинциальные анекдоты» Вампилова. И всегда – успех и раскрытие возможностей, даже у тех участников, в которых сомневались…
Одно время Евстигнеев оставил преподавание – очень трудно было совмещать его с огромной нагрузкой в театре и кино. Но вскоре, к моей радости, Евгений Александрович опять появился в Школе-студии. Он уже обладал всеми высшими актерскими званиями и стал профессором.
Мне запомнилась наша совместная работа над дипломным спектаклем «На дне» Горького. Я сама долгие годы играла Настенку, видела «На дне» и в «Современнике», где меня поразил Сатин Евстигнеева, решенный нетрадиционно и очень убедительно.
В своей педагогической работе над этой пьесой он исходил из возможностей каждого исполнителя.
Каждую репетицию с Евгением Александровичем студенты ждали и жадно впитывали все, что он им давал.
С этого времени началась наша дружба, смею так сказать. Я очень благодарна Евгению Александровичу за его отношение ко мне.
Его жизнь в семье была тогда трудной, хотя он никогда, ни единым словом не обмолвился о своих бедах.
И уже была безнадежно больна его старенькая мама, и он выкраивал день-два или просто несколько часов, чтобы съездить в Горький навестить ее.
Часто из Студии в перерыве звонил туда – узнать о ее самочувствии. Один раз я случайно оказалась рядом после звонка, он как-то сник, очевидно, там было плохо, и сказал почти шепотом, как бы извиняясь: «Я все понимаю, очень много лет, все естественно, но… мама…» – на меня смотрели его такие удивительные глаза, столько в них было тоски и вся сила его горя.
Он очень тяжело пережил смерть матери, на некоторое время прекратил работу со студентами, а возобновил ее незадолго до выпуска спектакля.
Однажды Евстигнеев согласился поехать на два-три спектакля в Архангельск, для того чтобы сделать сборы театру своим именем (а театр в то время бедствовал). Но после одного из спектаклей (было это почти под Новый год) потерял сознание – обширный инфаркт.
У одного из моих студентов бабушка была заведующей отделением правительственной клиники, где лечили Евгения Александровича, поэтому стало известно течение болезни. Все было поставлено на ноги, держали Евстигнеева там долго, не считаясь с его протестами и просьбами отпустить в Москву. Из Архангельска доносилось: «В Москве его по блату и за обаяние выпустят раньше времени, а мы уж продержим сколько нужно».
Вернулся он в Москву чуть притихшим, но очень ненадолго, и опять – театр, кино и масса всяких дел.
Однажды я предложила ему прийти ко мне обедать, и он легко, даже радостно согласился. Обыкновенный обед, наверное, борщ, котлеты, что-нибудь на закуску – ничего выдающегося, разве что своя квашеная капуста. Как же он всем восхищался, как все хвалил!
Водочкой он и после Архангельска не брезговал, и я налила ему в серебряную – юбилейную чарочку Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, которая хранится у меня до сей поры. А потом, как водится, кофе. Сидели мы довольно долго, и такой он был раскрытый, довольный, и я поняла, как же он неухожен, как при такой огромной работе предоставлен самому себе (в то время у него была очень трудная пора, и вскоре трагически умерла его жена, тоже наша актриса).
Последней нашей работой в Школе-студии стала «Женитьба Белугина» Островского-Соловьева, которую мы ставили вместе.
Работал он много, вдохновенно и как-то радостно. Дипломный спектакль прошел хорошо, а потом, кажется, были гастроли, отпуск и в самом начале сезона – встреча, еще на сцене филиала, что на улице Москвина, на репетиции спектакля «Колея». Евгений Александрович был занят в одной из центральных ролей и практически держал весь спектакль.
Тогда же я увидела в роли девочки-подростка Ирину Цывину, нашу студийную Елену Кармину из «Белугина». Спустя короткое время я узнала, что Ира стала женой Евгения Александровича.
Теперь все хозяйство было на Ирине, Евгений Александрович был ухожен, молодая жена великолепно заботилась о нем. Как-то, смеясь, он сказал мне репликой из «Трех сестер»: «Я доволен, я доволен, – и уже от себя:
– Я живу как хочу, как мне хочется». Для него началась счастливая, уютная жизнь.
Важно, что в новой семье стали очень хорошими отношения с дочерью Евстигнеева Машей и ее мужем, а Галина Борисовна Волчек, первая жена Евгения Александровича, была в этом доме на самом высоком пьедестале, и Евстигнеев очень гордился их общим сыном Денисом – талантливым кинооператором.
Одна из моих последних встреч с Евгением Александровичем состоялась на премьере «Игроков» по Гоголю в постановке Сергея Юрского.
Я радовалась успеху спектакля и выдающемуся успеху Евстигнеева – он был великолепен.
После окончания – банкет у нас в театре. Когда мы с Аллой Покровской и с участницей спектакля Наташей Теняковой пробились к нему, как сейчас слышу его веселое, счастливое рокочущее: «А-а-а-а! О-о-о-о!» В одной руке – стопка с коньяком, в другой – сигарета. Я ему: «А как же обниматься!» – А вот так!» Коньяк и сигарета оказались у меня за спиной.
Вот таким счастливым, радостным я видела его в тот вечер.
И – страшное известие, оно как физический удар большой силы.








