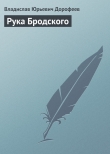Текст книги "Дело Бродского"
Автор книги: Яков Гордин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Судья: Никаких "я полагаю". Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! Смотрите на суд! Отвечайте суду как следует! (Мне). Сейчас же прекратите записывать! А то – выведу из зала. (Бродскому): у вас есть постоянная работа?
Бродский: Я думал, что это постоянная работа.
Судья: Отвечайте точно!
Бродский: Я писал стихи! Я думал, что они будут напечатаны, Я полагаю...
Судья: Нас не интересует "я полагаю". Отвечайте, почему вы не работали?
Бродский: Я работал. Я писал стихи,
Судья: Нас это не интересует. Нас интересует, с каким учреждением вы были связаны.
Бродский: У меня были договоры с издательством.
Судья: У вас договоров достаточно, чтобы прокормиться? Перечислите: какие, от какого числа, на какую сумму?
Бродский: Точно не помню. Все договоры у моего адвоката.
Судья: Я спрашиваю вас.
Бродский: В Москве вышли две книги с моими переводами... (перечисляет).
Судья: Ваш трудовой стаж?
Бродский: Примерно...
Судья: Нас не интересует "примерно"!
Бродский: Пять лет.
Судья: Где вы работали?
Бродский: На заводе. В геологических партиях...
Судья: Сколько вы работали на заводе?
Бродский: Год,
Судья: Кем?
Бродский: Фрезеровщиком.
Судья: А вообще какая ваша специальность?
Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.
Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?
Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому?
Судья: А вы учились этому?
Бродский: Чему?
Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят... где учат...
Бродский: Я не думал, что это дается образованием.
Судья: А чем же?
Бродский: Я думаю, это (растерянно)... от Бога...
Судья: У вас есть ходатайства к суду?
Бродский: Я хотел бы знать, за что меня арестовали?
Судья: Это вопрос, а не ходатайство.
Бродский: Тогда у меня ходатайства нет.
Судья: Есть вопросы у защиты?
Защитник: Есть. Гражданин Бродский, ваш заработок вы вносите в семью?
Бродский: Да.
Защитник: Ваши родители тоже зарабатывают?
Бродский: Они пенсионеры.
Защитник: Вы живете одной семьей?
Бродский: Да.
Защитник: Следовательно, ваши средства вносились в семейный бюджет?
Судья: Вы не задаете вопросы, а обобщаете. Вы помогаете ему отвечать. Не обобщайте, а спрашивайте.
Защитник: Вы находитесь на учете в психиатрическом диспансере?
Бродский: Да.
Защитник: Проходили ли вы стационарное лечение?
Бродский: Да, с конца декабря 63-го года по 5 января этого года в больнице имени Кащенко в Москве.
Защитник: Не считаете ли вы, что ваша болезнь мешает вам подолгу работать на одном месте?
Бродский: Может быть. Наверно. Впрочем, не знаю. Нет, не знаю.
Защитник: Вы переводили стихи для сборника кубинских поэтов?
Бродский: Да.
Защитник: Вы переводили испанские романсеро?
Бродский: Да.
Защитник: Вы были связаны с переводческой секцией Союза писателей?
Бродский: Да.
Защитник: Прошу суд приобщить к делу характеристику бюро секции переводчиков... Список опубликованных стихотворений... Копии договоров, телеграмму: "Просим ускорить подписание договора". (Перечисляет). И я прошу направить гражданина Бродского на медицинское освидетельствование для заключения о состоянии здоровья и о том, препятствовало ли оно регулярной работе. Кроме того, прошу немедленно освободить Бродского из-под стражи. Считаю, что он не совершил никаких преступлений и что его содержание под стражей – незаконно. Он имеет постоянное место жительства и в любое время может явиться по вызову суда.
Суд удаляется на совещание. А потом возвращается, и судья зачитывает постановление: "Направить на судебно-психиатрическую экспертизу, перед которой поставить вопрос, страдает ли Бродский каким-нибудь психическим заболеванием и препятствует ли это заболевание направлению Бродского в отдаленные местности для принудительного труда. Учитывая, что из истории болезни видно, что Бродский уклонялся от госпитализации, предложить отделению милиции No. 18 доставить его для прохождения судебно-психиатрической экспертизы".
Судья: Есть у вас вопросы?
Бродский: У меня просьба – дать мне в камеру бумагу и перо.
Судья: Это вы просите у начальника милиции.
Бродский: Я просил, он отказал. Я прошу бумагу и перо.
Судья (смягчаясь): Хорошо, я передам.
Бродский: Спасибо.
Когда все вышли из зала суда, то в коридорах и на лестницах увидели огромное количество людей, особенно молодежи.
Судья: Сколько народу! Я не думала, что соберется столько народу!
Из толпы: Не каждый день судят поэта!
Судья: А нам все равно – поэт или не поэт!
Поскольку записи Фриды Абрамовны, очень точные по существу, да и по словам, все же не могут дать всей полноты ситуации, то я попросил Израиля Моисеевича Меттера, который в числе нескольких человек присутствовал на первом суде, вспомнить свои впечатления:
"О предстоящем суде над молодым, совсем еще юным поэтом Иосифом Бродским я узнал от Натальи Долининой. От нее, от первой. Затем уже слух этот, наливаясь подробностями, растекался все шире.
Мне-то кое-что загодя стало известно, быть может, достовернее, нежели многим. Так получилось, что ненароком я познакомился с тем выдающимся подонком – среди них ведь есть будничные, рядовые, а есть и из ряда вон,-с тем самым начальником бригады дружинников Лернером, бывшим работником НКВД, с подачи которого и началась наглая, беспрецедентная травля Иосифа Бродского. И вскорости она была хищно подхвачена ленинградскими высокими инстанциями, включая, естественно, нашу всегдашнюю караульную писательскую вышку – руководство СП.
С Лернером я познакомился случайно, он тотчас произвел на меня удручающе паскудное впечатление своим холуйским желанием, жаждой прославить себя и свою свору дружинников, натасканную им в легавой ненависти ко всему, во что он ткнет пальцем. Отступя из справедливости чуть в сторону, напомню: в ту пору дружинники нередко использовались для откровенно противоправных действий – им прозрачно намекали, что милиция и Органы, к сожалению, вынуждены порой соблюдать некую видимость законности, а вот им, дружинникам, доверен статус штурмовиков. Я бы не стал на этом задерживаться, но ведь чаще всего именно они практически осуществляли львиную долю провокационных, фальсификаторских и насильственных действий, давших "законную" возможность расправы над Иосифом Бродским, а заодно и над всеми, кто вздумает встать на его защиту во время судебных процессов.
Их, судов, было два – полузабытый первый и крепко запомнившийся второй, настолько крепко, что реалии первого, по забывчивости, из-за отсутствия свидетельских воспоминаний о первом, уже относили ко второму суду.
И на том и на другом подробнейшие записи вела Фрида Абрамовна Вигдорова. Они распространялись "самиздатом", были изданы за рубежом, считались стенограммами, хотя на самом деле это вовсе не стенограммы: Фрида Вигдорова обладала феерическим даром, позволявшим ей фиксировать услышанные диалоги с непостижимой точностью, пожалуй, точнее, нежели стенографические отчеты, ибо аналитический ум, писательский талант и наблюдательность давали право Вигдоровой отсекать ненужные мелочи, фиксируя самое характерное, включая интонации собеседников.
Я не могу миновать благодарного потрясения, изведанного мной от знакомства с ней. Родниковая, неиссякаемая чистота ее души, утоляющая жажду справедливости, той самой, что каждый человек испытывает в своей отдельности. И жажда эта общечеловеческая – чистота грязеотталкивающая, обладающая каким-то бактерицидным свойством: прикосновение Фриды Вигдоровой к жестокости и бесправию, причиняющим людям горе, хоть несколько облегчало их участь; в самые злые годы нравственная позиция Вигдоровой центрировала вокруг себя общественное мнение.
Из стихов Иосифа Бродского задолго до того, как я увидел его на первом суде, мне было известно в устном чтении моего приятеля стихотворение "Черный конь". Оно восхитило меня. А когда я узнал, что написаны эти великолепные строки, по моим возрастным меркам, юношей, то это поразило меня еще более, А через некоторое время, опять-таки до суда, в Москве, в квартире Виктора Ефимовича Ардова, куда я пришел навестить Анну Андреевну Ахматову, она прочитала мне из своего блокнота еще два стиха Бродского, предварив их взволнованными словами:
– Это написал грандиозный поэт.
Однако при всем том было бы лишь полуправдой, если бы я сказал, что внутренняя потребность посильного вмешательства в судьбу Бродского заскреблась во мне только потому, что его стихи поразили меня. И думаю, смею думать, что в этом смысле я был не одинок. Разумеется, люди хотели оградить замечательного поэта от мерзкого произвола. Конечно же, это играло колоссальную роль. Но не менее важно: душа, совесть, разум восставали против холодного, бесстыдного цинизма государственных деятелей, имеющих безнаказанное и беспредельное право перемалывать в жерновах своей власти судьбу ни в чем не повинных людей.
Поначалу мне была неведома широта размаха и уровень общественной влиятельности тех, кто встал на защиту Бродского. Время было не только глухое, но и немое.
Поначалу, до первого суда, я знал лишь тех ленинградских литераторов, кто открыто отважились вступиться за уже арестованного молодого поэта. Этих литераторов, членов СП, была горстка, и над ними всей своей грозной и, осмелюсь сказать, нечистой силой навис секретариат писательской организации в полном составе во главе с поэтом Александром Андреевичем Прокофьевым, излюбленной сентенцией которого на наших собраниях, сентенцией, произносимой напористым, сокрушительным, командным тоном, была:
– Я солдат партии!
По всей вероятности, он полагал, что по этому призыву мы все выстроимся в одну шеренгу и дружно рассчитаемся на "первый" – "второй". Не хотелось бы излишне грешить на него – по делу Бродского были у Прокофьева доброхотные подручные, гораздо более радикальные и жестокие, нежели он. Член секретариата Петр Капица и до суда над Бродским имел в писательских кругах Ленинграда репутацию бдительно конвойную, за что его ценили руководящие работники не только литературного цеха, но и других ведомств, не имеющих прямого отношения к искусству. Вот он-то на секретариате произнес о Бродском такую прокурорскую речугу, после которой вполне логично было бы дать в те времена нынешнему нобелевскому лауреату, а тогдашнему великолепному молодому поэту лет десять строгих лагерей.
Горстку ленинградских литераторов, к которым я примкнул незадолго до первого суда, легко перечислить: Наталья Грудинина, Наталья Долинина и Ефим Григорьевич Эткинд. Я знал, что принимает самое горячее участие в горестной участи Бродского его друг Яков Гордин. Существенно помогал нашей группе, делая это тайно, поскольку он был референтом ленинградского СП, поэт Глеб Семенов: от него мы получали совершенно достоверную информацию о расстановке сил писательского руководства. И еще я знал, что должна приехать на суд Фрида Вигдорова, с которой знаком был лишь по коротенькой давнишней дружелюбной переписке.
Не забыть бы одну подробность, в ту пору она была мало кому известна. Некоторое время до первого суда Бродский содержался под стражей в Дзержинском райотделе милиции. А заместителем начальника этого райотдела был капитан Анатолий Алексеев – на редкость интеллигентный образованный молодой человек, азартный книгочий, подобных работников милиции я более никогда не встречал.
Узнав, что Бродский сидит в одиночной камере предварительного заключения этого райотдела, я попросил Алексеева зайти ко мне, он бывал у меня. Естественно, никаких секретов я не собирался выведывать у Анатолия, да он и не стал бы мне их разбалтывать. Я хотел лишь узнать, как себя чувствует Бродский, в каких условиях он содержится. Капитан рассказал мне, что условия обычные – сами знаете, не ахти, на питание скудные копейки, но он, Анатолий, поздними вечерами, когда райотдел пустоват, вызывает иногда Бродского якобы на допрос, а на самом-то деле приносит ему из своего дома поесть чего-нибудь и поит чаем. Однако в том, как мне все это рассказывал Анатолий, я ощущал некую его сдержанность, вроде бы он хотел сообщить что-то еще, но все не решался. Перед самым уходом решился. Сказал, не глядя мне в глаза:
– Не советую я вам встревать в это дело. Оно безнадежное.
– То есть как безнадежное! Откуда это может быть известно до решения суда?! – взъерошился я.– Не сталинские же времена!
– Да оно уже решенное. Василий Сергеевич распорядился, суд проштампует – и вся игра.
– А кто он такой, этот Василий Сергеевич? – наивность моя была безбрежной.
– Ну, вы даете! – грустно качнул головой Анатолий.– Василий Сергеевич Толстиков. Первый секретарь обкома.
С Фридой Абрамовной Вигдоровой я созвонился, когда она приехала в Ленинград, мы условились встретиться у меня и пойти на суд вместе. Договорились и со всей нашей маленькой группой.
Дзержинский районный суд – это на улице Восстания. Я не ожидал увидеть здесь у входа в это унылейшее здание такую непомерную толпу, главным образом – молодежи. Они заполняли не только тротуар у подъезда, но и извилистые коридоры,– залы суда были расположены во втором этаже, и подле дверей каждого зала висел список дел и время их рассмотрения, часы начала заседания. Объявления о деле Бродского нигде не висело.
По правде сказать, я взволновался, увидев такое скопление народа. Испугался, не произойдут ли какие-либо скандальные поступки в толпе, когда Бродского привезут сюда, да и во время судебного разбирательства это могло случиться, что безусловно повредило бы делу. Зная от Наташи Долининой, что Яков Гордин пользуется среди студенчества уважением и дружеским влиянием, я отыскал его в толпе и, рассказав о своем беспокойстве, попросил поговорить с ребятами, чтобы они ни в коем случае не вышли из берегов положенного порядка. Он охотно согласился сделать это, и действительно, несмотря на всю безобразнейшую возмутительность того, что происходило тогда в переполненном здании, несмотря на то, что решительно никого из них не впустили в зал заседания, издевательски устроив это судилище в самом крохотном нигде не объявленном зальчике – в нем было не более двадцати пяти квадратных метров, тридцать от силы, у меня хороший глазомер,– несмотря на все это, молодые люди, душа которых, я убежден, пенилась от возмущения, вели себя достаточно благопристойно, лишь бы не осложнять участь подсудимого.
Я стоял на лестнице, когда в тюремной машине привезли Бродского. Стоял в плотной толпе. Она притихла и умудрилась расступиться – Иосиф с заложенными за спину руками, как велено преступнику, в сопровождении двух конвоиров быстрым шагом подымался по ступеням. На лестнице было не слишком светло, но я успел разглядеть смущенную, извиняющуюся полуулыбку Иосифа, словно ему было неловко, что столько людей обеспокоены его судьбой.
Задержавшись на лестнице, я отстал от своих спутников, и когда мне удалось протолкаться в коридор, оказалось, что они уже в зале заседаний, а у дверей снаружи уже стоял охранник. И тут меня выручил Ефим Григорьевич Эткинд: он приоткрыл эту дверь изнутри зала, не знаю уж, что именно сказал охраннику обо мне, возможно, нечто и присочинив для форса, но во всяком случае в результате громко окликнул меня и пригласил войти.
Не забыть мне никогда в жизни ни этого оскорбительного по своему убожеству зала, ни того срамного судебного заседания – вот уже и четверть века проползло, промчалось, проскочило с того дня, но и сейчас взвыть хочется, когда упираешься сердцем в это воспоминание.
Да какой уж зал! Обшарпанная, со стенами, окрашенными в сортирный цвет, с затоптанным, давно не мытым дощатым полом комната, в которой едва помещались три продолговатых скамьи для публики, а перед ними, на расстоянии метров трех – судейский стол, канцелярский, донельзя поношенный, к нему приставлен в форме буквы Т столик для адвоката, прокурора и секретаря. Самая нищенская контора ЖЭКа, не более того. Все было смертельно унизительно в тот день – даже и это. Нас всех, вместе с подсудимым окунали в наше ничтожество.
Допущенная в зал публика – Вигдорова, Грудинина, Долинина, Эткинд и я легко разместились на первой скамье; на ней же, с краю, поближе к дверям, сидели мать и отец Иосифа. На них было невыносимо больно смотреть, они не отрывали глаз от двери, она должна была отвориться и впустить их сына.
Лиц народных заседателей я не помню. При цепкой моей памяти не смог их запомнить, ибо они выражали лишь свое небытие, я их не видел, даже когда силился вглядеться в них, они не фотографировались моим сознанием.
А вот судья Савельева! Тут хотелось бы чуточку объясниться. Мне часто бывает не по себе, слушая, как люди высказывают свое мнение о человеке, исходя лишь из описания его наружности: тонкие губы – злой, выдающийся подбородок – упрямый, широкий лоб – умница, низкий – тупица. Природа не настолько элементарна, ее неожиданности и секреты, ее загадочность непредсказуема.
Но вот судья Савельева! Тут уж природа не стала хитрить. Натура Савельевой была крупно и четко отпечатана на ее лице, настолько четко, что отсутствие специального переводчика не помешало бы любому иностранцу, не сведущему в русской речи, синхронно понимать по выражению лица судьи все, что она выталкивала из своих вполне обычных губ. Угрюмым хамством, невежеством, упоением властью сверкали ее глаза под неаккуратно и вульгарно подбритыми бровями, когда она чаще, нежели ежеминутно, перебивала тихие, учтивые, а порой и задумчивые ответы Бродского.
В этой компате, лживо называвшейся залом, не было барьера для подсудимого. Он стоял в углу подле двери, почти рядом со своими родителями; даже я, поднявшись и шагнув, мог бы пожать его руку. Около него, как гвоздь, торчал конвойный.
Поразительно для меня было, что этот юноша, которого только теперь я впервые имел возможность подробно разглядеть и наблюдать, да притом еще в обстоятельствах жестоко для него экстремальных, излучал какой-то покой отстраненности – Савельева не могла ни оскорбить его, ни вывести из себя, он и не пугался ее поминутных грубых окриков, хотя был сейчас всецело в ее острых когтях; покой его, видимо, объяснялся не отвагой – чем-то иным: просторное, с крупными библейскими чертами лицо его выражало порой растерянность оттого, что его никак не могут понять, а он в свою очередь тоже не в силах уразуметь эту странную женщину, ее безмотивную злобность; он не в силах объяснить ей даже самые простые, по его мнению, понятия.
Подробную запись допроса вела Вигдорова. Савельева усекла тотчас и цыкнула:
– Немедленно прекратите записывать! Или выгоню из зала!..
И Фрида Абрамовна продолжала свои виртуозные записи, теперь уже держа блокнот на коленях, даже не заглядывая в него, вслепую.
Адвокат у Бродского был опытный. Из вопросов, задаваемых своему подзащитному, и из его ответов было совершенно очевидно, что обвинение в тунеядстве кощунственно вздорное: Иосиф зарабатывал деньги переводами стихов с нескольких языков, жил в семье, общих средств для скромной жизни хватало.
Однако, недолго посовещавшись, суд вынес решение: направить Бродского на судебно-психиатрическую экспертизу, поставив перед ней главный вопрос: не страдает ли подсудимый каким-либо психическим заболеванием, которое препятствовало бы отправлению его в отдаленные местности для принудительного труда.
Когда мы выходили из этого треклятого зала, в коридорах и на лестнице густились еще более обильные толпы молодежи. Случайно я оказался притиснутым вплотную к судье Савельевой. Удивленно приподняв свои подбритые брови, она негромко произнесла:
– Не понимаю, почему собралось столько народу!
Я ответил:
– Не каждый день судят поэта.
Теперь-то мне уже давно понятно: мой ответ был бессмысленно высокомерен и сильно неточен: поэтов, прозаиков, литераторов – было время – у нас судили каждодневно.
Но я не помню ни одного случая, когда бы руководство Союза писателей вступилось бы за собрата или хотя бы назвало фамилию стукача, посадившего его.
И они, стукачи, даже взбодрились, стали "отмываться", писать и публиковать свои прогрессивные воспоминания.
А мы стали ленивы и нелюбопытны – совсем, совсем в ином смысле, чем это имел в виду Александр Сергеевич.
Вот и по делу Бродского я не изумлюсь, если прочитаю, что кто-либо из членов тогдашнего секретариата будет нынче утверждать, как он горячо ратовал во спасение замечательного поэта.
Напишет, опубликует – и земля не разверзнется у него под ногами.
В качестве постскриптума хочу привести следующее письмо А. Б. Чаковскому, подаренное мне Ф. Вигдоровой.
"В редакцию "Литературной газеты"
Глубокоуважаемый Александр Борисович!
Прошу Вас внимательно прочесть мое письмо.
В середине февраля я попросила у "Литературной газеты" командировку в Ленинград. Мою просьбу выполнили, но специально предупредили, чтобы в дело молодого ленинградского поэта-переводчика Бродского я не вмешивалась. Я спросила, могу ли я именем "Литературной газеты" хотя бы пройти на суд, если он будет закрытым. Мне ответили: нет. Вероятно, мне сразу надо было отказаться от командировки, ведь, в сущности, мне было выражено самое оскорбительное недоверие.
К сожалению, я это поняла особенно остро уже на суде, когда судья в самой грубой форме запретила мне записывать, а я не могла в ответ предъявить удостоверение газеты, в которой сотрудничаю много лет и которую ни разу не подводила. Разве можно лишить журналиста его естественного права видеть, записывать, добираться до смысла происходящего?
Поэтому командировку я возвращаю неотмеченной и, разумеется, верну в бухгалтерию деньги. Но независимо от того, как сложатся теперь мои отношения с газетой, я считаю необходимым предложить Вашему вниманию запись первого и второго суда над Бродским. Как Вы поймете, дело не только в Бродском, а в том глубоком неуважении к интеллигенции и литературному труду, которые такие суды воспитывают у людей. Дело в чудовищном беззаконии, которое я наблюдала. Ваше право выступать или не выступать по этому поводу. Но знать, что там было, Вы, по-моему, должны.
Г. Радов был на втором суде, но, к сожалению, должен был уйти, не дождавшись конца. Возможно, там был и т. Хренков.2 Впрочем, думаю, что его не было, потому что иначе, я уверена – он вступился бы за меня, когда мне (к счастью, в самом конце заседания) категорически запретили записывать.
Очень прошу ознакомить с моим письмом и протоколами суда членов редколлегии "Литературной газеты". С уважением Ф. Вигдорова".
Когда мы говорим о "деле Бродского", мы обычно все свое внимание сосредоточиваем на двух чудовищных судилищах. А ведь между ними была психиатрическая экспертиза. Вигдорова несколько позже писала: "Как я поняла из рассказов отца, переезд Ленинград – Коноша (Иосифа после приговора этапировали в Архангельскую область.– Я. Г.) был не самое трудное. Самым тяжелым была больница. 3 дня буйного отделения (без всякого для того повода), ледяные ванны, самоубийство соседа по койке и пр."
Вот после этого Бродский снова предстал перед высоким судом.
Второе – главное заседание – состоялось 13 марта. Оно происходило в клубе 15-го ремонтно-строительного управления на Фонтанке, 22, возле Городского суда, бывшего III отделения. Нужен был большой зал, поскольку готовилось показательное мероприятие. Из друзей Иосифа и вообще литературной публики в зал попало сравнительно немного народу. Две трети зала заполнены были специально привезенными рабочими, которых настроили соответствующим образом.
2 Д. Т. Хренков работал в то время зав. корпунктом "Литературной газеты" в Ленинграде.
Я просидел в зале все пять часов – а это не всем удалось! – и головой ручаюсь за точность второй записи Фриды Абрамовны.
"Заключение экспертизы гласит: в наличии психопатические черты характера, но трудоспособен. Поэтому могут быть применены меры административного порядка.
Идущих на суд встречает объявление: Суд над тунеядцем Бродским. Большой зал Клуба строителей полон народа.
– Встать! Суд идет!
Судья Савельева спрашивает у Бродского, какие у него есть ходатайства к суду. Выясняется, что ни перед первым, ни перед вторым он не был ознакомлен с делом. Судья объявляет перерыв. Бродского уводят для того, чтобы он смог ознакомиться с делом. Через некоторое время его приводят, и он говорит, что стихи на страницах 141, 143, 155, 200, 243 (перечисляет) ему не принадлежат. Кроме того, просит не приобщать к делу дневник, который он вел в 1956 году, то есть тогда, когда ему было 16 лет. Защитница присоединяется к этой просьбе.
Судья: В части так называемых его стихов учтем, а в части его личной тетради, изымать ее нет надобности. Гражданин Бродский, с 1956 года вы переменили 13 мест работы. Вы работали на заводе год, потом полгода не работали. Летом были в геологической партии, а потом 4 месяца не работали... (перечисляет места работы и следовавшие за этим перерывы). Объясните суду, почему вы в перерывах не работали и вели паразитический образ жизни?
Бродский: Я в перерывах работал. Я занимался тем, чем занимаюсь и сейчас: я писал стихи.
Судья; Значит, вы писали свои так называемые стихи? А что полезного в том, что вы часто меняли место работы?
Бродский: Я начал работать с 15 лет. Мне все было интересно. Я менял работу потому, что хотел как можно больше знать о жизни и людях.
Судья: А что вы делали полезного для родины?
Бродский: Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден... Я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям.
Голос из публики: Подумаешь. Воображает.
Другой голос: Он поэт, он должен так думать.
Судья: Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?
Бродский: А почему вы говорите про стихи "так называемые"?
Судья: Мы называем ваши стихи "так называемые" потому, что иного понятия о них у нас нет.
Сорокин: Вы говорите, что у вас сильно развита любознательность. Почему же вы не захотели служить в Советской армии?
Бродский: Я не буду отвечать на такие вопросы.
Судья: Отвечайте.
Бродский: Я был освобожден от военной службы. Не "не захотел", а был освобожден. Это разные вещи. Меня освобождали дважды. В первый раз потому, что болел отец, во второй раз из-за моей болезни.
Сорокин: Можно ли жить на те суммы, что вы зарабатываете?
Бродский: Можно. Находясь в тюрьме, я каждый раз расписывался в том, что на меня израсходовано в день 40 копеек. А я зарабатывал больше, чем по 40 копеек в день.
Сорокин: Но надо же обуваться, одеваться.
Бродский: У меня один костюм – старый, но уж какой есть. И другого мне не надо.
Адвокат (3. Н. Топорова): Оценивали ли ваши стихи специалисты?
Бродский: Да. Чуковский и Маршак очень хорошо говорили о моих переводах. Лучше, чем я заслуживаю.
Адвокат: Была ли у вас связь с секцией переводов Союза писателей?
Бродский: Да. Я выступал в альманахе, который называется "Впервые на русском языке" и читал переводы с польского.
Судья (защитнице): Вы должны спрашивать его о полезной работе, а вы спрашиваете о выступлениях.
Адвокат: Его переводы и есть его полезная работа.
Судья: Лучше, Бродский, объясните суду, почему вы в перерывах между работами не трудились?
Бродский: Я работал. Я писал стихи.
Судья: Но это не мешало вам трудиться.
Бродский: А я трудился. Я писал стихи.
Судья: Но ведь есть люди, которые работают на заводе и пишут стихи. Что вам мешало так поступать?
Бродский: Но ведь люди не похожи друг на друга. Даже цветом волос, выражением лица.
Судья: Эго не ваше открытие. Это всем известно. А лучше объясните, как расценить ваше участие в нашем великом поступательном движении к коммунизму?
Бродский: Строительство коммунизма это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд, который...
Судья: Оставьте высокие фразы. Лучше ответьте, как вы думаете строить свою трудовую деятельность на будущее.
Бродский: Я хотел писать стихи и переводить. Но если это противоречит каким-то общепринятым нормам, я поступлю на постоянную работу и все равно буду писать стихи.
Заседатель Тяглый: У нас каждый человек трудится. Как же вы бездельничали столько времени?
Бродский: Вы не считаете трудом мой труд. Я писал стихи, я считаю это трудом.
Судья: Вы сделали для себя выводы из выступления печати?
Бродский: Статья Лернера была лживой. Вот единственный вывод, который я сделал.
Судья: Значит, вы других выводов не сделали?
Бродский: Не сделал. Я не считаю себя человеком, ведущим паразитический образ жизни.
Адвокат: Вы сказали, что статья "Окололитературный трутень", опубликованная в газете "Вечерний Ленинград", неверна. Чем?
Бродский: Там только имя и фамилия верны. Даже возраст неверен. Даже стихи не мои. Там моими друзьями названы люди, которых я едва знаю или не знаю совсем. Как же я могу считать эту статью верной и делать из нее выводы?
Адвокат: Вы считаете свой труд полезным. Смогут ли это подтвердить вызванные мною свидетели?
Судья (адвокату, иронически): Вы только для этого свидетелей и вызвали?
Сорокин (общественный обвинитель, Бродскому): Как вы могли самостоятельно, не используя чужой труд, сделать перевод с сербского?
Бродский: Вы задаете вопрос невежественно. Договор иногда предполагает подстрочник. Я знаю польский, сербский знаю меньше, но это родственные языки, и с помощью подстрочника я смог сделать свой перевод.
Судья: Свидетельница Грудинина.
Грудинина: Я руковожу работой начинающих поэтов более 11 лет. В течение семи лет была членом комиссии по работе с молодыми авторами. Сейчас руковожу поэтами-старшеклассниками во Дворце пионеров и кружком молодых литераторов завода "Светлана". По просьбе издательства составила и редактировала 4 коллективных сборника молодых поэтов, куда вошло более 200 новых имен. Таким образом, практически я знаю работу почти всех молодых поэтов города.
Работа Бродского, как начинающего поэта, известна мне по его стихам 1956-го и 1960 годов. Это были еще несовершенные стихи, но с яркими находками и образами. Я не включила их в сборники, однако считала автора способным. До осени 1963 года с Бродским лично не встречалась. После опубликования статьи "Окололитературный трутень" в "Вечернем Ленинграде" я вызвала к себе Бродского для разговора, так как молодежь осаждала меня просьбами вмешаться в дело оклеветанного человека. Бродский на мой вопрос -чем он занимается сейчас? – ответил, что изучает языки и работает над художественными переводами около полутора лет. Я взяла у него рукописи переводов для ознакомления.
Как профессиональный поэт и литературовед по образованию я утверждаю, что переводы Бродского сделаны на высоком профессиональном уровне. Бродский обладает специфическим, не часто встречающимся талантом художественного перевода стихов. Он представил мне работу из 368 стихотворных строк, кроме того, я прочла 120 строк его переводных стихов, напечатанных в московских изданиях.