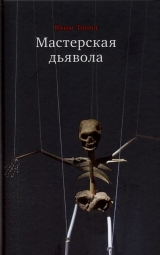
Текст книги "Мастерская дьявола"
Автор книги: Яхим Топол
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Вытерев сопли и рвоту о плечо Рольфа, он подносит тарелку к его глазам.
– Ты видишь? «На память о Минске», – читает он вслух. – По-русски! «На памяць пра Мiнск» должно быть, это же белорусская столица, черт побери! И вообще, по-настоящему – Менск, большевики даже название города у нас украли! – он швыряет тарелку на бетонный пол так, что во все стороны разлетаются осколки.
А Алекс со вздохом садится на край ванны.
– Русские – наши великие братья, ну да, такие великие, что готовы всё сожрать. Вот и в наш туристический бизнес стали лезть. А это неправильно!
Гляжу, а в руке у него какая-то… медицинская пила.
– Что с ним? – спрашиваю я, показывая на Рольфа, который тихонечко всхлипывает.
– Даже чрезвычайное положение президент объявил по-русски, дурак!
– Что с ним?
– Слабак, не то что ты. Я поручил ему делать рекламу, фотографировать, записывать рассказы людей, а когда придет время, выложить это на всеобщее обозрение. Но он свихнулся. Просто не справился со всем этим.
– Не справился?
– Понимаешь, он жил в своем мире глянцевых журналов, строчил свои репортажи, а тут такое! Музей в дикой пуще. Но ты-то справишься, правда ведь?
– С чем он не справился?
– Сломался, когда старики подписывали согласие на то, чтобы мы их тут выставили.
– Ты же говорил, что они сами просили…
– В основном да. Некоторые.
– Вот как!
– Мы должны проявлять величие при виде страданий ближних, – вроде как шутит Алекс, скалясь, точно старшеклассник на школьном празднике. – Да, иногда просто необходимо уметь вынести страдания других людей. Тут у фашистов расчет был точный. А написал это Жан Амери[18] – читал?
Я завертел головой. Не читал я ничего, кроме дурацких учебников, которые сразу же забывал, и мейлов, приходивших в «Комениум», но это ему знать не обязательно.
– А стоило бы, – засмеялся Алекс. – Раз уж ты такой эксперт.
Вот и еще один меня поучает! Гм… Я обвожу взглядом помещение. Медпункт. Рядом еще должна быть операционная. Совсем небольшая. У стены расставлены коробки. Канистры, металлические и пластмассовые. На полках лежат инструменты. На стене у меня над головой висят большие клещи.
Я поворачиваюсь. Пила в руке Алекса взвыла, от ее рева закладывает уши, наверное, она работает от батареи, ну да, у такого снаряжения должен быть свой собственный источник питания, думаю я.
– Осмотрись тут пока, – кричит Алекс, чтобы его было слышно в этом шуме. – А потом мне поможешь.
Он поворачивается спиной и склоняется над Луисом.
Покосившись на Алекса, я тянусь, хватаю клещи и прячу руку с ними под курткой. Рольф меня не выдаст. Кажется, он в отключке. Совсем по-детски дергает меня за рукав и тащит куда-то за собой, семеня, будто напуганный зверек. У нас он снимал танцы под крепостными стенами. Здесь – бункер, где из людей делают мумии.
– Рольф! Красная трава, помнишь? – кричу я, но он не слышит. Визг пилы заполняет подземелье.
Он в этом зале. Сюда едва проникает тусклый свет из коридора. Я едва не выпускаю из руки клещи.
Он сидит, слегка наклонившись вперед, такой, каким я знал его всю жизнь. Точь-в-точь как во время тех вечеров в «Комениуме», когда он говорил со студентами, которых таким образом лечил, вот именно так он и выглядит. В своем черном костюме… он даже сидит на нарах, сколоченных из досок. Алекс добивался подлинности.
Думаю, этого он и хотел.
Чтобы я вот так увидел Лебо.
Рольф привел меня сюда, и я должен был перетрусить. Понять, что у шефа, пана Напористого, на руках все козыри.
И он почти добился своего. Я чуть было не поздоровался с Лебо. Вот только он мертв.
До моего сознания доходит, что пила уже не слышна.
Я смотрю на Лебо. И жду Алекса.
Ну так и есть.
Не такой уж он тихоход.
Поэтому, услышав его голос, я не вздрагиваю. А клещи – снова у меня под курткой.
– Мы последние из тех, которые еще знают очевидцев, – говорит он. – А когда они умрут, здесь будет музей. И то, что было, не исчезнет. Ведь именно этого хотел Лебо, не так ли?
Он стоит между Рольфом и мной, нашаривая выключатель. В свете лампочек Лебо выглядит еще лучше. Что сказать, выглядит он хорошо. Правда, он мертв.
– Думаешь, легко было погрузить старика в самолет? – спрашивает Алекс. – Из Терезина мы доставили его в скорой. Забинтованного. Так что сбили со следа легавых, понял?
– Вот как? Ну да…
– Он сам хотел выбраться из Терезина. Чтобы продолжать дело здесь. В «Мастерской дьявола». Поверь мне.
Они его вывезли. И Алекс сделал из него куклу. Я хочу, чтобы Алекс повернулся ко мне спиной. Не хочу видеть его лицо. Когда я его ударю.
– Значит, Лебо ты убил уже здесь?
– В музее он будет для всех, – отвечает Алекс, наклоняясь к проводкам. – Не только для горстки неженок с Запада, как у вас в Терезине.
– Ты его убил?
– Где же убил, совсем наоборот! – возражает Напористый. – Как раз теперь Лебо живее всех живых, «наше знанье, сила и оружие», – декламирует он, вытаскивая проводки, торчащие из-под черного пиджака на манекене. – Знаешь эти строчки? Песня о Ленине! Ты вообще в школу-то ходил?
Других мумий в этом зале нет. Так Алекс воздает Лебо почести. Это мне понятно. Но я не хочу слышать Лебо. Не хочу слушать говорящий труп.
– Он был бы против того, чтобы вы делали из людей чучела, – говорю я. – Чтобы под видом памяти о прошлых зверствах убивали других людей.
– Даже тех, кто и так уже на пороге смерти?
Пальцы Алекса в резиновых перчатках быстро бегают по проводкам. Перчатки ему не мешают.
И вдруг я сознаю, что Лебо пилили в том самом гостиничном номере, в котором меня поселили. Вот откуда эти пятна повсюду. Там его и убили.
Марушка, эх, думаю я. Жалко-то как. Я знаю, что вы с Алексом вместе. Но у меня нет выбора.
– Ты что, не веришь, что Лебо подписал согласие? – говорит Алекс спокойным голосом, проверяя контакты. – И отдал нам все деньги? Что в банк он с нами пошел по доброй воле? Думаешь, мы сказали: кошелек или жизнь? Вовсе нет. Так ты мне веришь?
И тут Лебо пошевелился. Повернул голову – электрический импульс его заставил. Это одновременно он и не он.
– Я родился на нарах в лагере, – говорит Лебо… да, это его голос, так он иногда начинал свои вечерние рассказы. – …Его мать вытащил из тифозной ямы солдат, – продолжает старик на стуле, – юный барабанщик, сын полка, они поженились и родили сына. Но мать… боялась открытого пространства… я носил ей букеты… кхм, кхм… – тут у манекена в черной шляпе затрясся подбородок, эти слова как будто застряли у него в горле, и он замолк. Лицо его отливает желтизной, должно быть, из-за освещения… и вот мой Лебо только водит головой вверх-вниз, в нем что-то заело.
Глядя на него, я тоже слегка качаю головой.
Алекс бешено шипит и дергает за проводки. Ага, теперь он ползает вокруг Лебо на четвереньках. Дурак, не понимает, как я зол!
– Так ты правда думаешь, что он не хотел бы тут оказаться? – говорит он, по-прежнему повернувшись ко мне спиной.
Я чувствую шевеление рядом. Это Рольф. Он вертит головой, показывая: нет! нет!
– Иди ты к черту, – отвечаю я Алексу. Так громко, что он оборачивается и смотрит на меня. Замечает клещи, занесенные над головой. И я вижу ужас в его глазах. Он уже все понял. Я должен пройти через это. И мне это удается. Взмах руки – и тяжелые клещи обрушиваются прямо на его морду. Треск зубов – и он валится на пол, череп разбивается о бетон. И снова – хлоп, второй удар – по лампочке. Я не хочу видеть Лебо таким. Униженным, беспомощным. Еще более беззащитным, чем когда он был младенцем. Лампочка лопается, и Лебо остается сидеть черной глыбой в непроглядной тьме.
Мы с Рольфом сваливаем. Идем по коридору, под ногами хрустят осколки стекла. Доходим до того места, где два коридора перекрещиваются. Повсюду – человеческие чучела. В нишах. Мумии сидят на стульях у стен. То там, то сям мигают лампочки. Некоторые свечи уже догорели. Ничего, я сориентируюсь тут по памяти. Вдруг Рольф садится на пол, протягивая мне ключ. Я беру его и сую в карман.
– Вставай, парень! Линяем отсюда!
Рольф вертит головой. Я повторяю, чтобы он вставал, на двух языках – думаю, он и по-русски наловчился. Но он только мотает головой. Тогда я хлопаю его по щекам. Сильно. И еще раз. Он и бровью не ведет. Наверное, уже привык к побоям.
– Ты останешься с мумиями и совсем свихнешься! От страха в штаны наложишь! Пойдем со мной!
Он качает головой.
Я прикладываю ухо к его губам.
– Тут великолепно, – шепчет Рольф.
– Что за чушь!
– Я останусь с ними. Мне это по душе. Ближе уже не подберешься.
– Ближе к чему?
– К ужасу.
Мне становится не по себе. Это все от спертого воздуха. Что там Алекс? Как бы он не пришел в себя! Я не добил его, на это меня не хватило. Я думал, что хватит. Но нет. Как бы то ни было, ждать его я не намерен.
– Так ты не встанешь?
– Иди к черту, – говорит Рольф.
– И ты, – отвечаю я. Пробираясь к выходу, я упираюсь вытянутыми перед собой руками в мягкий живот старой женщины, она пошатывается, стул под ней скрипит, мертвые глаза блестят из-под платка, мне не мешают ни полумрак, ни даже полная темнота, такие коридоры мне знакомы… правда, без мумий… я бегу, роняю клещи, спотыкаюсь о разбросанные инструменты, врезаюсь в ванну, откуда что-то выплескивается, натыкаюсь на манекены, какие-то из них я повалил, на бегу я сбиваю и свечи, лужи озаряются их синеватым пламенем, искры с шипением летят во тьму, но я быстрее искр взлетаю по ступеням наверх, Алекса я добить не сумел, но вот пожар после себя, кажется, оставил, не знаю, да или нет, не знаю; наконец я вижу массивный железный лист, которым укреплена дверь, это выход!
Я выбегаю наружу, захлопываю за собой дверь и делаю глубокий вдох. И еще один! Я с наслаждением пью воздух, но тут вокруг моего горла с неумолимой силой затягивается петля, я поскальзываюсь – и без чувств падаю навзничь.
– Стало быть, вы договорились? – спрашивает она меня сквозь туман, в который я погружен. Моя голова лежит у Марушки на коленях. Я открываю глаза. Мы в палатке. – Больно? У тебя была веревка на шее, я ее в шутку и дернула. Откуда мне было знать, что ты свалишься? Извини!
– Гололед, – говорю я с некоторым трудом. У меня в голове словно тюкают острые топорики.
Она сует мне в рот две таблетки, дает воды запить и сама тоже глотает.
– Мне от Алекса здорово влетело за то, что ты все время норовил сбежать. Вот я и поймала тебя за веревку, так сказать, для тренировки!
Осмотревшись вокруг, я сажусь.
– Значит, ты наконец-то поумнел и передашь нам все свои данные.
– Откуда ты знаешь?
После таблеток мне стало лучше. Как и раньше. Только вот на шее у меня останется синий след от петли…
– Иначе Алекс не выпустил бы тебя из музея. Я бы страшно горевала, если бы он тебя выпотрошил, веришь?
– Горевала? Серьезно?
– Ты же это проглотил, да?
Я киваю.
– Ну так испражняйся.
Могла бы не выражаться так вульгарно, думаю я. Если бы Алекс стал меня потрошить, он сделал бы мне укол. Только меня никто потрошить не будет. Я ложусь на спину. Тут так приятно! Печка пышет, капли дождя стучат в брезентовый тент.
– Эй! – окликает меня Марушка. Вставая, она слегка пинает меня. Нежно, деликатно.
Сейчас я рад, что снаружи моросит. Рад из-за дыма. Пройдет время, пока огонь из подземелья доберется до деревянных стен огневого блокгауза. Я, во всяком случае, надеюсь, что бункер горит. Химия, всякие легковоспламеняющиеся прибамбасы на каждом шагу… А может, огонь погас. И скоро сюда придет Алекс. Пора сваливать.
– Марушка, я… стесняюсь! Перед тобой не могу. Да и вообще не могу.
– Я тебя умоляю! Ты что, маленький, что ли?
– Марушка! Давай пройдемся, мне надо растрясти кишечник. Несколько минут, ладно?
– Гм, ну не знаю…
– Я окоченел, мне просто необходимо согреть живот. Ты же медсестра! Ты меня понимаешь?
– Могу дать тебе рвотное.
– Пожалуйста, только не это!
– Ну, если не рвотное, тогда слабительное. Из тебя сразу все выскочит!
Однако против прогулки она не возражает. Мы выходим, и я чуть ли не сам веду ее. Вверх по склону – к Хатыни, мертвой деревне. Пусть холм отделяет нас от музея. Если повалит дым, его будет видно не сразу. Я не знаю, что сделаю, если вдруг появится Алекс.
Впереди в тумане показалась первая труба. Перед нами – первый разрушенный хатынский дом.
Развалины дома. И еще одного. Мы шагаем рядом. На плече у нее сумка. Как тогда, когда мы гуляли по Минску, Городу Солнца. Не то что тут, на кладбище в лесах. Эх…
– Но здесь нельзя! – говорит Марушка. – Это священное место!
– Понимаю… Послушай, – смелею я. – Как там твои мальчишки, твои дети?
– А что?
– С кем они сейчас? С бабушкой?
– Нет.
– А где они?
– Остались в том доме. С другими детьми и стариками. Как-нибудь выкрутятся, убегут или спрячутся. Те люди их не тронут.
– Не очень-то уверенно ты это говоришь.
– А кто вообще может быть в чем-то уверен? Хотя это часть плана, часть обучения.
– Какого еще обучения?
– Обучения науке выживать.
– Что?!
– Мои мальчики попадают в разные ситуации. Как и другие наши дети. Они с детства должны уметь с ними справляться, понял?
Я вспоминаю обезумевшую толпу, ее рев, камни, палки, взрывы петард, от которых сотрясаются стены дома…
– Но это жестоко!
– Они должны уметь выстоять. Никто не знает, что нас ждет.
– Это верно. Но ты сказала: другие дети. Чьи?
– Дети наших друзей. Всех наших друзей. Это Марк Каган придумал для них такой курс обучения. Но теперь они уже наверняка в безопасности. Вместе со своим папой.
– Что?! Я думал, твой муж – Алекс.
– Это мой брат.
Я схватил ее руку и сжал так, что она даже вскрикнула. Как ей было догадаться, что у меня словно камень с души свалился? Отправить на тот свет брата – это страшно, признаю. Но оставить Марушкиных мальчишек сиротами – такого я бы в жизни себе не простил.
Мы всё еще поднимаемся вверх, потом по черным камням идем мимо других развалин. По дороге местами попадаются колоколенки. Каменные, не деревянные. Колокола на них неподвижны, не шелохнутся даже на ветру.
– Раньше они непрерывно звонили, – объясняет Марушка, показывая на колокола.
– Да?
– В знак траура. Их электричество раскачивало. Только теперь оно необходимо для музея. Кое-кто говорит, что это сулит несчастье. А ты как думаешь?
Но я думаю только о том, как бы не растянуться на камнях.
– Наша мама пережила уничтожение Хатыни. Алекс тебе не рассказывал? Ей было семь лет. Дедушку распяли на амбаре, а остальных сожгли заживо в горнице. Мама спряталась в дровяном сарае. Ее истыкали штыками, а сарай подожгли, но она сумела как-то выползти.
Сейчас холм закрывает от нас музей. Это важно, мелькает у меня в голове.
– Ее маленький братик, который был бы мне дядей, ходил в ботинках с подметками, вырезанными из шин. Другой обуви у него не было. Мама увидела, что эти изверги близко, и говорит ему: сними, ведь резина долго горит. Чтобы он долго не мучился, понимаешь?
– Да.
– Но маме не повезло! Дело в том, что официально в Хатыни никто не выжил, тем более такая девчушка. Это везде было написано, так все считали. И вдруг после войны она вылезла откуда-то из убежища и говорит: я там была и всё видела, а мужики эти разговаривали между собой по-украински!
– Какие мужики?
– Да убийцы же. Мол, не только немцы жгли, но и советские люди, понял? Ну, она и попала в переплет. А вернувшись из сибирского лагеря, повторяла уже только одну историю – о тех резиновых галошах. Меня от этого просто трясло. Такой кошмар!
– А кто же тогда твой муж? – хочу я знать все о Марушке.
– Я Мария Каган.
Меня как будто током ударило. Так она жена этого сурового старика! Я отвернулся, чтобы она не видела моего лица.
Марушка коснулась моего плеча.
– Хорошо, что ты с нами. Я рада.
Дыма над музеем не заметно. Дальше мы пойдем вниз по склону, и музея уже видно не будет.
– Рассказать тебе, как мы познакомились?
– Само собой!
– Я была совсем молодая девчонка, как вдруг на меня нашло, – говорит Марушка. – Все вокруг точно потемнело. Мир ужасен, вертелось у меня в мозгу. Потому что в нем случилось такое. Все эти смертоубийства. Вот на что люди оказались способны. А раз так, это запросто повторится. Что же мне делать?
– Ясно! – отвечаю я. Это мне знакомо.
– Стоило на меня кому-то взглянуть, я сразу спрашивала себя: интересно, он спрячет меня или выдаст, когда это опять произойдет? Куда бы я ни вошла, первая мысль – где здесь можно укрыться? На чердаке? В шкафу? Мне становилось все хуже и хуже. «Может, мне наложить на себя руки?» – думала я. Ведь этот мир такой гнусный. Полный жестокости. Люди злы.
Я смотрю на Марушку, которая спокойно рассказывает о том, каково ей было. Сейчас она уже совсем не производит впечатления нароискательницы.
– Алекс отвел меня к Кагану. В Белоруссии в концлагерях уничтожили миллион человек. Но Каган выжил…
К нему приходило много таких, как я. И до сих пор приходят…
Да… Мальчишкой он прошел через все это. Всю его родню убили. Он был в горящем гетто. Выкарабкался из общей могилы. Видел, как люди едят других людей. И был способен об этом рассказывать. А мы его слушали. Иногда мы даже смеялись вместе. Несмотря на весь этот ужас, и со всем этим ужасом можно жить дальше. Этому он нас учил. В общем, рассеял он ту тьму вокруг меня. Такому человеку за это что угодно отдашь. Если он того захочет.
– Хм…
Вдруг, остановившись на склоне, она фыркнула от смеха. Должно быть, опять таблетку приняла.
Так и есть: лезет в сумку и дает мне тоже. Мы заедаем таблетки горстями снега.
– Помнишь, как мы смывались из «Фальварка»?
– Еще бы!
Теперь уже фыркаем мы оба.
– В «Мастерской дьявола» будет масса рабочих мест. Для ремонтников, техников, сторожей, экскурсоводов и так далее. А туристы будут приезжать с деньгами. И будет справедливо, если деньги от этого достанутся потомкам убитых, правда ведь? Впрочем, другие тут и не живут. А я, когда стану старая, смогу работать тут смотрительницей. В нашем музее.
Она привычно и беззаботно идет со мной бок о бок. Не понимает, что мне пора сматываться. Алекс остался в музее. И Рольф. Партизаны убьют меня!
На мгновение сквозь капли дождя и туман проглянуло солнце. Форма на ней поистрепалась, что есть, то есть. Но волосы ее сияют, и она не перестает улыбаться. Я тоже улыбаюсь. Нет, вместе со мной она не убежит. Ведь у нее дети.
Мы спустились с косогора. Отсюда начинается лес. Березняк. Я замедляю шаг, чтобы порасспросить ее еще об одном.
– Лебо ты тоже сделала укол, когда вы его везли?
– Да. В Минск мы вас переправили на основании чешско-белорусского договора об экстрадиции преступников. Кое-кого пришлось подмазать, это само собой. Смотри, вон кусты!
– И ты была с ним в гостинице?
– Нет, я оставалась с детьми. Им занимался брат. Пойдем вон под те деревья, ладно?
– Марушка! Ты знаешь, что там, в музее?
– Ты в своем уме? Музей я увижу только в день открытия. Это будет колоссально! Приедут люди из Минска и вообще отовсюду. На мне будет парадная форма – не могу же я отправиться туда прямо в этой! Видишь? – она просунула пальчик через дырку в кителе и игриво им помахала.
– Такая красавица может нацепить на себя хоть мешок от картошки!
– Послушай, не шути так. Я такие разговоры не люблю!
Но она не сердится. Чего нет, того нет. И Лебо убила не она. Будь это так, она бы мне прямо сказала. Улыбчивая Марушка. Или безжалостная кровавая Мэри.
– Смотри, вон там, между деревьями! Давай там. Я отвернусь.
– Мне бы еще коры надрать. Вместо бумаги, поняла?
Она кивает.
Я спускаюсь вниз, к деревьям, снимаю верхний слой коры и жду, не случится ли что-нибудь. Нет, ничего не происходит. Что ж, мне надо это сделать. Постараюсь как можно бережнее. И я делаю шаг в ее направлении.
– Эй, постой! – кричит она сверху, со склона. И сама застывает на месте. Похоже, она тоже почуяла. Дым. Его принесло порывом ветра. Густой дым пожара.
Я бегу к ней со всех ног.
– Стой! – рявкает она.
Я убыстряю шаг. Хочу зажать ей рот берестой, чтобы она не кричала. Повалить ее на землю. И усыпить.
Всей своей тяжестью я наваливаюсь на нее, и она с запрокинутой головой падает на колени. Потеряла сознание? Может быть, с нее хватит? Но тут Марушка легко, по-звериному вскакивает, игла скользит по куску коры, который я занес над ней, она снова направляет ее в мою сторону, я уворачиваюсь, хватаю ее за руку, мы оба поскальзываемся – и она, валясь на меня, втыкает иглу себе в бедро. Не издав ни звука, она затихает. Я этого не хотел.
Повторяя про себя до бесконечности «Марушка, я не хотел этого!», я несу ее на руках вверх по склону, в мертвой деревне прислоняю к изгороди, на ее щеках по-прежнему горит румянец, и она дышит, я снова поднимаю ее, и тут… из крыши блокгауза вырывается язычок пламени. Да, по крыше музея ползут оранжевые и зеленоватые огненные змейки. Ветер доносит до меня треск и приглушенные удары. Это прогорели балки или взрывается та химическая дрянь…
В палатке я кладу ее на постель. Марушка… ты получила ровно столько, сколько хотела вколоть мне. Так что все по справедливости, нет? Ты спишь?
Она не дергается, ничего такого… Совсем как спящая царевна! Я разуваю ее, ослабляю ремень шинели и укрываю. Одеял и спальных мешков тут навалом.
Нашариваю в сумке таблетки, одну синенькую глотаю, а горсть сую в карман.
Еще у нее в сумке ножницы. Я отрежу у нее только маленькое колечко, она и не заметит. Марушка, я возьму у тебя на память немножко волос, ладно? В этом нет никакого злого умысла. Просто я не знаю, как с тобой попрощаться.
Я наматываю рыжие ниточки волос себе на палец.
И, глядя на них на фоне языков огня, который поглощает музей, я вижу красное небо.
Я сижу там просто так.
Рядом с ней.
Однако времени у меня, похоже, немного.
Куда мне идти?
Я роюсь в памяти, он там, в базе данных, этот адрес, да и конверт с ним у меня где-то есть – или нет, неважно.
С паном Марой я бы работать не стал, Марушка, ни за что. Но он обещал мне деньги. За игру. Может быть, для начала это было бы не так плохо, размечтался я.
Мечты, мечты…
Я подкладываю в печку дров. Побольше. Чтобы ей было тепло.
И тут я слышу!
Трактор. Хорошо, что он так шумит. За рулем сидит Красная шапка, а вообще их там несколько. Я проползаю под брезентом палатки и исчезаю в тумане.
13.
Через березняк, кусты, редкий перелесок по корке почти замерзшего снега идти еще можно. В лес мне не хотелось. А потом, в чистом поле, на меня накатило. Посреди поля виднелось большое черное пятно – то ли болото, то ли рощица, а может, дом, где я смогу набраться сил. Может, там будут хотя бы камни или ямы в земле. Ров, кювет, где можно спрятаться и наблюдать за внешним миром, за тем, как течет в нем жизнь.
А то тут совсем негде укрыться, кроме как в лесу.
Я вышел на равнину, сердце во мне затрепыхалось, как маленький зверек, я весь покрылся испариной – до того мне и невдомек было, что поле может быть таким огромным.
Но потом я привык. Я смотрел вниз, прямо перед собой, не отрывая глаз от земли, и шел. Черный островок в сумраке был моей надеждой.
В душе я уже не раз говорил Алексу спасибо за шмотки. Иду теперь в них по этой равнине, как в защитном коконе. Флешка во мне закуклилась.
Алекс, и зачем было грозиться, что ты меня выпотрошишь? «Если кто-то скажет, что хочет убить тебя, – верь!» – так учил нас Лебо. Куда я иду? Тех, кого я знал, уже нет. И я сам не понимаю, куда иду. Не знаю, встречу ли там кого живого. К кому бы я питал какие-то чувства. Я вглядываюсь в студеную землю под ногами, и каждый шаг дается мне с таким трудом, что я даже не могу думать о Марушке.
Первый крест я увидел уже сквозь снежную пелену. Пошел снег. Ветер чуть не валит меня с ног. Но я радуюсь, хотя и остерегаюсь еще больше. Людей. Ничего, как-нибудь я отсюда выкарабкаюсь. Студеная земля меня наверняка выпустит. Не поглотит, не всосет.
Следующие кресты стоят цепью. Я прохожу между ними, поднимаю глаза: все в порядке, голова не кружится.
Черное пятно – это невысокий холм, поросший деревьями и кустарником. Чтобы подойти к его подножию, мне приходится протискиваться между крестами. Маленькие, большие, есть даже массивный двухметровый крест с перекладинами из бревен, а рядом – крошечный крестик из еловых веток. На нем полощется выцветшая розовая лента. Возле крестов – плюшевые игрушки: медведь, обезьянка, еще какие-то звери. Все заляпанные, потрепанные ветром и дождями. Основания крестов у земли укреплены камнями. Маленьких крестов с игрушками – больше.
Кажется, в этот момент я застонал. Громко, что было неосторожно с моей стороны. Я понял, что это очередное кладбище. Но мне нужно идти дальше. Обратно на равнину ни за что не вернусь.
Я отгибаю ветки деревьев – среди них тоже кресты. И камни, некоторые с надписями. Кириллицей и знакомыми мне буквами. Имена. Еврейский камень с вырезанной на нем звездой, подобные я и у нас видел.
Медленным шагом проходя между крестами, я поднимаюсь вверх. Имена вырезаны и на деревьях. Некоторые шрамы на них уже заросли, другие все еще белеют на коре. Но нигде не видно ни человечьих, ни собачьих следов, ни даже тропинки, вытоптанной козьими копытцами, – ничего такого.
Ветер. Даже если бы я решил вернуться с усеянного крестами холма обратно в поле, меня сдуло бы ветром, который гонит сюда с равнины мелкие колючие градинки. Я пробираюсь между большими и маленькими крестами, что растут тут гуще деревьев, на самую вершину.
И вижу: там стоит человек! Соскальзывая в снег, я прячусь от него за камнем.
Бородач, ватник до колен, сапоги. Точь-в-точь как партизаны из отряда Артура. Но автомата у него в руках нет. За спиной – тоже. При нем только мешок, откуда он достает что-то блестящее и бросает в снег между крестами. Посвистывая, он идет вперед. Ко мне.
Вдоль какого-то невысокого могильного холмика я отползаю подальше и укрываюсь за деревом.
Он насвистывает песенку, идиот! Ничего, с ним я легко справлюсь.
Я спускаюсь с гребня холма и слышу ржание лошади в овраге. Но вижу не лошадь, а массивную фигуру женщины в желтом комбинезоне. Приложив козырьком руку к глазам, она всматривается в морось. Ее взгляд устремлен в мою сторону. Было непростительной ошибкой, что как раз в этот момент я уцепился за тонкие корни деревьев. Они не выдержали, и я скатился вниз. Прямо к ее ногам. Так мы во второй раз встретились с Улой.
Да, мы узнали друг друга, вспомнив тот вечер в «Фальварке». Она не забыла кишащий крысами двор, куда мы все побежали. Тогда как раз объявили чрезвычайное положение. А сейчас какая обстановка? Она говорит, что президент, по всей видимости, подавил оппозицию. Но в Минске, а может, и еще кое-где продолжаются столкновения. Поэтому они избегали шоссейных дорог. При этом у нее уже несколько дней не берет мобильный. Все это она мне выкладывает постепенно.
Ее очень забавляет, что теперь в свою очередь она помогает мне встать на ноги.
Ну да, оба мы тут иностранцы.
Мало того, мы еще и коллеги.
– Мы на Черном холме. Говорят, так называется это место. Холм насыпали, чтобы закрыть кладбище, – растолковывает мне Ула. – В сущности, это огромный курган.
Я киваю.
Она явно рада меня видеть!
Конечно, ведь она смеялась, когда поймала меня за руки, чтобы помочь подняться.
Но вообще-то наше положение не из веселых, поэтому настроена Ула мрачно.
А я, наоборот, вполне доволен!
Ее нельзя назвать толстой. Большая, крупная – это да. Гораздо больше Марушки. На щеках и на лбу – морщины. Я думал, она просто устала, но она уже не то чтобы молода. Волосы светлые, однако чуть темнее, чем у Сары. И выглядит она в своем желтом комбинезоне очень даже неплохо.
Ясное дело, я рад, что нашел ее.
Мы лежим в видавшей виды палатке, высунув наружу головы. Между деревьями проглядывает кусочек поля, но я не смотрю в ту сторону. Какое-то время нет ни дождя, ни снега – это, по словам Улы, большая редкость. В котелке над костром греется вода. Рядом, говорит она, речка. Но есть нам нечего.
Двое мужиков у костра метрах в десяти от нас с аппетитом закусывают – сало, хлеб. Я узнаю бородача, на которого наткнулся в лесу. Его товарищ у костра страшно на него похож.
– Федор и Егор, – представляет их Ула. – Дураки, они даже навигатор сломали!
Она их терпеть не может. Да, они из партизанского отряда, который приставило к ее экспедиции Министерство туризма.
– Мы должны были закончить свой путь в Хатыни, – объясняет Ула. – Доставить туда образцы. Но эти мерзавцы говорят, что увидели пожар, и не хотят двигаться дальше. Поэтому мы остановились здесь.
Другие прикрепленные к Министерству туризма, как называют этих партизан, давно сбежали. Стащили, что могли, а остальное разломали.
Ула думает, что они стали отлынивать от работы, как только прояснилась политическая обстановка. Похоже, оппозицию порядком прижали.
Я рассказываю ей о себе. После моих блужданий в чистом поле мне так уютно тут, в спальном мешке, да к тому же еще в палатке! Описываю, как я был иностранным экспертом, как вообще оказался в этой стране. Сообщаю и о пожаре в музее – кое-что…
– Ула, партизаны не ошибались! Хатыни больше нет!
Однако об Алексе и Марушке я умалчиваю.
– Да-да, – кивает Ула, утыкая подбородок в тряпку, которая служит ей вместо подушки. – «Мастерская дьявола», я тоже здесь из-за нее.
Она показывает, где у нее образцы. Те, которые не потерялись по дороге, не утонули в снегу. С самого-то начала их было в два – нет, наверняка даже в три раза больше!
Ну да, она же исследователь, к тому же занимающаяся полевой работой.
Она самая лучшая!
Поэтому в Берлине выбрали именно ее.
Но теперь всему конец.
Я поворачиваюсь и, жмурясь, всматриваюсь в полумрак палатки. Туда, куда она показывает. Ящики, ящички. Но не такие, как у Кагана, допотопные, деревянные, ободранные. Это элегантные пластмассовые коробки. С двойной защитной крышкой. Синие, красные, желтые, аж в глазах рябит. Классные ящики, ничего не скажешь.
– Это ты с собой привезла?
– Угу.
Все ящики и полиэтиленовые пакеты, в которых ясно видны кости и полуистлевшие куски ткани, сложены в задней части палатки за нашими спинами, где образуют подобие стены. От ветра.
А спальных мешков и одеял я могу взять сколько угодно!
Их оставили тут коллеги Улы.
Мы закутываемся и ждем, пока закипит вода для чая.
И разговариваем на смеси языков.
Кажется, я уснул первым.
Открываю глаза и что-то чувствую, но не вижу. Ула держит меня за руку. Мы в тепле. Слышу, как фыркнула лошадь. Я не посмотрел, как она там, ничего, утром проверю, обещаю я сам себе. Среди звуков ночи мне чудится позвякивание – наверное, лошадка задела ветку или ударила копытом о камень.
Утром наших провожатых и след простыл. Исчезли вместе с лошадью. Ула сидит перед палаткой, в руке у нее буханка хлеба, которую они ей оставили. Потом она залезает как можно глубже в палатку, поближе к своим образцам, забирается под ворох одеял и затихает.



