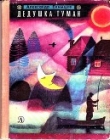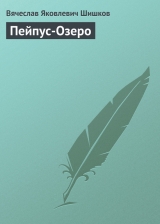
Текст книги "Пейпус-Озеро"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Глава 16. Белое видение.
К Николаю Реброву пришел Трофим Егоров, они вместе отправились отыскивать возницу-эстонца, чтоб условиться с ним о дне побега. Егоров очень обрадовался, что поручик Баранов бежит с ними. – Это такой человек! Такой человек! Этот выведет. – Они зашли, как их учили, в мелочную лавчонку, помещавшуюся возле какого-то средней руки фольварка, и наказали рыжему лавочнику, чтоб он уведомил возницу.
– Сколько народ?
– Девять.
– Надо два подвода… Ладно, скажу. Через три дня в ночь… Какая день? Суббот.
Николай Ребров расстался с Егоровым и пошел навсегда проститься с Марией Яновной. Как-то она живет? Иногда воспоминания о ней меркли, заслонялись повседневным сором и служебными заботами, но чувство благодарности за спасение его жизни и весь ее милый, пленивший юношу облик, крепко вросли в его сердце. Чем ближе подходил он к заветному дому, тем неотвязчивей впивалась в мозг давно отзвучавшая бредовая фраза: «Дмитрий Панфилыч помер». Жив или помер, жив или помер?.. А вдруг… – Николай Ребров несмело потянул скобку двери.
– Коля! Милый! Почему ты так долго был прочь?! Отец, гляди кто пришел! – сорвала с груди фартук, бросилась к нему на шею растрепанная, раскрасневшаяся у плиты Мария Яновна.
И юноше вдруг стало так тепло и радостно у родной груди.
– Ого-гогого – вылез, загоготал, смеясь, старик. – Троф пилить? Давай-давай… – тоже обнял юношу, поцеловал и укорчиво закачал длинноволосой головой. – Эх, дурак, дурак… Такой девка упускал.
– А как, Дмитрий Панфилыч здоров? – и юноша затаил дыханье.
Старик сердито, безнадежно махнул рукой. Мария Яновна сказала:
– Умер.
Юноша отпрянул прочь:
– Как! Неужели? Царство небесное… Когда?
– Жив, – сказала она печально. – К сожалению – жив… Но для меня, для мой сердца – он мертвый… – и вновь засмеялась звонким, чистым смехом. – Ну, как я рада. Садись, говори… Николай, милый! Ах, что же я такая неодетая!.. – и она быстро скрылась за перегородкой.
Николай заметил, как она перекрестилась на-ходу и что-то зашептала, должно быть, молитву.
– Ничего, ничего… как это… – старик, попыхивая трубкой, накинул шубу и – к выходу. – Ничего… Одеваться пошел Мария. Ничего. Ладно… А я в лавку, – подмигнул он и захлопнул за собой дверь.
Юноша смутился. Намеки старика толкали его за перегородку, где вдруг призывно захрустело полотно иль шелк. Кровь юноши на миг остановилась.
– Мария! – перегородку опахнуло полымем, дом исчез, и мимо его взора процвело черемуховым цветом, проплескалось белое видение.
– Милый!.. Ах, какая несчастная твоя Мария…
… И Николай сладостно подумал, что он опять в бреду…
… Когда под окном послышались шаги, Мария, обнимая юношу нагими полными руками, в третий раз сказала, почти крикнула:
– Неужели ты не можешь понимать, что пропадешь в России!.. Такой голод, такой кровь везде… Сразу в сольдат и на война… Ну, оставайся же…
– Нет, Мария, не могу.
– Ах, оставь! – топнула она с брезгливой гримасой. – У меня и так боль… Не понимай, куда деть. Митрий развратник!.. Митрий таскается по чужим женщин… Пфе! Какой дрянь! Так только может допускать необразованни матсь… мужик.
– Как ты могла сойтись с таким?
– Ах, смешной вопрос. Как ты попал сюда? А мой брат лежит в вашей земле? Как старуха, жена Митрий, живет в бане с какой-то ваш чиновник? Как убили ваш царь Николай Александрович? Все не от нас… Судьба. – Шаги заскрипели в сенцах. Мария схватила юношу за руку. – Слушай! Тебе сколько лет?
– Двадцать, – прибавил Николай.
– Мне двадцать один, – убавила Мария. И быстро, задыхаясь. – Слушай! Мы бросаем все, бросаем Митрий, бросаем мой отец, едем в Ревель. В Ревели у меня родня, деньги… Слушай! У меня там дом… Дядя умирает и присылал мне письмо… Слушай, Коля! Мы будем без нужда, ты служить, я могу поступать в больниц. Не бегай в Россию, молю тебя, как бога Христа!.. Скоро большевики уйдут, мы поедем к твой родитель. Ну, милый, ну… – Она тормошила его, заглядывала в его глаза безумными глазами. – Ну, ну!..
Юноша менялся в лице; да и нет, клубясь, свивались в его душе как змеи, и вот одна змея подохла.
– Нет, Мария! Бегу, – ударил он резко, как ножом. – Прости меня.
Из ее груди вырвался хриплый стон, она с ненавистью оттолкнула его и проплескалась в белом полотне за перегородку, крикнув:
– Откройте дверь отцу!
В комнату вошел Ян со связкой баранок. Из кармана его шубы торчало горлышко бутылки.
– Ого-го… А ну, давай гостю кофей.
Когда, застегивая последнюю пуговку черной кофты, показалась Мария, старик пристально посмотрел на дочь, посмотрел на юношу, сказал:
– Снег пошоль… Метель… Троф возить плох, – и глубоко вздохнул.
За кофе угощались наливкой, говорили о пустяках. Старик все еще поглядывал вопросительно на дочь, но лицо Марии казалось спокойным, замкнутым.
– Бегут, которые, бегут плохой, – сказал старик, разливая по рюмкам вино. – Эстис очень рабочий надо. Хороший жизнь тут. Чтоб здорофф… Дурак бежит. На Пейпус – смерть.
И еще что-то говорил старик, грустно говорила Мария, но юноша плохо слушал: все пред ним обволакивалось туманом, уплывало в сон, в мечту: вот он, покачиваясь, стремится куда-то вдаль, возница-эстонец гнусит на лошаденку, фольварки, чужое небо, рощи, нерусский снег, Пейпус-озеро; кудряш-ямщик присвистнул, гикнул, гривастые кони мчат – бубенцы еле поспевают блямкать – мужичьи бороды, мужичьи избы, Баба-яга на помеле, мужиковские седые церкви, раздольные снега, скирды неумолоченных снопов и навстречу тройка. – Сын!
Мария вздохнула.
– Пей, – сказал старик.
– По вашему лицу, я знайт, о чем вы думаль, – сказала Мария, еще раз вздохнув.
Юноша перевел на нее далекие глаза. Ему не хотелось пробуждаться.
Глава 17. «Да, да, да, домой».
Он вышел вечером. Ему нужно дойти по дороге до свертка в лес, спуститься под гору к речке: там, у мельника, жили Надежда Осиповна Проскурякова и Павел Федосеич. В сущности ему не для чего видеть их. За последние дни он весь в бреду о бегстве. Ему нет дела до остающихся здесь, и чужая судьба теперь не может его тронуть. Разве повернуть домой? – Нет, прощусь. Все-таки любопытно.
Дорога миновала рощу и пошла полого вниз. Оголенный кустарник, как борода с усами, обрамлял оба берега речонки. Зачернела колченогая, присевшая на бок мельница. Навстречу из кустов – фигура в большущей шапке. Поровнялись.
– Это Цанкера мельница?
– Да, – сказала фигура. – Батюшки, да никак вы, Коля Ребров?! Смотрю, смотрю… будто бы он.
– Сережа! Неужто вы? Ну, как ваш отец, Карп Иваныч?
– Помер. Не очень давно помер. В тифу. – Бледнолицый Сережа снял шапку, перекрестился, потряс головой и завсхлипывал. – Все добро наше растащили. Все семь возов… То солдатишки, то чухна. Да и так изрядно прожились. Теперича ничего у меня нету, по дому сердце болит, по матери… Вот у мельника служу, у Цанкера. Гоняет как собаку, – он отвернулся, глядел кособоко в снег, вздыхал.
– Куда ж вы, Сережа?
– За сеном, – взмахнул он веревкой. – Вот тут недалечко. Лошадь надо выкормить, да завтра в больницу квартирантку нашу везти.
– Не Надежду ли Осиповну?
– Ее.
Когда Николай Ребров вошел в дом мельника, его шибануло густым спертым духом. У стола, весь в серой колючей щетине, сидел ежом мельник, он глядел в толстую тетрадь и щелкал на счетах. С печи несся здоровенный храп, и торчали в неуклюжих рваных валенках чьи-то ноги носами вверх. Николай поздоровался, об'яснил, зачем пришел. Мельник не сразу понял, сердито оторвался от дела, переспросил и кивнул на соседнюю комнату:
– Женчин там. Хворый. А это Павел, водка жрал. Тяни за нога, спит.
– Не сплю, не сплю… Кто пришел? – раздалось знакомо.
Валенки зашевелились, описали ленивый полукруг и, поставив пятки вверх, покарабкались с печи. Их возглавлял широкий жирный зад, едва прикрытый рваными штанами, за задом ползла спина в вязаной синей кофте, рыхлые бабьи плечи и вз'ерошенный затылок. Валенки пьяно пошарили приступку и, как два бревна, громыхнули в пол – звякнула на чайнике крышка.
– Павел Федосеич! А это я… Навестить пришел.
– Вьюнош!.. Как тебя… Миша… Ты?
– Я Николай, Павел Федосеич… Николай Ребров.
– Ну да, ну да… Ах ты, братец мой!.. – обрюзгший чиновник приятельски тряс юношу за плечи и безброво смотрел в его лицо заплывшими, блеклыми глазами. Переносица его ссажена, на ней висел отлипший пластырь. – Ах, ах, ах… Пойдем к ней… К старухе пойдем… Она больна, брат, больна, больна. Вспоминала тебя… Как же, как же… вспоминала, – и он потащил юношу в другую комнату.
Хозяин вновь защелкал костяшками.
– Эй, Осиповна!.. Мать-помещица!.. Умерла, жива? Гостя привел. Ну-ка, гляди, гляди… – тонкоголосо суетился Павел Федосеич, зажигая лампу.
Старуха подняла от подушки голову, шевельнулась, клеенчатый диван хворо заскрипел.
– Коленька! Вот не ожидала. Ах, Коленька… Приходится помирать на чужой земле.
– Другой раз не бегай из России, мать, – наставительно сказал чиновник, оправил подтяжки и семипудово сел на край дивана.
Диван крякнул, затрещал и смолк.
В комнате было грязно, по облупившимся стенам гуляли тараканы, в углах грудились набитые мукой мешки.
– Завтра в больницу, Коленька.
– В больницу, в больницу… Хворает она, как же… – поддакивал чиновник, косясь на окно, где стояли припечатанные сургучом бутылки.
– А из больницы в гроб… Ну да ничего, я не боюсь… Был бы Дмитрий Панфилыч счастлив… Ах, какой он хороший, Коленька… Ах, какой редкий человек… Денег мне прислал… – И чтоб перебить забрюзжавшего Павла Федосеича, нервно, приподнято заговорила. – Будете, Коленька, в России, кланяйтесь всем знакомым нашим… Пусть вынут меня из могилы, домой везут… Да, да, да, домой…
Павел Федосеич раздражительно отмахнулся, неуклюже, враскарячку подошел к двери и закрыл ее. Потом на ухо юноше:
– Бежишь? Шепни тихонько, чтоб не слыхала она.
– Да, – после короткого раздумья, прошептал юноша.
Чиновник, как живой воды хлебнул, сразу сорвался с места и быстрыми ногами вылетел к хозяину. Старуха затрясла головой и спросила:
– Что он? Денег, наверное, просил?
– Нет… Да… Что-то такое в этом роде, – смутился юноша. – А чем же вы, Надежда Осиповна, больны?
– Всем, – шевельнулась старуха, диван опять хворо заскрипел. – Вы спросите, что не болит у меня… Все болит. А больше всего – сердце, – последние слова вылетели вместе с глубоким тяжким вздохом. – Не сердце, а душа… Душа, Коленька, болит, середка… Все потеряла, все.
Пыхтя, вкатился Павел Федосеич, поставил на грязную скатерть тарелку с огурцами, две рюмки и ловко ударил донышком бутылки в пухлую ладонь:
– Вьюнош!.. Ангел божий… Давай-ка, братишка. Грех не выпить, грех.
Пришел Сережа, тоже выпил, но хозяин Цанкер опять угнал его на мельницу спустить в плотине щиты. Старуха заохала, укуталась с головой одеялом и притихла. Николай чрез силу выпил три рюмки и застоповал: самодел не шел в горло.
– А я, брат, было спился здесь, физия опухла, ноги отекали. С тоски, брат, с тоски, с тоски… Ну, что мы теперь, а? Коля? А? Париж, Америка. Ха-ха-ха!.. Гром победы. Нет, брат, дудочки… Дураков в Европе мало, чтоб этим идиотам в долг давать без отдачи. Разик обожглись и… Ну, а про Сергея Николаича ни слуху, ни духу? Цел, наверно, цел, цел… Конечно, цел… А я теперь молодец-молодцом. Ей-богу… Хоть плясать… Ноги как у слона. Гляди, какие ножищи!.. Да я сто верст без присяду могу шагать… Коля, возьми меня… – он просительно, по-детски улыбнулся и глянул в самую душу Николая, – Коля, не бросай меня, спаси… Коля, по старой дружбе, умоляю…
Николай с раздражением охватил его большую и рыхлую, как тесто фигуру, с дряблым, поглупевшим от несчастья лицом.
– Что ж, я с удовольствием, – раздумчиво сказал он. – Нас артель. Только испугаетесь, как в тот раз.
– Кто, я?! Кинь мне в морду подлеца, наплюй мне в харю!.. Нет, дудочки, дудочки, чтобы я здесь… Не-ет…
* * *
Николай Ребров уснул. Его разбудили сдержанные всхлипыванья. В лунном свете сидел по-татарски на полу пред раскрытым чемоданом Павел Федосеич. Он держал в пригоршнях фотографическую карточку, то приникал к ней дрожащими губами, то отстранялся, тогда лицо его тонуло в болезненном восторге, из широко открытых глаз по одутловатым трясущимся щекам катились слезы, и губы шептали:
– Клавдюша, Клавдюша, – выдыхал чиновник. – Не проклинай, молись обо мне, молись… Эх, ошибся я, и вся душа моя, Клавдюша, измочалилась. Живу я, Клавдюша, в великой нищете… И духом нищ. Пью, Клавдюша, пьянствую… Эх, подлец я. А теперь скоро… Жди, Клавдюша, приду скоро. А если умру, помяни меня. Да и сама-то ты жива ли, старушка милая? И себе тяжко. Ну, что даст господь. Молись за меня, Клавдюша, молись… – он крестился сам, крестил портрет, целовал его и плакал в пригоршни, размазывал по лицу слюни и слезы грязнейшим рукавом.
– Павел Федосеич, – пробудилась помещица. – Опять ты за свое! Что за малодушие…
– Нет, нет, это я так… Чшш… Разбудишь… Это я пластырь искал… Да, да, пластырь… К переносице, пластырь.
– Не плачь, все к лучшему, надейся на бога.
– Я надеюсь, Осиповна, надеюсь… Ей-богу, надеюсь… А ты спи…
Глава 18. Дикий хохот.
На другой день Николай отправился рано. Помещица и чиновник еще спали, он так и не попрощался с ними. Шел домой не торопясь. Утро было пасмурное, угрюмое, и его настроение такое же, как это утро.
«Вот судьба, и что ожидает этих стариков?» – думал он, глядя себе в ноги.
А впереди позвякивали бубенцы, долетало храпенье коней. Ближе, отчетливей.
– Берегись, стопчу!
Николай вскинул голову и отскочил в сугроб. Мимо него, едва касаясь копытами дороги, мчалась запряженная по-русски тройка вороных. В русских, покрытых ковром, санях, обнимая прижавшуюся к его плечу баронессу и лихо подбоченясь свободной рукой, восседал бывший ротмистр Белявский.
– Сукин сын! – сделав ладони рупором, громко прокричал Николай Ребров в снежнооблачный бубенчатый след пролетевшей тройки.
Он пошел проститься с генералом – старик был для него хорош.
– А, Ребров!.. Отлично… А я, брат, мундир чищу… Сам. Я люблю черную работу. Я не белоручка… Труд – надежнейшее средство против скуки, против одиночества. Садись, Ребров… Ну, как там? А я осиротел. Баронессушка уехала и этот… Да-да… Ну да ничего. Денька через три и я… В Париж, брат Ребров, в Париж. И ад'ютант Баранов…
– Разве они едут? – удивился юноша, помогая генералу.
– А как же! Какое ж могло быть сомнение… Ну, а ты? Ты как? А? Хочешь в Париж? – генерал снял с красного ворота пушинку, дунул на нее и медленно стал елозить щеткой по сукну.
– Я, ваше превосходительство… Я здесь…
– А, молодец, молодец, Ребров… Похвально. Лучше здесь, чем к тем негодяям с поклоном. Кто они, ну ты подумай, ты все ж таки интеллигент и достаточно развит, полагаю? Ну кто? Ну кто? Приблудылки, вот кто! Эмигрантишки, за границей мотались, а теперь власть добывать приехали – навозная дрянь! На-воз-ная, – и генерал поднял щетку вверх. – Понимаешь, в чем уксус? Да разве они знают Россию? И разве Россия, наш народ, примет их? И что такое, спрошу я тебя, наш развращенный народ, наш пьяница, эгоист мужик? Ха!.. Равенство, братство. Плюет он с высокого дерева на братство! Назови мужика братом, он тебе в отцы лезет. А потом, как это… кто. Да, Бальзак: «Свобода, данная развращенному народу, это – девственница, проданная развратникам». Понял глубину?
– Большевики стараются, ваше превосходительство, сделать народ счастливым, тогда он будет добродетельным, – несмело вставил юноша.
Но генерал не расслышал.
– Слушай-ка, Ребров, а хочешь чаю? Позвони Нелли… Ты знаешь ее? Ах, хороша девчонка, хороша… Слушай-ка, Ребров. Ну, а кто вкусней по-твоему: эстонки или русские? Хе-хе-хе-хе… А я чрез три-четыре дня – в Париж… И можешь быть уверен, Ребров, что скоро эта сволочь-большевики полетят к чорту. Европа никогда не допустит такой наглости, она им покажет, как аннулировать долги. Да Европе стоит только захотеть: положит их вот сюда, на ладошку – щелк и нету, слякоть одна, – генерал щелкнул по ладони и сладострастно захехекал. – Вот, что значит Европа!
Николай Ребров от чаю отказался, поблагодарил генерала и ушел.
* * *
– Петр Петрович, а я к вам, – сказал он, входя к поручику Баранову. – Что ж вы нам изменили?
– Что, в чем дело? – остановился офицер среди комнаты, желтые кисти его халата колыхались.
– Генерал сказал, что вы с ним едете в Париж.
– Какой вздор! У генерала разжижение мозга, или слуховая галлюцинация. Я бегу с вами… – последние слова поручик сказал тихо, почти шопотом; он стоял руки назад и опустив голову.
– Вы здоровы ли? У вас красные глаза, вы плохо спали, должно быть.
– Что? – рассеяно переспросил поручик, не подымая головы. – Нет, спал… Должно быть, спал… Спал или нет? Что? – волоча нога за ногу, он подошел к письменному столу, переставил с места на место чернильницу, подсвечник, подстаканник, сделанный из винтовочных патронов, взял спичку, переломил, бросил, взял со стола недоконченное письмо, прочел, качнул головой, сказал: – Да, да. Пиф-паф. Сегодня вечером… – он опять заходил по комнате, хмуря брови и о чем-то тяжко размышляя.
Юноша встревожился. Он следил за Петром Петровичем, сосредоточенным взглядом, силясь понять, что происходит в душе этого близкого ему человека.
– Мы бежим в субботу, Петр Петрович, в ночь.
– А?! – вскинул тот опущенную голову. – Ах, да… про это… Ладно. У нас сегодня что?
– Четверг.
– Четверг, четверг… да-да-да… четверг… Завтра пятница, послезавтра суббота… Так-так… Замечательно, – чему-то подводил он итоги, его лицо вдруг улыбнулось, он подозвал юношу к столу и ткнул указательным пальцем в мелко исписанный лист почтовой бумаги. – Вот, Николаша… завтра утром на этом самом месте будет лежать это самое письмо. Отнесешь его по адресу… Понял? По адресу. В собственные руки баронессы.
– Но баронесса, Петр Петрович, уехала с Белявским.
Поручик дрогнул и быстро попятился:
– Что-о?!
– Они сегодня уехали: я сам видел… На тройке. И сзади большой сундук.
Поручик крепко стиснул зубы: на скулах заходили желваки. Белки глаз вдруг пожелтели, взгляд запрыгал с предмета на предмет.
– Подлец, мерзавец, трус!.. Бежал, – с злорадным презрением выдыхал поручик, дергая подбородком. Он сорвал с головы тюбитейку, скомкал ее и бросил об пол: – Подлец! – Он описал правой ногой, как циркулем, дугу, резко вскинул руки вверх, вперед и в стороны: – Так… Мерси-боку… Мерси-боку, – зашагал по комнате, все так же выбрасывая руки, лицо кривилось, дергалось, два раза грохнул кулаком в стол, в клочья изодрал письмо и крикнул: – Можешь итти, Ребров!.. Можешь итти… Да-да. Можешь итти. Прощай, Ребров… До субботы… Да-да, – с треском двинул ногой кресло, подпер щеки кулаками и закрыл глаза.
Изумленный Николай Ребров пошел на цыпочках к выходу. Возле двери обернулся и взглянул на Петра Петровича. Поручик все так же стоял с запрокинутой головой и накрепко закрытыми глазами. Николай Ребров медленно притворил за собою дверь и лишь направился по коридору, как там, за дверью загрохотал дикий, страшный хохот поручика Баранова.
– Что такое? – на месте замер Николай.
* * *
Дома он нашел пакет. Там записка Павла Федосеича и письмо во Псков на имя Клавдии Тимофеевны Томилиной. В записке Павел Федосеич сообщал, что он бежать раздумал, он выждет более благоприятных обстоятельств, а пока что ему и здесь не плохо. Записка написана длинно, бестолково, с наставлениями, как жить, с покаянными излияниями заблудшей души, с размышлением о том, что есть отечество, национальная гордость и гражданский долг. Видимо, записка сочинялась с перерывами, за бутылкой водки: в начале почерк был мелкий, как бисер, потом буквы становились крупней и крупней, под конец они шли враскачку, враскарячку, большие и нескладные, то падая плашмя, то кувыркаясь, как захмелевшие гуляки.
Николаю Реброву было грустно и от этого письма и от свидания с поручиком Барановым. Неужели он, такой выдержанный и холодный, влюблен в эту великосветскую, сомнительной красоты и свежести, куклу? Впрочем, Николай знает ее лишь по грязным солдатским сплетням и случайным встречам в парке.
Николай спал тревожно, болезненно. Ему снилась сестра Мария.
* * *
Весь следующий день прошел в лихорадочном приготовлении к побегу. Трофим Егоров старательно помогал ему. Ну, кажется, все готово.
Вечером, когда месяц засеребрился в небе, юноша пошел к поручику Баранову.
– Ах, вы дома, Петр Петрович?
– Да. Вот сижу. Размышляю. Поди сюда. – Юноша, на цыпочках, всматриваясь в лицо офицера, подошел к маленькому столику между окнами, за которым, перед походным зеркалом, сидел поручик. На столе открытая баночка с белым порошком. – Это кокаин, – сказал поручик хриплым голосом. Его лицо изнуренное, под глазами темные тени. – Хочешь нюхнуть? Нет? Напрасно. Помогает. Да-да, брат Николаша. Случаются моментики. Конечно, морфий лучше, но где ж его в такой дыре найдешь? – Поручик поддел тупым концом пера щепоть кокаина и втянул сначала правой, потом левой ноздрей. – С хиной, чорт бы их подрал. Его надо два грана вынюхать, чтоб толк был… – Он нюхнул еще. – Ну, до свиданья. Иди… Прощай… Стой, стой, Николаша! – он обнял юношу, перекрестил и сказал: – Прощай.
– До свидания, Петр Петрович… До завтра. Я завтра днем забегу к вам. Часов в десять вечера тронемся. Будьте готовы.
– Буду, Николаша, буду. Храни тебя Христос.