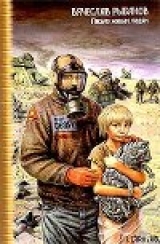
Текст книги "Вода и кораблики"
Автор книги: Вячеслав Рыбаков
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Коль едва не расплылся в благодарной улыбке. Он представить себе не мог, чтобы генерал-лейтенант ВВС, пусть даже нынешний, пусть даже в форме западно-европейской, но все равно, черт возьми, парадной, стал бы его учить пользоваться туалетом. И, видимо, тот понял. Как они все чувствуют, в который раз подумал Коль.
– Ясутоки-сан, – с укоризной сказал он, когда они вышли из комнаты. – Что ж вы из меня идиота делаете?
– Почему? – Ясутоки, волнообразным взмахом двух пальцев небрежно открывая еще одну стену, изумленно воззрился на него. Так изумленно, что Колю показалось: глава группы адаптации фальшивит – прекрасно понял, как обескуражен Коль, но делает вид, будто все в порядке вещей.
– Почему, почему… Глупо, вот почему. Идет майор из койки в сортир, а на проходе такая шишка.
Ясутоки улыбнулся как-то очень по-японски – одновременно и приторно, и насмешливо.
– Шишка, – сказал он, нежно погладив себя по жестким смоляным патлам, – вот здесь вскакивает, если ушибешься.
– Черт возьми. Так это что, вообще маскарад?
– Нет, Коль, – ответил Ясутоки очень серьезно. – Это уважение. Все профессии равны. Представь, как нелепо выглядел бы, скажем, доктор наук, встающий во фрунт и рявкающий «Так точно!» и «Никак нет!» при разговоре с академиком. Но традиции тоже есть у всех. У нас, врачей – белые или голубые халаты, скажем… Нет, вот так, на себя потяни… А космос все же – дисциплина в экипаже, организованность, опасность, в конце концов… Всеволода помнишь?
– Что я, псих, чтоб не помнить?
– Он глава координационного центра космических исследований. Маршал.
Коль даже поперхнулся. А я его вчера обнимал, пронеслось в голове. Рыдал на плече… Потом он представил Всеволода в маршальской форме. Высокий, поджарый, широкоплечий. Бородатый… Вспомнились кабаньи рыла маршалов той жизни.
– Марешаль де Франс… – пробормотал он. Ясутоки усмехнулся. – А почему, – Коль поколебался, как назвать генерала, да так и назвал: – генерал сегодня в форме?
– Зови его по имени, как и всех, – опять все учуяв, поправил Ясутоки. Осторожно взял Коля за локоть. – Сегодня все будут в форме. Похороны.
Коль резко обернулся. Разом погасла музыка в душе, будто задули свечу.
– Когда? – глухо спросил он.
– В полдень.
…Всеволод, отсверкивая огромными звездами на погонах, вел скорди над самой толпой. Ей не было конца, десятки тысяч людей пришли сюда.
Стена была видна издалека. За нею уперся в июльское небо черный конус катера, на котором перевезли с крейсера тела погибших. Тех, кому повезло погибнуть раньше, чем Пятнистый лишайник превратил остальных в плесневелые холмики слизи.
Скорди осел метров на пять. Чуть развернулся. Коснувшись алого покрытия площади, замер боком к Стене.
Солнце свирепо жгло, в его пламени синий лабрадор Стены казался черным.
Всеволод вышел из скорди и остановился, ожидая. Коль поднялся, они вместе подошли к Стене и вместе вошли в ее тень. У Стены лежали три капсулы. На каждой было имя.
Коль нашел ее капсулу.
Пластик был непрозрачным, синим, как вечернее небо, и Коль мог лишь вспоминать.
Это была идея Магды, но с нею сразу согласились все. Похоронить на Земле – вот все, что они могли сделать для тех, с кем случилось непоправимое. Долгие годы казалось, что таких не окажется много. Были спортзалы на звездолете, видеозал, библиотека, обсерватории, лаборатории и амбулатории – но не было ни кладбища, ни морга. Ничего. Одну из секций холодильника, предназначенного для хранения образцов инозвездной жизни, скрипя зубами от вынужденного кощунства, отдали жизням земным, но ушедшим.
Лишь через две недели после катастрофы Коль решился зайти. Там саркофаги были прозрачными, морозные узоры тонко иссекали стекло. Он только взглянул. Не Лена. Бурая сожженная кожа, раздавленная грудь… Не Лена, нет. Он отвернулся, и в эту минуту вошел Кучерников. Они поглядели друг на друга. Они глядели, а ее больше не было – и все же они не стали равны, потому что пока она была, она была с Кучерниковым, не с Кречмаром. Коль сказал: «Ты этого хотел». Кучерников не слышал, он уже смотрел туда. Неужели он видел там ее? Неужели и теперь он оказался счастливее? Мягко, едва слышно чмокали инжекторы в тишине, и тогда Коль закричал: «Ты специально послал ее в Источник! Чтоб она не вернулась! Ты боялся, она от тебя уйдет! Ты ведь знал, знал, что там такое может!!.» А Кучерников опустился на колени перед саркофагом, обнял холодное сверкающее стекло и уткнулся лицом, будто они были с Леной наедине.
Коль оглянулся. Он поймал себя на том, что чуть не встал на колени. Как Кучерников? Кучерников, превратившийся в холмик слизи… Нет, нельзя, вокруг столько глаз. Не годится так раскисать.
Всеволод поднял левую руку – жарко полыхнула звезда на плече.
– Именем одиннадцати планет! – сказал он чуть хрипло, и голос, окрашенный в стальные тона, с механической мощностью завибрировал над площадью. – Именем двадцати миллиардов человек, живущих на них – благодарю вас, земляне! – он помолчал, потом повернулся к Колю, все так же упирая в пылающую голубизну длинные сомкнутые пальцы. – Благодарю тебя.
Коль стиснул кулаки. Надо было что-то ответить… Он не успел ни вспомнить, ни подумать, но как-то сама собой свалилась формула, объединившая то, что хранила память и то, что он видел вокруг теперь.
– Служу человечеству! – выкрикнул он, дернув головой.
Всеволод снова обернулся к капсулам – руки по швам. Длительно и гулко, словно в громадном пустом зале, ударил незримый гонг, и вдруг маршал, скорбно склонив голову с чуть шевелящимися от ветра волосами, опустился на колени. В ошеломлении Коль секунду смотрел на него, а потом бешено крутнулся назад. На коленях стояли все, до горизонта.
У Коля задрожали губы. Он, летевший вместе, видевший смерти своими глазами, постеснялся… а эти – чужие!.. Он – хотел, и не сделал, а эти, может, не хотевшие даже, просто исполнившие установленный ритуал… а может, и хотевшие – сделали!! И он уже не успел, гонг ударил еще раз, и капсулы вспыхнули невыносимо ярким пурпурным огнем. Солнце померкло, как при затмении, накатила ночь, звезды проступили, и к ним от капсул беззвучно встали широкие столбы неподвижного света.
Они продержались недолго. Цвет их стал вишневым, багровым и смерк. Перед Стеной было пусто.
Солнце вновь взорвалось огнем, ночь убрали, как крышку. И все поднялись.
Коль беспомощно обернулся.
– Как же… Это все?
– Нет, – ответил Всеволод и протянул ему небольшой цилиндр.
– Что это?
– Резец. Так принято, это должен ты. Напиши их имена.
– Имена?
Всеволод качнул головой в сторону Стены.
Только теперь Коль заметил, что часть ее покрыта написанными словно бы от руки именами. Это походило на стены рейхстага после победы, он видел на фото и в хронике – разные почерки, иные имена написаны чуть наискось, вырезаны одно за другим, много… Под лабрадором блестело золото.
– Как? – зло спросил Коль. Он не мог простить им этой короткой вспышки, не оставившей следов. И он не мог простить себе…
– Пиши… просто пиши… – лоб маршала был покрыт искрящимся на солнце потом.
Коль взял резец, как карандаш, и размашисто написал в воздухе: «Первая Звездная…»
И сейчас же правее уже написанных имен ударил огонь – и по Стене, в увеличенном масштабе копируя руку Коля, полетел, шипя, сгусток пламени. Вверх рвались облачка испаренного камня, просверкивало желтое. Коль остановился. Слова сияли из лабрадоровой тьмы, будто с той стороны бил прожектор.
И Коль написал всех, что стартовали с ним, и размахнулся было: «Коль Кречмар, третий пилот» – но вовремя вспомнил, что жив. Тогда, не глядя, он сунул резец Всеволоду и пошел прочь, рассекая толпу, и там, где он шел, вытягивались по стойке «смирно» люди в новеньких мундирах.
Он стоял, бессмысленно глядя на Лену, и вспоминал, как выхаживал ее, когда она повредила ногу – а кабарга разрешала, но едва подвижность вернулась, ушла. Он вспоминал, как подкармливал ее в сорокаградусные морозы – все живое пряталось, если имело силы, волчье голосило чуть ли не у стен скита, а она снисходительно съедала, что он приносил, позволяла иногда – когда ей самой это было нужно – отыскать себя в бело-зеленых дебрях, но – только. К скиту не шла, не подходила к руке, насмешливо кося с пяти шагов большим, теплым и вроде бы добрым глазом. Однажды он приболел, не выходил дня четыре. Раз под вечер услыхал, вроде скребется кто за дверью. Набросил доху, вышел. Никого. Пригляделся к синему снегу – следы, следы кабаржиные… Обмер. Затворил дверь, приник к щелке, тая дыхание. И вот она. Неслышно подошла, вытянулась вся – и боится, и ждет. Осторожно открыл дверь – шагнула чуть ближе. У него ума хватило не шарахаться и не орать восторженно – просто отступил в глубину, сказал спокойно: «Заходи, Ленок. Я, вишь, хвораю… не так, чтобы слишком, но боюсь выходить – раскисну крепше, а их звать неохота, сама понимаешь…» Сел на старенький свой диван, подобрал ноги, укрыл дохой. «Заходи, – сказал, – сквозит». Она переступила с ноги на ногу – он любовался каждым движением, каждым переливом мускула. «Экая ты, девка, ладная…» Вошла, процокала робко и настороженно, остановилась – впервые так близко, лишь руку протяни. Не шевелился, смотрел. Чуть успокоилась. Спросил: «Чего дрейфишь?» Дрогнула, опять вздернув уши, и вдруг подалась вперед. Он только всхлипнул, обнимая ее за шею; она голову подняла, заглянула в глаза.
Он смотрел на истерзанный труп на алом снегу и понять не мог, за какие такие его грехи всех, кто дорог ему, кромсает лютая смерть. Ничего не слышал, ничего, все проворонил, друга последнего проворонил, ах ты, господи! Гады, прохрипел он. Поднималась поземка. Хрен с ней, с поземкой… Гады!! Я вам покажу биоценоз… вы у меня увидите биоценоз! Как клопов!
Темнело. В спину била, подгоняя, в одночасье вздыбившаяся пурга. Широкие лыжи вязли в рыхлом снегу, тонули. Следы терялись, проглядывали где-нибудь в лощинках и пропадали вновь. Он не отступал. Ненамного впереди – не ели, зарезали только, я спугнул… Какое-то мрачное, кроваво отблескивающее наслаждение доставляла ему мысль, что боится его серая нечисть. Он шел ровно, как автомат, забыв, что он человек. Он больше не был человеком. Он был слугою ножа. Карабин бы… Не было карабина, только очехленный штык болтался на боку, мрачный и восхитительный талисман детства, найденный в обвалившейся, заросшей траншее под Ямполицей, побывавший на звездах…
Он настиг стаю через три часа. Их было пятеро – тощие, обессилевшие от зимней бескормицы, тоже злые. Они решили принять бой. Грозное, непостижимое существо, всегда запретное, сейчас казалось единственным доступным мясом на десятки заснеженных, вымороженных миль.
С первым все вышло гладко. Волк прыгнул, но, налетев на штык, только по-загубленному всхрапнул. Уже бессильным бурдюком рухнул Колю на грудь – в лицо, перекрывая хлесткие потоки снега, плеснуло горячим. Коль замотал головой, отворачиваясь, упал в снег под тяжестью волчьего тела. Сбросил, вскочил. Остальные отбежали в пургу, но Коль знал, что они рядом.
– Ну, где вы там?! – заорал он, дико озираясь. Видимость – три шага. Ему не было страшно, лишь раздражала медлительность этих трусов, этих убийц. Споткнулся обо что-то, глянул – то был его первый. Он лежал, скрючась, мелко подрагивая лапой, оскалясь мертво и был совсем не отвратителен, не подл – убит. Из горла толчками била черная кровь.
Угар прошел. Коль вдруг почувствовал, что ноги его не держат и осел рядом с трупом.
– Лену ты мне не вернешь… Изуродовали вы ее, истерзали…
Снег рушился в лицо.
Он сказал: «Ну да, его каюта ведь ближе…» – а потом ее уже не было, были морозные узоры на стекле и обугленные губы, которые наяву ему так и не удалось поцеловать…
– Нет, – прохрипел он. – Не вернешь…
Из тьмы прилетали и улетали во тьму длинные дымные струи, гудели сосны.
Дембель-синдром – или, по-интеллигентному, синдром острой сексуальной недостаточности – страшная, смешная и унизительная штука. Можно быть классным пилотом, можно участвовать в интереснейших разговорах, все маршалы мира могут твердить тебе, какой ты герой и как благодарно тебе многомиллиардное человечество, можно вусмерть упиться на поминках погибшего в метре от тебя друга – но и под газом, и с похмелья, и по трезвянке ты косишь только на женщин, и все они кажутся тебе роскошными красавицами, и всех позарез нужно употребить немедленно и по возможности без разговоров. И они, собаки, это чувствуют, конечно – и не то, чтобы шарахаются, но отстраняюще напрягаются, и даже лишнего взгляда кинуть не моги, видно же, что это не просто взгляд, что от такого взгляда и забеременеть можно, пожалуй.
А тут еще действительно все очень красивы – и свеженькие аспирантки да практикантки, поналетевшие в Коорцентр для благоговейного участия в ежедневных многочасовых обсуждениях результатов экспедиции, и роскошные, ну явно же не чуждые женских радостей докторессы, сыплющие ученейшими терминами, запросто спорящие с мышцастыми докторами и генералами. Подчистили они себе гены за два века, ну, и жизнь другая – ни экологических хвороб, ни очередей, ни прохиндейско-карьерной нервотрепк и…
А тут еще климат жаркий, лето в разгаре, и моды будто для Лазурного берега – то вызывающие шортики-футболочки. то радужно сверкающая хламидка, под которой, голову на отсечение, ничего нет, кроме гладкой загорелой кожи, то эдакий вольготный хитон до пят, при любом движении рисующий все линии тела… да что при движении – от малейшего сквозняка!
А тут еще двадцать третий век на дворе, и совершенно загадочен предварительный ритуал, темны словесные «па» брачного танца. Группа адаптации, тридцать семь высокоученых лбов, медосмотры по полтора-два часа, датчики-хренатчики… как в сортир ходить, объяснили в первое же утро, а как женщин клеить – нет, сам догадывайся, звездный скиталец, герой с дырой. Вернее, то-то и оно, что совершенно без дыры. Когда Ясутоки начинал удовлетворенно рассказывать о быстрой нормализации каких-либо лейкоцитов, или об успешно идущей лимфоидной конвергенции, или о близком прекращении периодической сердечной аритмии, или об иммуногенезе, Колю иногда хотелось засветить ему меж глаз чем попало, хоть стулом, хоть бутылкой, хоть японским же компьютером. И японец, видимо, чувствовал что-то, сворачивал разговор, но чуть заметно мрачнел, становился вежлив до приторности и уходил; а потом оказывалось, уходил не просто так, а чтобы собрать очередной сбор треклятой своей группы и обсуждать – черт его знает, что именно, но ясно, что Коля.
Несколько раз за эти дни, когда ситуация уж очень начинала благоприятствовать легкой беседе, Коль пробовал. Он очень хорошо помнил, как, например, во время послеаральского загула ему и остальным двум ребятам его экипажа стоило буквально лишь пальчиками щелкнуть – и любой приглянувшийся плод падал с ветки. Он помнил, как после умбриэльской экспедиции американцы увеселяли советскую часть экипажа – это было опять-таки по-человечески. Одна совершенно пантерная мулатка в Лас-Вегасе аж выучила, бедняжка, по-русски целую фразу, и около трех ночи, поднося Колю стопарь для восстановления сил, старательно ее произнесла: «Русский астронаутский пайлот куалифисированный отшен». Прозвучало настолько приятно, что он даже не обиделся на «русского». Правда, протрезвев наутро, со смехом сообразил, что фразка двусмысленная – квалификация в какой сфере, собственно, имелась в виду? – но ночью, гордый добротно сделанным сложнейшим полетом, он понял, разумеется, так, как следовало… Однако здесь подобные фокусы не хиляли. В разговор входилось легко, женщины были умны и отзывчивы, и ощущалась в них некая выжидательность, но стоило Колю от естественных первых, пусть и чуть натянутых, фраз начать куртуазно вешать лапшу на уши – не разговаривать же с первой встречной всерьез, да и что тут скажешь? – некая выжидательность замещалась некоей страдательностью, и наползала непонятная, но непроницаемая стенка. Главный идиотизм был в том, что собеседницы мужественно пытались поддержать беседу, взять Колев тон, но уже сам Коль начинал ощущать, что делает что-то не то.
Всеволод заходил побеседовать, выкроил время – главковерх всея космическая мощь… И ведь, в общем-то, с первого дня Всеволод очень нравился Колю, может, даже больше остальных, с кем свела его за эту неделю его новая судьба. И говорили по делу – не о науке бесконечной, и не о здоровье, а о звездолете, о том, что там хотят сделать музей, и нужны Колевы консультации. Не согласился бы он слетать на «Восток звездный», или это ему будет психологически тяжело? И еще вопрос серьезный – разделились мнения, где музей делать. Одни считают, что надо корабль на мощных гравиторах опустить с орбиты на Землю, скорее всего, на бывший Байконур, потому что первый звездный крейсер был назван, по решению отправлявшей экспедицию ООН, в честь первого корабля с человеком, и где-то правильно назван, ведь, как не относись к Никите и его команде за то, что они человека, будто подопытную крысу-рекордистку, шуганули на виток, для тех, кто «Восток» делал и на нем летел, это действительно был подвиг; другие считают, что надо оставить звездолет, как есть, на стационарной орбите, пусть это даже повредит посещаемости; зато те, кто придет, полнее поймут чувство отъединенности и пустоты вокруг, и превращать механизм, назначенный его создателями только для космоса, в игрушку среди карагачей и олеандров, есть надругательство над памятью давно умерших дерзких и талантливых людей. А мнение Коля? Но Колю было не до того. Он отвечал невпопад, обещал, что еще подумает, а сам смотрел на сильное лицо, на плечищи маршала, на обтянувшую атлетическую грудь полупрозрачную безрукавку, и сравнивал себя с ним, и вообще с мужчинами этого мира, и думал: господи, да куда мне теперь с аритмией, анемией, черт знает, чем еще… да даже и без них… Телки меня просто не почувствуют, пыхти не пыхти. И почему-то от начала разговора в голову навязчиво толкалось и ломилось воспоминание, мучительно стыдное уже и в конце той жизни, и подавно в этой: как он, сам-то по деду чех, с именем немецким в честь немецкого канцлера, при котором незадолго до рождения будущего звездного пилота соединились наконец Германии, сидит в курсантской казарме с пятью такими же двадцатилетними остолопами и снисходительно цедит, якобы с изяществом держа дымливую «Флуерашину» у рта: «Русских просто уже нет. Они сами истребили себя, а остаток генетически выродился в семидесятых. Сейчас русские – это не нация, а сословие, каста. Кто за сохранение остатков империи – тот и русский…» Хорошо, что Всеволод этого не знает, думал Коль. О подобных эпизодах, как назло один за другим запузырившихся в памяти, он даже под пыткой никогда не рассказал бы этому Добрыне, да и кому угодно, хоть Ибису, хоть чибису… Не получилось разговора. Полвечера Всеволод пытался вовлечь Коля в свои дела, потом ушел – время свободное вышло.
Назавтра Коль опять делал доклад для полного зала планетологов – на сей раз о хищных гейзерах второй планеты Эпсилон Эридана. Гейзеры были штукой вполне загадочной, одной из многих загадочных штук, встреченных в полете, и, хотя ассистенты и видео крутили на экран, и давали всю цифирь на кресельные компьютеры, самого Коля, когда он отговорил, еще часа три мучили вопросами. Затем, после обеда, доклад трансформировался в дискуссию, и Коль сидел, неловко было уйти, решат еще, что он тупой звездный извозчик, довез материалы – нате, а мне все до лампочки. Какие-то высказывания, кажется, были дельными, но в целом Коль негусто понимал. Ясутоки, пребывавший рядом, время от времени мягко спрашивал, на устал ли Коль, не угодно ли ему покинуть зал и отдохнуть, или, например, поплескаться в бассейне – и Коль, с каждым разом все раздраженнее огрызался: хочу, дескать, узнать, что сообразит высокая наука двадцать третьего века. «Ты что же, Ясутоки-сан, думаешь, мне эти гейзеры до лампочки? Это вам, может быть – а я над ними летывал, вот так, в пяти метрах!» Ясутоки спрятал глаза, но не смог утаить тяжелого вздоха. Когда с кафедры пошло: «Эндодистантность плазмы при синхротронном лучеиспускании ложа, естественно, обусловливает гиперпульсации псевдоподий» – сидевший за Ясутоки Гийом наклонился к Колю и тихо сказал: «Думаю, ничего интересного уже не будет. Пошла вода в ступе». Бред это, а не вода, подумал Коль, но, сам не понимая, отчего, встал на принцип: «А мне интересно!» Гийом пожал плечами. Докладчик был в ударе, Коль понимал одно слово из десяти. Через пять минут у него аж в груди заныло. Гийом опять наклонился к нему: «Я в буфет. Хочешь в компанию?» И Коль сдался.
Они вышли из конференц-зала. Ближайший буфет был этажом выше, они встали на безлюдный эскалатор, шустро и беззвучно струившийся поперек прозрачной стены, за которой зеленым и золотистым полотном стелилась чуть всхолмленная степь.
– Нет, – сказал Гийом, – серьезная работа впереди. Это все дилетантизм.
– Почему?
– Мозговой штурм в таком громадном зале не проходит. Устаешь быстро.
– Я вот совсем не устал.
Мимолетная тень пробежала по лицу генерала, одетого теперь, будто запевала какой-нибудь рок-группы.
– У тебя тренировка межзвездная, – сказал он, чуть помедлив. – Терпение, воля, целеустремленность. И потом, для тебя гейзеры не абстрактный объект исследования, а переживаемый факт биографии.
Неужели, подумал Коль, на моей роже так явно сверкает скука, и этот молодец за здорово живешь издевается надо мной?
Эскалатор выплеснул их в уютный зальчик, где, как усеявшие луг ромашки, цвели парящие над зеленым полом белые лепестковые столики. Мы первые не сдюжили, подумал Коль, озираясь – в буфете никого не было.
– Давай к окну, вон туда, – предложил Гийом, а сам, широко шагая, двинулся к пузатым разноцветным шифраторам. Коль уселся, поставил подбородок на сцепленные ладони. Прямо у ног его головокружительно зияла двухсотметровая бездна. Зачем-то Коль пнул ее ногой – как и следовало ожидать, носок туфли отлетел от невидимой твердой преграды.
– Апельсиновый? – громко спросил Гийом.
– Грейпфрутовый.
– Бутербродик?
– Авек плезир…
С небольшим подносом – два высоких бокала, тарелочка с бутерами – Гийом, улыбаясь дружелюбно, шел к нему. У вдруг Коль отчетливо ощутил, что его ждет некий серьезный разговор. Лихорадочно он перелопатил в памяти все неофициальное, связанное с периодом исследования гейзеров. Нет, как он струсил тогда, никакие записи не могли зафиксировать. Этого никто не мог и не может знать. Да и не струсил! Просто в момент, наверное, этой самой гиперпульсации, будь она проклята, его обожгло: все, конец, никакая высота не спасет! – и тело само, вдруг вспомнив противозенитные рефлексы, дернуло вертолет в сторону и вверх, вверх, вверх… Наблюдение прервалось минут на шестнадцать, но это не имело никаких последствий, потом он вернулся. Да, струсил, черт вас… а кто бы не струсил? Вы? Нет, даже если пронюхали – упреков не приму!
Спокойно, Коль. Как они могли пронюхать? Эти отвратительные шестнадцать минут тебе до смерти носить на дне совести, как и многое другое – но молча носить, молча…
Гийом поставил скромную снедь на ромашку, с видимым удовольствием уселся, вытянув ноги.
– Красота, – сказал он, глядя вдаль.
– Да, – осторожно согласился Коль.
– А за горизонтом море… Пора бы уже искупаться в настоящей воде, Коль.
У Коля даже ладони вспотели от вожделения. Море…
– А что Ясутоки? Разрешает?
– Конечно. Он тоже полетит.
И только-то? Очередной эксперимент придумали над моим телом – и такие политесы!
– Выездной медосмотр? – со злобой спросил Коль. – Нет, не хочу. У меня еще лимфоидная конвергенция не завершена. Лучше в бассейн.
Гийом сделал задумчивый глоточек из бокала.
– Странная штука – разговор, – вдруг проговорил он.
Коль опять насторожился.
– Почему?
– Каждый человек – чрезвычайный и полномочный представитель себя в этом мире. Несменяемый. Пожизненный. Послы враждебных государств только и знали, что врать друг другу, только и норовили обмануть и урвать. А если цели и интересы государств совпадают, тогда как?
Ему что, пофилософствовать больше не с кем? Какое отношение…
– Тогда подписывают союзный договор, – ехидно сказал Коль.
– А когда договор уже подписан?
– Тогда начинают его потихоньку нарушать.
– Это если договор был липой, а цели и интересы все-таки не совпадают. А если – все-таки – совпадают?
– Ну?..
– Тогда начинаются широчайшие контакты и обмены, прежде всего – информацией о себе. Потому что общие интересы всегда имеют частные, индивидуальные проявления, и, стремясь эти интересы реализовать как можно полнее, – Гийом отпил еще, явно стараясь тщательнее продумать свои непонятно зачем произносимые слова, – нужно максимально представлять себе те их проявления, которых жаждет твой сосед. Иначе пойдет дисбаланс, накачка взаимных напряжений – и в итоге прогадают оба.
– Предположим, – Коль взял бутерброд и стал заинтересованно вертеть его перед глазами, стараясь показать, что даже бутерброд ему интереснее, чем этот разговор. Бутерброд был аппетитный, свежайший, и Коль не выдержал – откусил.
– Мы живем в обществе, где цели и интересы всех людей совпадают.
– Так что ж вы, елки-палки, – пробормотал Коль с набитым ртом. – Я спрашивал сколько раз! – проглотил. – Коммунизм, что ли, у вас все-таки?
Гийом только шрамом дернул да тряхнул бокалом. Но не расплескал, уже отпил порядочно.
– Денег ты не видел? Нет. Значит, не капитализм. Партбилеты и кумачи видел? Нет. Значит, не коммунизм. И оставь это! Жизнь у нас. И в этой жизни все стараются говорить друг другу все, что думают. Не обманывая. Не умалчивая даже.
– То-то шум стоит! – скривился Коль.
– Зачем шум? Все бережно говорят, тихонько. Шум ведь никому не нужен. А если шума не хочет никто – тогда в ноль секунд можно договориться о том, чтобы не шуметь.
– Вкручиваешь ты мне, – Коль покачал головой. – Вот, скажем, встречаю я урода. Нет, чтобы отвернуться тактично – я подхожу старательно, контакты ведь нужны, и сразу бабахаю от души: ну и рыло у тебя, братец, ну и фигурка!
– Не так, – остановил его Гийом. – Неправда. Разве ты это чувствуешь? Физиологическая неприязнь естественна, но и духовное сострадание естественно. То, что ты сказал – сказано со злобой, с издевкой. Но почему вдруг ты начал испытывать злобу к только что встреченному незнакомому человеку, жертве болезни или катастрофы? Психологически недостоверно. Ты, да и кто угодно, сказал бы примерно следующее: я, животное Коль Кречмар, испытываю некоторое отвращение – это прорывается в мысли подсознательный страх, что я мог бы быть таким же. Но я, человек Коль Кречмар, очень сочувствую тебе, очень хочу поделиться с тобой тем, чего у тебя мало, и, если ты не против, могу, например, помочь перейти улицу.
– Мудрено…
– У амебы все просто. Человек – не амеба.
Коль вдруг вспомнил про бутерброд. Осторожно положил его на блюдце. Почему-то стало страшно.
– Зачем ты говоришь все это? – тихо спросил он.
Гийом допил сок.
– Просто рассказываю, – он вдруг улыбнулся, и улыбка была обезоруживающей. – Ты делал доклад, теперь я сделал тебе доклад. Цели едины. Но люди сложнее, а значит, интереснее, а значит, лучше, чем то, на что они долго старались походить. Не надо ничего стесняться… Ладно, я должен встретиться с планетологами и сказать то, что тебе говорил. Насчет дилетантизма. А ты подумай над моим предложением… я имею в виду прогулку к морю. Здесь минут двадцать на скорди. Вечерний заплыв в теплой бухте, на закат… – он мечтательно закатил глаза и встал. – Там, в умиротворяющей обстановке, могли бы продолжить наши доклады… – снова улыбнулся и быстро пошел к эскалатору. – Если надумаешь – позвони Ясутоки или мне через часик!
Коль уставился на свои руки – руки дрожали.
Серьезный разговор, очевидно, все-таки произошел. Теперь еще понять бы, что он значит.
Он так и сидел двадцать минут спустя, не притрагиваясь больше ни к еде, ни к питью, глядя на то, как вечерняя дымка окутывает степную гладь внизу и становится тепло-розовым недавно еще голубое небо над манящим горизонтом. Сзади раздались быстрые, легкие шаги. Обернулся. В горле мгновенно пересохло, и тревога забылась, только подспудно давила душу. Дембель-синдром. Женщина лет двадцати пяти, красивая, как все, стройная, как все, поспешно подошла от эскалатора к его столику, глядя на него неожиданно радостными глазами.
– Здравствуй, Коль. – сказала она. Черноволосая. Смуглая. Открытые плечи. И Южный вечер за окном. Ну, что ей, ведь это же мука… что ей?..
– Здравствуй, – ответил Коль.
– Извини, если помешала, – проговорила она и запнулась. – Мне сказали, Гийом здесь… – неуверенно прибавила она.
– Ах, Гийом…
Конечно, не к нему.
– Был, – стараясь не поникнуть хотя бы с виду, ответил Коль. – Мы с ним удрали с дискуссии. Откровенно говоря, я устал там торчать и понимать с пятого на десятое.
У нее вдруг потеплели глаза, будто он сказал нечто очень ей приятное.
– Посиди со мной, – вырвалось у него. – Что-то мне не по себе, – она тут же села напротив него, но он для верности дожал: – Гийом обещал вернуться, поговорив с планетологами…
А у нее вдруг задрожали губы. Словно он ни за что, ни про что назвал ее шлюхой. Но она тут же храбро улыбнулась.
– Хорошо, буду ждать.
В голове идиотски вертелся стандартный до анекдотности зачин: девушка, мы с вами встречались. Девушка, я вас где-то видел. И вы самая красивая из всех, кого я здесь до сих пор видел…
Разговор с Гийомом давил.
– Первый раз тебя вижу. Жаль.
Она опять чему-то обрадовалась.
– Мелькала бы каждый день поблизости, хоть бы глаза порадовались…
– Почему?
– Ты очень красивая.
Действительно, красивая. Что-то итальянское, наверное. Только села отвратительно: ног не видно, стол.
– Ты итальянка?
– Иллирийка.
– Тоже здорово. Ядран…
– Любишь море?
– До озверения. Гийом звал сегодня, но как-то… Я – и все врачи. Наверное, со всей аппаратурой. Унизительно.
– Не надо так думать, Коль. Разве забота унизительна? Ты столько перенес…
– На ногах.
Она только через секунду поняла игру слов. Засмеялась.
Как бы это пересесть, чтобы видеть ее всю.
– Хочешь, я возьму тебе соку? – спросил он.
– Нет, спасибо, Коль.
И стол, собака, просторный, коленками не стукнешься…
– Гийом не обещал вернуться, – вдруг сказал он. – Я соврал. Боялся, ты уйдешь.
Нет, что-то не так было между ним и ими. Ничего не возможно понять. Она расцвела, словно он сделал ей невероятный подарок.
– А я не ушла.
У Коля опять пересохло в горле.
– Как тебя зовут-то хоть?
– Светка.
– Светка… – со вкусом повторил он. – Ты извини, Светка, я сейчас действительно малость прибабахнутый. Пошутить толком не в состоянии. С Гийомом мы сейчас поговорили очень умно, очень серьезно и абсолютно непонятно.








