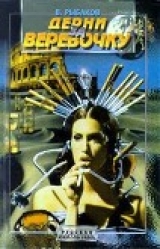
Текст книги "Дерни за веревочку"
Автор книги: Вячеслав Рыбаков
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Нет байки вредоноснее на свете, чем враки о Ромео и Джульетте, – раздался над самым ухом голос Шута. Дима ошарашенно вздернул голову – темная тощая тень проплыла мимо.
– Кыш, – сказал Дима ей вслед, и в этот момент кто-то толкнул его локтем в бок. Дима обернулся и опять рявкнул: Кыш!
– Ай-яй-яй, охальники, – ухмыляясь, сказал танцующим Ромка, снова сделал выпад локтем и попал Еве в бок.
– Отстань! – крикнула она с остервенением. Дима потянул ее к себе, она покорно и обещающе обмякла.
– Пошли отсюда, – попросил он.
– Куда уж тут…
Кончилась песня, и Ева изящно выскользнула:
– Подожди.
И удалилась к столу, где трубили общий сбор, открывая очередную партию бутылок. Дима остался посреди комнаты со слегка разведенными руками и пустыней в голове. Над пустыней бушевал самум; песок ревел, рубил лицо, слепил и заглушал все вокруг.
– Друг мой, как вы непосредственны, – донесся сквозь гул и плач ветра печальный голос. Кто-то взял Диму за локоть.
Дима обернулся.
– А?
Шут подтолкнул его к креслу и ухнул на него сам.
– Ромка, ейный хахаль, вишь, на Татьяне завис, так должна ж она продемонстрировать, что ей плевать…
Дима сел на подлокотник.
– Что? – спросил он после паузы.
Ева оживленно тараторила с Татьяной и Светкой, Ромка вертелся рядом. Магнитофон взорвался новой мелодией.
– Сейчас вернется, – голос Димы срывался.
– Нет, не думаю.
Ромка лихо шаркнул лапкой и пригласил. Ева отмахнулась.
– Не пошла! – возбужденно выкрикнул Дима.
– Естественно. Нельзя же сразу, право слово…
– Ну да… Нет… А как же?
– Слишком много доверия к двуногим прямостоящим, – изрек Шут. – Только мазохисты, Дымок, любят кого-то, кроме себя. Лидка вот никого, кроме себя, не любит. Потому и со мной: удобно, легко. Я ее тщетными мольбами о сопереживании не утомляю, душу не распахиваю и ей не даю – ей и хорошо. Делаем, что хотим. Каждый сам по себе.
Ева пила, похохатывая, и не оборачивалась даже. Дима перевел взгляд на Лидку. Лидка смирно сидела, уложив подбородок на сцепленные ладони. Она ждала. Она любила. Дима круто мотнул головой.
– Тебе Бог послал ее, а ты!..
– Ой, ой, ой, – с оттяжечкой сказал Шут.
– Я бы с нее Афродиту писал, – бабахнул Дима. – Закат. Веспер горит, и клочья пены, рвущиеся на ветру… Ветер, понимаешь? И волосы – черным пламенем в зенит…
– У нее короткая стрижка, – Шут, ухмыляясь, с любопытством вглядывался Диме в лицо. Дима очнулся.
– Что? А… – он устало вздохнул. – Неважно…
– Все чушь, – с нежностью сказал Шут. – Это пройдет. Веспер и все прочее. Скажи лучше, как ты Афродиту тут сбацаешь? – Шут погладил свое тощее брюхо, обтянутое модными штанами. – Ведь на худсовете тебе порнуху пришьют. Или, верный соцреализму, изобразишь действительность в ее революционном развитии и зашпаклюешь все пеной?
Ева смеялась.
– Ладно, – сказал Шут. Кряхтя, он встал и пробормотал рассеянно:
– На дрожку пойти…
– Шут, – спросил Дима, – а почему ты цитируешь всегда?
Шут усмехнулся грустно.
– Для конспирации, – сказал он, поразмыслив. – Так больше возможностей говорить от души. Авторитет. Дескать, с меня взятки гладки – это не я вас матом крою, а Шекспир, Ростан, Стругацкие, Бо Цзюйи…
– Я так и думал, – сказал Дима.
Диме постелили на веранде, на продавленном диване – подушка без наволочки, вместо одеяла старое пальто. Диме не спалось, но он честно лежал, закрыв глаза, и думал: во что бы то ни стало надо уехать дневным. Шут, проводив остальных до электрички, назад шел не спеша. Миновал старую церковь, туманно серебрящимся пятном парившую в небе, свернул в переулок – четкий, патрульный стук шагов по асфальту, ритмично ломавший ночную тишь, сменился глухим голосом земли, у крыльца остановился.
Звезды пылали. Воздух ласкал. Не хотелось уходить из чистоты и тишины. Веспер…
Димка, Димка, как ты мямлишь… Надо говорить так:
«Я – грохот, в котором оседает драгоценный золотой песок. Его – мало, но он – золотой. Я кричу под этими звездами, далекими просто, и далекими невообразимо, я рву горло в вопле, от которого у меня вылезают глаза и лопаются сосуды, и не надеюсь заглушить хохота, но если кто-то засмеется неуверенно, удивленно оглянется на других: да что ж здесь смешного?.. если отверзнется наконец неведомая железа и выплеснет гормон совести в кровь, и понявший свое уродство тем самым избавится от него – я буду спасен, и жизнь моя обретет смысл.»
Вот так ты должен был сказать. А ты говорил: э-э, бэ-э, мэ-мэ-мэ-э…
Шут ошибался. Дима не думал о золотом песке. Дима думал о Ней. Иногда о Еве. Иногда – еще о ком-то. Он был влюблен, влюблен почти во всех. Шут говорил не за него – за себя. Но грохотом быть у Шута не получилось.
– Звезды, – сказал Шут тихо и просительно. – Пошлите ему собрата.
Он простер длинные темные руки к сияющему туману, к великому костру, щедро рассыпавшему угли на весь небосвод, и вдруг подумал, как претенциозно выглядит со стороны. Это была мысль из тех, что исподволь сломили его несколько лет назад, и назло ей он вытянулся в струну и стоял так долго-долго.
Он тонул в распахивающемся пространстве. Божественный трепет ниспадал оттуда. Звезды беззвучно мерцали, неуловимо тек через мир Млечный Путь. Наедине с небом Шут не был столь одинок, сколь среди всех этих. Он знал: оттуда тоже смотрят. Эй, меднокожие с Эпсилона Тукана, у вас девчонки тоже нашивают красные сердечки на юбки внизу живота? Оффа алли кор?
В кухне погасла лампа – тихо и плавно, как во сне. Исчез желтоватый отсвет на листьях яблонь. Лидка ждала. Когда кто-то ждет, покоя уже нет. Легче пойти, чем стоять и думать лишь о том, что уже надо идти и что за каждую секунду промедления – виноват. Шут пошел.
Было душно и смрадно, как в бардаке, – сигаретный дым, алкоголь, объедки. Пустые бутылки Лидка сгребла в угол, грязную посуду вынесла на кухню – и уже лежала; когда Шут приблизился, она с наивной кокетливостью подтянула одеяло к подбородку и улыбнулась.
– Проводил?
– Естественно, уже катят… Я сволочь?
– Что? – Лидка перестала улыбаться.
– Нет, скажи. Только честно. Я сволочь?
На ее лице мелькнуло беспокойство.
– Временами, как все… – она вновь улыбнулась растерянно и участливо.
Впрочем, это видел только я. Шуту казалось: она прячется за глупую улыбку, которая когда-то казалась ему нежной, лишь оттого, что ей нечего сказать. Но мне было легче, у меня были приборы. Контакты захлестывало ее отчаянным, преданным непониманием.
– Скажи: что ты обо мне думаешь?
– Я люблю тебя, – сразу ответила она.
Он безнадежно ссутулился и проговорил устало:
– Ради всего святого. Монтрезор…
– Ну какой же я Трезор? – она надула губы. – Я же девочка, значит, уж по крайности Трезора… Ма шер Трезора. Так?
– Что?
– Ну… почему мужского рода-то? – она покраснела, сообразив, что опять сказала не то и попала пальцем в небо.
– А… – Шут слабо улыбнулся. – Логично. Только это не собачья кличка в данном контексте, а имя. У По есть рассказ. Там говорят: ради всего святого. Монтрезор. Тебе надо было ответить: да, ради всего святого. И замуровать меня в стену.
– О! – воскликнула она, выпрыгивая из-под одеяла. – Это по мне, это я с удовольствием!
Она стала замуровывать его подушкой, наваливаясь и прижимаясь. Он нехотя отбивался. Она успокоилась, села поверх сбитого одеяла, подушка на коленях, на подушке руки.
– И устала же я, – сообщила она. – Хорошо, что день рождения только раз в году.
– Да, – ответил Шут, глядя мимо нее.
– А какую сказку нам Димочка рассказал замечательную, правда? – искательно спросила она, пытаясь заглянуть ему в глаза.
– Чудит, – вяло пробормотал Шут.
Она вздохнула.
– Странно. Он такой добрый, а ты такой злой.
– Примитивные категории, лебедь моя белая. Однобокие.
– Ничего не однобокие! Как Трезор. У, злюка! – она изобразила, как рычит Трезор. – Р-р-р! Хочешь, объясню, чего ты рычишь?
– Не очень, но валяй.
– Не можешь простить себе, что не гений, – сказала она с детской радостью отгадки. – Как это, мол, в двадцать четыре года я только аспирант, а не академик?
Он наконец взглянул на нее. С ненавистью.
– Половина всех бед человеческих оттого, что вы слишком легко прощаете себе негениальность! – заорал он, будто сам не был человеком. – Что там мыкаться с гениальностью, право слово… Государственной изменой попахивает! Вот скажи, Трезора… скажи. Неужто тебе не хочется быть гением?
Стало тихо. Потом Лидка улыбнулась.
– Как здорово, – произнесла она. – Одинокая фамилия. Трезор и Трезора, его половина…
Он громко, бешено дышал.
– Замуж мне за тебя хочется, – сказала она.
Он опустил глаза. Бесполезно. Каждый о своем.
– У нас выпить не осталось? – спросил он.
– Я припрятала для тебя «ркацетушки», – ответила она. – Вон, уже открыла.
Он поднес бутылку ко рту.
– Ну, зачем, Коленька? Вот же граненый друг стоит.
Он налил в стакан из бутылки, потом перелил из стакана в себя. Налил еще. Спросил:
– Будешь?
– Нет-нет, – поспешно отказалась она. – Ты, если хочешь… пожалуйста.
Он отпил, уже не чувствуя никакого удовольствия. И вдруг, держа стакан у лица, горько сказал:
– Пред кем весь мир лежал в пыли – торчит затычкою в щели!..
– Это ты, что ли? – спросила Лидка.
– Конечно, я.
– В какой же это ты щели торчишь? В Москве, вроде…
– Я тебе покажу, – пообещал Шут. – Лягу вот сейчас – и покажу.
Она захлопала ресницами, потом покраснела и отвернулась к стене.
– Дур-рак… Шут гороховый… – ее голос дрожал от обиды.
Шут поджал губы. Положил ладони Лидке на затылок.
– Истлевшим Цезарем от стужи заделывают дом снаружи… Ну прости, – легко сказал он. – Я просто хам неблаговоспитанный, прав Дымок. Прощаешь?
Лидка беспомощно улыбнулась в подушку.
– Как, наверно, Димочку хорошо любить, – мечтательно проговорила она.
– Послушай, молодая женщина, – медленно сказал Шут. – Скажи. Как на духу. Почему вы всегда любите тех, кто вас не любит?
Стало очень тихо. Казалось, Лидка даже дышать перестала. Потом она снова села, повернулась к нему. Спросила еле слышно:
– Ты меня совсем не любишь?
Он не ответил. Она подождала, потом перевела дух и вдруг храбро улыбнулась.
– Ты не думай, я про замуж просто так сказала. Твоей любовницей я тоже хочу быть. Очень.
Он не ответил. Глядел на ее мерцающее в слабом свете плечо.
– Только ты не гони меня, пока я сама не устану, – попросила она.
– Да?! – взъярился Шут. – А если я за это время к тебе привыкну?
Она легонько засмеялась.
– Тогда ты меня не отпустишь. Возьмешь за ошейник и скажешь строго так: Трезора, место! И я завиляю хвостом.
И волосы – черным пламенем в зенит…
У нее короткая стрижка.
– Черта с два, – сказал Шут. – Захочешь сбежать – никакие команды не помогут. Я знаю наверное: чем лучше я к тебе буду относиться, чем больше буду заботиться о тебе и переживать за тебя, чем больше буду тебе благодарен – тем менее ценен буду… В тот день, когда я скажу: я люблю тебя, Лида… – он сделал несколько нервных, клюющих глотков из стакана, потом откашлялся. – Именно в тот день ты мне ответишь: подлец, ты всю молодость мне исковеркал, видеть тебя больше не могу!
Она подождала секунду, потом плавно протянула к нему руку и провела ладонью по его щеке. Будто завороженная. Ее пальцы дрожали.
– Тогда не люби меня, любимый, – тихо сказала она. – Если только так можешь быть во мне уверен – не люби. Я не устану долго-долго.
Он смотрел на нее с ужасом и восхищением. И не знал, что сказать. Ему хотелось упасть перед ней на колени. Горло перехватило от нежности, которую нельзя, ни в коем случае нельзя было показать. Ведь, скорее всего, Лидка врала.
– Эхнатончик, – сказала она после долгой паузы, – что ты сегодня такой молчаливенький?
В это время Дима все-таки заснул. Ему снился вокзал.
Вокзал был набит людьми. Плотные реки тел текли медленно, затрудненно, перехлестываясь и перепросачиваясь; и, как положено рекам, несли и вертели угловатые валуны – чемоданы, баулы, рюкзаки. Дима юлил, прижав локти, время от времени прикрываясь портфелем. Он спешил. Это был уже не сон.
В начале его перрона расположилась на груде рюкзаков группа девиц в измочаленных джинсах и относительно белых водолазках с одинаковой нагрудной надписью «Лайонесс». Надписи были сделаны по-английски, шариковыми ручками, старательно. Посреди девиц, водрузив правую ногу на рюкзак, торчал хлипкий лысый бородач лет тридцати, с гитарой, в темных очках и стройотрядовской робе и однообразно тюкал по струнам. Девицы заунывно тянули:
…А кому эт надо, а кому эт нужно..
А някому ня надо, а някому ня нужно…
Их огибали, едва не падая на рельсы. Дима тоже обошел, девицы безразлично скользнули по нему взглядами. Дима поддал в их сторону смятый пыльный стаканчик из-под мороженого. Стаканчик угодил меж лопаток одной из певуний, та медленно обернулась, не переставая рассеянно ныть: «Прилепили хвостик…»
Бригадир поезда был толстый дядька с красным лицом. Он смотрел на Диму пустым взглядом, все время на что-то отвлекался, и Диме раз за разом приходилось прокручивать вранье от начала до конца. Чем дальше, тем тошней становилось – Дима терпеть не мог врать. Суть вранья была такова: имеющийся у него билет его не устраивает, ибо ехать надо не послезавтра, а сегодня – мама болеет. Несчастное лицо. На текущий день билетов уже нет. Опять несчастное лицо. В кассе посоветовали обратиться к вам. Во взгляде – легкая, робкая надежда.
Наконец бригадир почесал в затылке.
– Где билет-то? – спросил он с тяжким вздохом.
Дима извлек. Бригадир протянул пухлую мягкую розовую руку. Дима вложил билет во влажные пальцы. Бригадир, буквально засыпая, мельком посмотрел на просвет.
– Сдай, а потом подскакивай, пожалуй, в пятый…
– Есть!
Бригадир отер ладонью пот.
Дима, помахивая портфельчиком, полетел обратно. Душа его пела, все устраивалось. Он успеет сегодня позвонить. Он машинально лавировал в толпе, не глядя, миновал завывающих девиц, и вдруг ему в спину ударилось нечто. Он удивленно обернулся. У ног его лежал ком из нескольких папиросных пачек. Давешняя девица, невнятно продолжая петь, ухмылялась ему и показывала язык. Дима побежал дальше.
У касс толпа была особенно густой и распаренной. Дима набрал побольше воздуха и крикнул с пафосом:
– Дорогие товарищи! Друзья!
К нему обернулись, как к психу, надеясь хоть немного развлечься.
– Кто хочет послезавтра в Ленинград, прошу!
Ну, вот, думал Дима, в лавировку несясь обратно. Теперь вовсе без билета.
Львицы, завидев его, даже перестали петь. Они загоготали все хором. Дима приветливо сделал им ручкой, в ответ его подруга послала ему воздушный поцелуй. Лысый бородач смотрел ревниво.
Бригадир действительно был в пятом, в тамбуре. Проводник, разбитной мужичишка средних лет, что-то ему оживленно рассказывал, делая руками движения, будто открывает бутылки одну за другой, и приговаривая при этом что-то вроде: «уяк! уяк! уяк!» Бригадир осоловело слушал, как слушал и Диму – глядя потным взглядом куда-то в сторону. Дима пригладил волосы и с видом честного пассажира шагнул в тамбур. Бригадир не пошевелился даже, даже зрачки не дрогнули – только руку протянул. Дима вложил в нее, совсем уже взопревшую, вырученные за билет деньги. «А они – ни в какую!» – сказал проводник. Бригадир опустил руку с деньгами в карман брюк. Потом вынул ее уже без денег и отер пот. Проводник теперь делал движения, будто разливал. Звук тоже сменился. «Плюк-плюк-плюк!» – рассказывал проводник. «Посади», – сказал бригадир. «А чего сажать? Вон – одно свободное. Так вот я и говорю: плюк-плюк-плюк!..»
Дима вошел в вагон – там, как по заказу, отчетливо виднелось единственное свободное место – рядом с аккуратной, миниатюрной старушкой, уже углубленной в какое-то чтение. Дима двинулся к этому креслу, и тут пол мягко колыхнулся; перрон с идущими и прощально машущими людьми едва заметно, затем все быстрее и быстрее поплыл назад. Перегон начался.
Все. Теперь все. Дима сделал, что мог, вчерашний вечер стал, наконец, отодвигаться в прошлое. Еще стыдно было перед Ней, но это ненадолго. Дима чувствовал. Вперед наука, говорил он себе, чтобы окончательно успокоиться. Господи, как противно! Ничего. Сегодня я Ее увижу. Он затрепетал, поняв, что это так. Поезд довезет. Телефон дозвонится. Метро догремит, уверен. Спокоен и уверен. Это не сказка, не сон, не пустая мечта в час тоски – сегодня он Ее увидит.
Москва убегала. Дима откинулся на горячую спинку кресла, прикрыл глаза. Опять екнуло сердце – увижу. Позвоню и скажу… что скажу? Скажу, здравствуй. Он повторил Ее телефонный номер – медленно, сердцем целуя цифры; уже сегодня. Не завтра, как было вчера, а сегодня. При мысли о вчерашнем дне опять запылали щеки и уши. Он с ненавистью посмотрел на свою ладонь и в который раз стал ожесточенно вытирать ее о брюки. Хотелось о стены биться от стыда. Никому больше не верю, только Ей. Люблю. Он понял, что думает это серьезно. Почему нет? Люблю.
Сердце колотилось о ребра, как колеса о рельсы. Нет, так нельзя, семь часов еще, подумал Дима. Я спячу. Он нагнулся к портфелю за книгой и краем глаза увидел черные брюки, остановившиеся рядом. Поднял голову – бригадир улыбался добро и устало, как майор Пронин. Он махнул подбородком в сторону тамбура, и сам двинулся туда. Дима встал – о господи!
В тамбуре никого не было, но уже воняло папиросным дымом.
– Вот что, друг, – сказал бригадир и вытер пот. – Ты, – он поднял короткую руку к люку в потолке, – посидишь там с полчаса. Контроль…
– Вот те раз, – обеспокоился Дима. – А выпустить не забудете?
– Говорю – полчасика.
– Лады, – нерешительно пробормотал Дима. Бригадир вяло просиял – чувствовалось, эта процедура ему приелась.
– И прекрасненько. Сейчас лесенку припру… И еще сосед у тебя будет. Это… напарник.
– Это кто же?
– Да малец…
Бригадир ушел. Дима прислонился плечом к стенке, недоверчиво глядя на люк вверху. Странно, сколько же там места? Вроде бы нисколько. Куда он исчез-то? Дима разволновался. А если контроль уже?.. Лязгнула дверь, и Дима в панике обернулся. Бригадир нес короткую приставную лестницу, за ним двигался парнишка лет восемнадцати – длинная шея, угловатый, крепкий. Бригадир поставил лестницу, влез, поковырял большим ключом в замочной скважине люка, и тот отвалился, повис. Бригадир тяжко спрыгнул и стал отдуваться, протирая загривок, лоб и щеки.
– Поехали, – задыхаясь, сказал он.
В темной пазухе пахло гарью и смазкой, в горле сразу запершило. Дима хотел сесть и ударился затылком. Пришлось скорчиться, спрятав голову меж колен. Полчасика… Вспомнилось, как в детстве, желая сделать отцу сюрприз, он пытался спрятаться в ящике письменного стола.
– Пиджаки снимите, – заботливо вспомнил бригадир, – у меня повисят.
Дима, извиваясь, ухитрился снять пиджак и бросил его бригадиру на руки. А ведь там все мои деньги, с опозданием сообразил он, но смолчал: неловко было просить бросить ему сюда его кошелек, получилось бы, что он не доверяет бригадиру. Подозрительно принюхиваясь, снизу уже лез напарник.
– Чего тут? – он таращил глаза со света, стараясь сразу оглядеться.
– Кр-расотуха, – сдавленно ответил Дима. Напарник хмыкнул, стал размещаться. Люк закрылся, и наступила полная тьма. Я перешел на инфракрасное изображение – мне важны были лица.
– Успели, – облегченно пробормотал Дима.
– Куда?
– Ну… сюда. До контролеров.
– На кой бы им идти, пока мы не спрятались? Предупредили бригадира и ждут, когда он «добро» даст…
Поезд, дрожа от усилий, летел к Ней.
– Перемажемся вдрызг, – раздался голос из темноты. – Галстук бы не заговнять…
– Бог даст, ототремся.
– Тоже в бога веришь?
– С ума сошел!
– А чего, сейчас многие. Девчонки, вон… Блузку расстегает, там крестик…
– Одно дело – крестик…
Помолчали.
– Питерский? – спросил напарник.
– Учусь там.
– Где?
– В Репинке. А ты?
– Маляр, стало быть… что? А, я… Питерский. Ну и вонь, – он зашуршал, пытаясь слегка сменить позу. – Задыхаюсь на хрен, – ткнул Диму в бок острым, твердым коленом и успокоился. – Пардон с меня. Курить будешь?
– Да господь с тобой, и так духотень!
– Чего молишься? Не веришь, так не молись.
– Привык.
Уже извиняюсь, подумал Дима. Не он, а я. Как так получается?
Сухо, как сверхзвуковой истребитель, шаркнула спичка. Темнота, подрагивая, втянулась в углы: Дима увидел выпавшее из мрака мальчишеское лицо с плотной тенью, залегшей под глазами и на верхней губе, в пушащихся усиках. Сдавили взгляд проступившие ребристые стены. Напарник закурил и погасил спичку, все исчезло, и только оранжевый огонек перекатывался в черной спертой пустоте. В ноздри, в горло поползло невидимое теребящее удушье.
– Девчонку бы сюда, – вдруг проговорил напарник.
Дима не нашелся, что ответить. Напарник затянулся.
– У меня вот сбоку такая сидит, – задумчиво сообщил он. – Из благовоспитанных, вроде – не притронься. Смешно б ее тут в дерьме раскатать, на трансформаторах…
Напарника не было видно: казалось, это сама тьма цедит отравленные слова и шлет бомбить праздные города, забывшие о светомаскировке, давно пропившие радары ПВО. Несметные эскадрильи туманили ночной воздух, застилали звезды… Написать бы это. И назвать… как назвать? Что-нибудь вроде «Требуется противогаз». Или: «Противогазов сегодня не будет».
Экспресс, трепеща, рвал воздух, спешил.
– Знал одну такую. Приехала к дружку, а он свалил. Ну, покатили таун осматривать, впервые в Питере, хуе-мое… И, вроде, ничего ей не смей! А вечером я ее упоил чуток. Так она как полезет! Ох-ох, говорит, до чего жаль, что Кеши нет, я ведь рассчитывала заночевать у него, а теперь в затруднительном положении… понимаешь?
Понимаю, думал Дима. Сегодня я Ее увижу. Как Она там жила? Только бы не пустить это в себя, не оскорбить недоверием… Будь проклят, напарник.
– А вообще, они скурвились все, – говорила тьма. – Кулак засунуть можно, и еще хлюпать будет!..
Он ведь моложе меня, думал Дима. Года на три… Он попытался зажать себе уши коленями. Не получилось.
– Не, ну елы-палы, во жизнь пошла! То сопромат грызешь, то двигатели, то закон божий… Миром Ленину помо-олимся! Многие, конечно, херят это дело, так ведь олухи нигде не нужны, локти потом искусаешь. Свободная минутка выдастся – что делать? С чтива рвать тянет, брехня на брехне. Телик врубишь – или воспитание какое, или дурак с микрофоном прыгает, дурацкими шутками дураков веселит. Молодежная программа… Девку закуканить хоть приятно…
Если бы я так трепался, подумал Дима, а мой собеседник все время молчал, я не смог бы говорить. Как это он ухитряется не думать о том, интересно мне или нет? Он уверен, что интересно. Уверен, что я думаю так же…
– Порево, конечно, тоже поперек горла. Все они одинаковые…
– Ты философ, – сказал Дима.
– Да, – согласился напарник. – Задумаешься иногда – японский бог! Нет жизни! В техникуме пашешь, ждешь, когда учеба кончится. На сейнере будешь пахать, ждать, когда рейс кончится. Так и сдохнешь в зале ожидания! – он в сердцах ткнул окурок в стену. Огонек погас. – А ты кем будешь?
– Бог знает…
– Бог, бог, – проворчал напарник. – Афиши малевать за семьдесят колов?
– Может быть.
– Тоже в лямке…
Мутно-оранжевые, ласково отблескивающие капли с дрожащего жала падали и падали, и беззвучно уносились вниз, пропадая во мгле, и внизу люди задыхались, сходили с ума и умирали в конвульсиях, давясь воплем и рвотой, раздирая себе грудь ногтями среди иссушенных пожарами руин… Противогазов сегодня не будет. А когда? Прекратите это, кто-нибудь!
Заскрежетал ключ. Упал люк. Дневной свет и чистый воздух, ослепляя, ворвались в карцер.
– Живы? – спросил бригадир снизу.
– Слегка, – ответил напарник, принявший при свете человечье обличье, с лицом, руками и галстуком.
– Выползайте. Мыло, полотенце – у проводника…
Дима выполз вторым. Ноги и спина одеревенели, и он с трудом принялся разминаться, а напарник тем временем уже приволок туалетные принадлежности. Он шел и улыбался, топорща пух на верхней губе.
– Во как быстро! – возгласил он, с грохотом закрывая дверь в вагон. – Я думал, хуже будет.
– Я тоже, – ответил Дима. – Как галстук? Не заговнял?
– Ажур, – напарник склонился над раковиной. – А ты ничего… у-х. Какая вода хорошая!.. Я думал, маляры все педики и снобы. А с тобой я бы выпил.
– Ну, я рад, что тебе понравился, – сказал Дима.
Напарник, оттопырив мальчишеский зад и согнувшись, подозрительно поднял на него лицо. С лица капало. Выпрямился и стал бурно вытираться.
– Расчески нет, маляр? – спросил он из полотенца.
– Отродясь не было, – ответил Дима и тоже начал умываться.
Вернувшись в вагон, он еще от двери увидел затылок напарника над спинкой кресла. Рядом с затылком светилась великолепная копна пшеничного цвета волос, чистых и ухоженных, как золотое руно. Дима замедлил шаги, а проходя мимо, хлопнул напарника по плечу, и тот подскочил.
– Приятного путешествия, коллега, – сказал Дима, глядя в лицо обладательнице копны. И пошел дальше, посвистывая.
Старушка опять не обратила на Диму внимания, была углублена в книгу на французском, с цветных вкладок которой сияли купола русских церквей. Отвращение пекло нутро, хотелось бить стекла. Перед глазами еще стояло видение чистого, нежного лица, неярких губ, невинного, ясного взгляда. Напарник что-то бубнил, нависая над ее плечиком, а она отодвигалась, отворачивалась, смотрела в окно… Такие лица Дима видел доселе лишь во сне. Такое не нарисовать, не сфотографировать, такое можно лишь чувствовать – до сладкой боли в замирающем сердце. Рядом с напарником сидела чудесная, добрая девочка. Мысль о том, что напарник сейчас мучает ее, была невыносима. Дима оглянулся. Из-за кресла были видны лишь напарникова макушка и золотой купол сродни книжному. Но без креста. И живой. Он мог венчать лишь маленькую уютную церковь, белокаменную, стройную, взмывшую в осеннюю яркую синь и застывшую, едва касаясь травянистого пригорка на берегу прозрачной прохладной реки, медленно несущей бронзовые палые листья; застывшую, не успев оторваться и поплыть в поднебесье, скользя меж пушистых облаков… Обитель Бога.
Дима решительно нырнул в портфель и вытащил «Астрономию ХХ века» Струве. Он мало что в ней понимал, но иногда приятно было полистать – посмотреть фотографии, посмаковать названия… Приобщаться к настоящему. «Шаровые скопления в районе Стрельца, сняты трехдюймовой камерой Росс-Тессар на Бойденской станции Гарвардской обсерватории», «Модель Вселенной по Каптейну». Дима обернулся, будто его кольнули. Золотая копна была одна.
Он встал, чувствуя, что стремительно потеет. Ноги стали мягкими, но он все же пошел, придерживаясь за спинки кресел то одной рукой, то другой.
Она увидела его и, поджав губы, опять отвернулась к окну. Он был для нее коллегой напарника. Дима нагнулся к ней.
– Сосед не слишком вас утомил?
Она не отвечала, будто обращались не к ней.
– Я к тому, – пояснил Дима, – что вы могли бы пересесть на мое место. Я и в тамбуре прекрасно доеду. Хотите, помогу перетащиться?
Она повернулась к нему, быстро розовея.
– Я… Куда, вы говорите?
– Вон там, – Дима улыбнулся так ласково, как только мог. – Рядом с бабулькой.
– А почему вы решили, что он меня утомил?
– Мне пришлось просидеть с ним полчаса, и я устал. Думаю, что вы устали еще больше.
– Да… то есть… Спасибо. Ой, нет, я сама перенесу. Чемодан легкий. А вы точно… в тамбуре вам не будет неудобно?
– Да нет, там очень уютно, – Дима опять улыбнулся. – Поехали?
– Нет-нет. Я сама.
Дима сел на откидной стул, шлепнул портфель рядом. Не блеск, конечно, ну да не на века. Душа его пела. Он искупил вчерашнюю вину перед Нею. Горечь растаяла мгновенно и без следа. Мир сиял, точно волосы той, что он спас. Он беззвучно засмеялся, встал и осторожно заглянул в вагон. Напарник сидел на своем месте и что-то жевал, растерянно озираясь. Так он в буфет бегал, подумал Дима. А буфет есть или нет? Я бы тоже сбегал, подумал он. Златовласка смотрела в окно мимо читающей старушки. Дима прислонился к стене, достал блокнот, карандаш и широко, небрежно чиркая, стал делать Златовласкино лицо. Не получалось. Проступали по отдельности то глаза, то губы, да и поезд трепетал на лету, хотя бы десять минут постоял… Постоял? Да я же спешу к Ней! Но нарисовать бы…
Мир отлетел, цепляясь за взгляд то изгибом ослепительной речки, проплавившей путь среди зеленых холмов, то бархатным склоном оврага, то ранним костром клена, полыхнувшим вдруг среди летних еще берез. Не цеплялось. Все пропадало, утопало бесследно во мгле позади.
Дима успел выяснить, что Рессел рассмотрел также несколько альтернативных эволюционных треков на диаграмме Герцшпрунга-Рессела, что поляризованный свет Крабовидной туманности представляет собой синхронное излучение, а также еще несколько столь же неважных, но почему-то интересных и, как бы это сказать, несуетных вещей. Потом дверь в вагон мягко отворилась. Дима поднял голову. Златовласка обворожительно розовела.
– А я и не думала, что здесь есть, где сидеть, – объявила она.
– Есть, – ответил Дима. Сердце билось как-то чаще.
– Я решила, что вы могли заскучать. А что вы читаете?
– Да так, – Дима смутился. – Листаю, время убиваю…
Он попытался спрятать книгу, но она уже заметила название и очевидно восхитилась.
– Как интересно! Вы астроном?
– Да нет, что вы! – Дима даже покраснел. – Маляр. То есть, учусь на маляра.
– Кто? – не поняла.
– Ну… то есть, художник… – А какой я, к бесу, художник, подумал он. – То есть, учусь на художника… – А разве можно научиться быть художником? Тьфу, черт!
Совсем с ума сошел! Двух слов связать не могу. Что это я так разволновался? А потому что она мне нравится. Да что же это я, развратник, что ли? Развратник-девственник. Златовласка была такая чистенькая, такая ладненькая, что до одури хотелось ее коснуться. Но так, поодаль, было тоже хорошо – любоваться можно. Дима еще в школе понял, что, стоя рядом или, тем более, целуясь, страшно много теряешь – ничего не видно, только лицо или даже только часть лица. Обидно, и выхода никакого. Ведь это должно быть невероятно красиво, завораживающе, как северное сияние – видеть со стороны девушку, которую сейчас вот целуешь и чувствуешь. Либо чувствовать, либо видеть. Принцип неопределенности. Гейзенберг чертов. Про штучки с зеркалами Дима понятия не имел – на Евиной лестнице не было зеркал, только вонючие бачки для пищевых отходов. Но, вероятно, и зеркала бы ему не подошли. Он предпочел бы спокойно сидеть поодаль, глядя на себя и свою девушку – и, скорее всего, с карандашом и блокнотом в руках.
Златовласка прикрыла дверь в вагон. Ее движения были застенчивы и вкрадчивы.
– А почему без бороды? – спросила она.
– А почему с бородой?
– Я думала, все художники с бородами.
– Да нет, – он встал, придерживая рвущееся к стене сиденье. – Садитесь.
– Ой, нет, я насиделась, спасибо!
Сиденье с лязгом ударило в стену.







