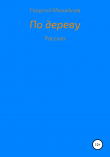Текст книги "Мастер по дереву"
Автор книги: Вячеслав Дедовский
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
ВЯЧЕСЛАВ ДЕДОВСКИЙ.
МАСТЕР ПО ДЕРЕВУ
Срубленное дерево, если его использовать на доброе дело, не умирает, а обретает новую жизнь. Дома или беседки, пустячной поделки для утешения души, мебели, даже двери или половицы. Погибает оно, только став никому не нужным, выброшенным на свалку или обочину, где сгнивает и становится гнездом для гнуса, личинок, зловредных микроорганизмов.
Лучше вывезти списанную или сломанную вещь на дачу, за город, где сжечь – в печи, камине, в веселом, обдуваемом ветерками костерке.
Аутодафе – самая достойная кончина для дерева. Тогда оно превращается в золу, удобряет землю и через годы снова возродится – сначала травой, кустарниками, потом порослью, что со временем вновь станет могучими стволами.
Или дымом поднимется к небесам, чтобы начать путешествие по миру, которое может завершиться где угодно далеко – над пустынями Сахары или Австралии, в тропических джунглях, даже над ледяной Антарктидой.
А пока дерево служит людям, оно и само не умирает. И сохраняет жизнь или, по крайней мере, ее подобие в продымленных, загазованных, переполненных синтетикой мегаполисах.
Это одна из ниточек, связывающих городских обитателей с природой.
Не только придавленные окислами азота, автомобильными выхлопами зеленые насаждения вдоль дорог, зажатые громадами домов скверики и парки, но цветы на подоконниках и даже изделия из натуральной древесины, что находятся в квартирах и конторах, не позволяют Хомо сапиенс окончательно превратиться в Хомо техникус.
И умереть. Потому что растение, оторванное от своих корней, погибает.
А человек – плоть от плоти Земли. И земли. Эти слова одинаковы неспроста.
***
Шишок был плотником. Когда надо, столяром. Если требуется, краснодеревщиком. И даже мастером сельского домостроения. Есть такие специальности.
Кличка подходила ему, как черенок – лопате, штакетина – забору, ножки – табурету.
Шишок был ростом мал, метра полтора, не кряжист, статью походил на подростка. Всегда носил разлапистую, словно у Льва Толстого, неухоженную и закрывающую лицо до самых глаз бороду с проблесками седины, кучерявую, как мох в тундре. На голове у него тоже творилось черт те что, но об этом можно было только догадываться: зеленую бейсболку с надписью «Лесоэкспорт», из-под которой в разные стороны, словно у Незнайки, торчали рыжие, цветом в осеннюю листву патлы, он не снимал никогда. От ранней весны до поздней осени.
Зимой он не появлялся. Заказчикам объяснял, что уходит в тайгу, тропить соболя, лисицу да белку. Может, так оно и было.
Только заказов на шкурки животных охотник не принимал, сколько бы денег ему ни сулили.
– А кто знает, как оно сложится? Прообещаюсь, а ничего не добуду... – отнекивался, мямлил дождливо-снежным ноябрем.
– Ну, так неудачно сходил. Зверь словно вымер. Довели природу до всеобщего запустения! – объяснялся снежно-дождливым мартом.
Зато специалистом по дереву был от Бога. Сделанные им вещи радовали не только глаз, но и душу, улучшали настроение и даже здоровье.
– Это настоящий фэншуй! – поражали мастера незнакомым словечком заказчики.
Он не возражал. Фэн так фэн. Пусть даже шуй и даже кое-что позабористее, лишь бы с ним по-честному расплачивались.
Тем более что просил недорого, авансов не брал, письменных договоров не заключал, полагаясь на нерушимость данного обязательства, сказанного слова.
Потому его уже неоднократно бессовестные люди «кидали».
Но Шишок все равно, будто от гнезда с разъяренными лесными пчелами, пятился, когда ему предлагали закрепить соглашение как положено, законным образом, на бумаге.
– Ну, если так не хотите, по-моему, тогда и вообще не надо, – бурчал в бороду, с отвращением и даже неким страхом смотрел на словно выеденные личинками короеда строчки на листах, пятился к порогу, поворачивался, собирался уходить. Мастера, имевшего блестящие рекомендации, возвращали, шли на его условия, полагая, что человек просто не хочет оставлять следов, чтобы потом его налоговая инспекция не накрыла. Или, может, проблема с документами.
Что, скорее всего, и было, потому как ни имени, ни фамилии его никто не знал. Шишок и Шишок. Именно так он всегда представлялся. При этом, уставясь в пол, застенчиво рисовал носком ноги полукруги – мол, ну вот так как-то вышло, конечно, стыдно в его возрасте, но чего теперь менять, все равно уже смысла нет. Не стоит, да и не хочется.
***
Славно греться под мягким осенним солнышком. Это в июне да августе оно палит почти нестерпимым зноем, калит воздух, выжигает почву до мелкой сухой пыли. Если летом светило свирепо, как любовь ревнивой, боящейся измены да одиночества женщины, то в октябре солнце нежное, будто забота много видевшей и уставшей от эмоций и житейских бурь бабушки.
Шишок устроился во дворе на скамеечке, что квадратом расположились вокруг песочницы с разрисованным в ромашки навесом-грибком. Напротив него угнездились две сухонькие старушки, из окрестных жительниц. Некоторое время жалостливо рассматривали Шишка, собираясь попенять и, как водится у русских женщин, одновременно пожалеть – мол, до чего себя довел мужчина, а ведь собственная судьба только в его руках: возьмись за ум, брось пить и все наладится.
Но потом пришли к выводу, что дедок одет хоть бедно, но опрятно, борода пусть клокаста, зато волосы мыты и чисты. И под рукой аккуратный деревянный ящик, видимо, не с пожитками, а с каким нужным в деле инструментом. То есть мужичок по нашим временам вполне справный. Жаль только, что ростом мелок, да, видно, не местный, деревенский.
Потому не интересен.
Заговорили, зашушукали старушки друг с дружкой о своем, что больше всего заботило – повышении пенсий, которое и не повышение, а так, издевательство одно, всего полторы сотни рублей; ценах, что ТАМ снижаются, а у нас растут; болезнях детей и внуков, своих хворях.
– А Нина-то Ивановна, – горестно выдохнула та из подружек, что была пощуплее и походила на зловредную Шапокляк из мультфильма про Чебурашку, – совсем плоха стала. И падчерица бесстыжая ее забросила. Раньше хоть раз в неделю заглядывала, а теперь уже месяц носа не кажет. У меня там, в деревне, у сватьи дом недалеко, вчерась приезжала, рассказывала. Она иногда к Ивановне заходит и просто не знает, что делать. И помыть полы надо, и еды какой прикупить, а сватье самой под семьдесят, какая из нее помощница? И самое главное, дрова на зиму сейчас нужны, а на что купить? Пенсия-то всего три тысячи! А их же еще пилить надо. Колоть.
– Приютила змеюку, – запричитала соседка с бородавкой на носу. – Вот оно что значит чужая кровь! Взяла соплюху из приюта, будто к родной относилась, а та как выросла, так мужика в дом привела! Мать свою, что ее из детдома вытащила, пусть не рожала, но выкормила, вырастила, взяла да и на выселки спровадила! В глушь, на смерть одинокую!
– Какая там глушь, что городишь-то, – обиделась за сватью Шапокляк. – Поселок как поселок. Пусть и далековато от нас. Только домик-то там, у Ивановны, совсем плохонький. Сватья говорит, замерзнет она. Если ей Верка дров не купит, то зиму точно не переживет.
Старушки замолчали, горестно качая головами. В добрые помыслы Верки они явно не верили.
– Может, пожаловаться куда? – задумчиво сказала Шапокляк. – Письмо там написать. Чтобы их пристыдили. Или через суд алименты какие.
– Ты что! Ейный мужик тебе пожалуется! Фантомас лысый, что для него суд! Шрам во весь череп, не добили его вовремя где-то! Как знак эсэсовский. И сам фашист. Этот... скинхед, и дружки такие же.
– Моя внучка говорит, шрам на молнию похож. Как у этого... Гарри Поттера.
– Вот и будет тебе Поттер, – увесисто сказала Бородавка. – Узнает Веркин бандит, что против него замышляешь, пристукнет, и никто тебя не найдет, даже похоронить будет некого. Ты в это дело лучше не суйся. Не советские времена, когда участковый во всем квартале порядок держал. Я вот, есть грех, на своих иногда волоку, а как вспомню Нинкину Верку, так понимаю, насколько мне повезло.
– Да уж, – согласилась Шапокляк. Подружки склонились, словно прислонились друг к другу. По-бабьи оперлись скулами о ладошки. Пригорюнились по своей, никому не нужной доле.
Сидели на скамеечке женщины, чье детство пришлось на великую и безжалостную Отечественную войну, юность – на голодные пятидесятые, зрелые годы – на несущие надежду шестидесятые.
Успевшие пожить в относительном достатке последних лет СССР, а теперь оставшиеся с нищенской пенсией и в тесных квартирах, обуза для родных и ставшего чужим государства.
Потребные только друг дружке, а больше никому в этом мире...
***
– Антресоль сладили ничего, вполне, – одобрил Пётр давно задуманную и вот теперь наконец завершенную модернизацию спальни. Денег на новую квартиру не было и не предвиделось, кризис на дворе, а в ипотеку на нынешних условиях идти – совсем разум потерять. Но расшириться хотелось, кому же этого не хочется? А если потолки три с половиной метра, то почему не пойти ввысь?
Вот и надстроил второй уровень на высоте двух с лишним метров, с удобной, пахнущей смолистым сосновым бором лесенкой наверх. Теперь осталось туда переместить диван, телевизор с причиндалами в виде ДВД, домашнего кинотеатра, музыкальный центр.
А внизу останется зона для посиделок с компаньонами и нужными людьми. Мягкие, удобные диванчики вдоль стен, между ними невысокий, но обширный стол-дастархан для напитков и заедков. Ну, и работы с документами, конечно. Ведь где одно, там и сразу другое, зачем к себе пустячных людей зазывать, что только пить да веселиться за твой счет умеют, а толку от них никакого?
Пётр отхлебнул из фарфоровой кружки разбавленный на четверть коньяком кофе. Куснул шоколадку. Погладил бритую голову со шрамом, оставшимся как память от разборок лихих девяностых. Глянул через стол на супругу, осторожно причесывающую жженные до неестественно белого цвета волосы.
– Знаешь, Вера, что я думаю? Двадцать штук этому недомерку много будет. Десятку в зубы, и свободен. Если он от налоговой бегает, это его риски, его проблемы. В следующий раз умнее будет, договор, как надо, станет заключать. А десять штук нам останется, это по справедливости за науку ему. Она тоже кое-чего стоит. Мы его проучим, так в следующий раз он на большую сумму не пролетит. Если по-честному, то так и надо сделать.
Ухмыльнулся.
– К тому же ловкачей надо наказывать. Мы же теперь почти все налоги платим. А он что, бархатный, что ли?
– А люди что скажут? – жена напряглась. Денег было жалко. Их всегда не хватает. Но плохая слава тоже ни к чему.
– А что люди? – улыбнулся Пётр. – Вышел я на него через Михалыча. Так тот теперь, по слухам, аж в Аргентине от суда да кредиторов скрывается. Если жив еще. Других знакомых у нас нет. Опять же, его слово против моего. Скажу, что все получил, деньги пропил, а теперь на меня валит. Кому поверят? А не поверят, так и фиг с ним. – Уверенно заключил: – Да не будет никто из-за него со мной разбираться!
– Так, может, вообще ничего не давать? – осторожно предложила Вера.
– Это вообще беспредел будет! – наигранно удивился Пётр. Не преминул укорить супругу: – Не ждал я от тебя такого. Всяко разно, два дня он у нас копался. И быстро все поставил. Шустрый недомерок. Я у народа спрашивал, говорят, работы здесь на неделю было. А он один за пару суток справился.
Осторожно погладил зазудевший шрам. И все же частично согласился с супругой:
– Конечно, десятки за два дня такому тоже много. Ну, от него зависит, не согласится, будет фордыбачить, ничего не получит. Я тут прокачал – путных заступников у него нет. Вот Рыжему Аре он, говорят, коттеджик отделал. Это фигура серьезная, да. Для него повод на кого наехать и по этому делу бабки срубить – в радость. Но уже год как куда-то вместе с женой пропал. С концами. Может, еще кто из бывших клиентов есть? Ну так пускай выходят, поговорим. Заплатить-то мы всегда успеем. Если что.
На том и порешили.
***
Тоскливо просыпаться одной в выстывшей горнице чужого необустроенного, необжитого дома.
Пусть пока не серебрит к рассвету иней траву и до первого снега еще с полмесяца, но ночи-то уже зябкие, холодные.
Заброшенная прежними хозяевами, – рассохшаяся, построенная еще при Сталине, давно не конопаченная изба со старой, заделанной в прорехах ржавыми листами крышей не держит тепло, и если дышать не под одеяло, понемногу грея тем самым себя, а в комнату, то видимый парок струится изо рта, тянется к потолку.
Это означает, что температура упала уже градусов до десяти, а то и ниже.
В деревне жить не то что в городе. Климат прохладнее и подключенных к теплоцентралям батарей нет. С утра надо протапливать печку, и не только для того, чтобы согревать жилище.
Не то что холодильником или микроволновкой, но даже простенькой электроплиткой Вера свою приемную маму не обеспечила. Значит, если не разжечь огонь, то даже чайник не вскипятить.
Но как трудно вытащить себя из теплой постели в стылую комнату! Даже просто выбраться из-под давящего, как кладбищенская земля, груза покрывал! К вечеру Нина не только куталась в две-три кофточки, но наваливала на старенькое одеяло все, чем можно было укрыться. И вещи, что дочка привезла за полдесятка визитов – купленные еще в советские времена осеннее пальтишко и шубу, болоньевый плащ, халаты и даже оставшиеся от прежних хозяев драные простыни.
Чтобы не мерзнуть ночью, зарывала себя, словно в могилу. Если ночью хотелось в туалет, терпела до утра, спасая скаредно, каждым выдохом внутрь накопленное тепло.
Но с рассветом все равно вставать придется. Если в августе комната хотя бы к обеду от внешнего тепла прогревалась, то сейчас на такое даже не стоило рассчитывать.
Уже мечтала Нина Ивановна о том, чтобы однажды не проснуться. Перестать тянуть тягостное, бессмысленное, никому не нужное существование. Избавиться от бередящих сердце воспоминаний. Это только когда жить хорошо, то больше помнишь как раз лучшие моменты жизни. Теперь же каждое пробуждение приносило одни телесные муки и душевную боль.
И никакого просвета не предвиделось. Наоборот, с каждым днем становилось все хуже. Холоднее на дворе, смурнее в душе. Все больше крутил кости остеохондроз, вздувал вены на ногах варикоз, терзал горло ларингит – профессиональные болезни учителей. Всякое утро начиналось с боли. Не только телесной.
Потому смерти Нина Ивановна уже давно не боялась. Верила, что ТАМ должно быть лучше. Даже если за могильной гранью ничего нет, все равно это легче, чем неизбывное каждодневное страдание.
Еще в городе молила Бога, чтобы он дал успокоение и упокоение, освободил ее и дочку от их тягостного совместного проживания. Не так, как оно случилось, а чтобы насовсем, окончательно.
Здесь же, в маленьком, разделенном тонкой перегородкой на две половины – кухня да спальня – домике, более ничего, как побыстрее умереть, Нине Ивановне и не оставалось.
***
Шишок на секунду замер, рассматривая стальную дверь. К железу он был равнодушен.
Вот дерево – это другое дело. Послушное, откликающееся на умелые движения, отвечающее на заботу встречным теплом, на обиду – холодным неповиновением. Даже обучаемое и воспитываемое, если с ним правильно работать. Находящееся на перепутье между миром живых и мертвых. Как сердца многих людей, которые вроде еще существуют, и в глазах иногда, пусть все реже и реже, мелькает бескорыстный интерес и участие, но души их уже понемногу деревенеют. Еще чуть, и схватятся стальной ржавой пленкой, после чего спасти человека уже невозможно.
Металл мертв изначально. Хотя и без него кое-где и кое в чем не сладить.
У ног Шишка, на плитке, стремящейся прикинуться мраморной, увесисто стоял деревянный ящик. С очень непростыми инструментами.
Мастер наизусть знал вид и характер каждой вещи.
Вреднючая стамеска с изогнутым профилем, что нужно учитывать, чтобы не скособочить работу.
Молоток, уже вполне «правильный». Раньше старался попасть мимо, а то даже и по пальцам, теперь так не делает.
Зубило с выщерблиной на ударной части, которую постоянно приходилось рихтовать.
Топорик с норовящим выскользнуть и прислониться то к молотку, то к зубилу черным топорищем. Причем происходило это, только пока Шишок не видел, в «транспортном» положении. Сам топор был неожиданного цвета, с красными проблесками по рыжему металлу, и к нему претензий уже не имелось. Его взаимоотношения с топорищем мастеру не нравились, но данную проблему можно было считать их внутренним делом, благо в работе это уже не мешало.
Топору, в свою очередь, симпатизировала ручная дрель, норовящая «уйти» налево от рубанка. Этот плотницкий причиндал Шишок теперь считал вполне благополучным и потому раздумывал о замене его новым.
Много чего имелось в ящике мастера. На вид нормальных, но по сути очень необычных вещиц.
***
Прозрачная вода плескалась о сосновые бревна, отмачивала и уносила в сторону красно-коричневую кору, и теперь словно маленькие кораблики сопровождали плот. Много их плыло по большой сибирской реке на север, к тундре, вечной мерзлоте, каменистым гольцам от таежных заимок и отвоеванных у бескрайнего леса полей, где косить да собирать урожай уже пришлым людям.
Ссылали целыми семьями раскулаченных чалдонов. А в их крепкие пятистенки, ухоженные многими поколениями подворья вселяли, в свою очередь, высланных из Прибалтики латышей, литву, эстонцев.
На сборы давали полчаса, взять разрешали не больше, чем можно унести в руках, охотничье, а у кого и боевое, оставшееся с гражданской, оружие изымали сразу же.
Отвозили к ближнему берегу, где сами же переселенцы ладили плоты, и отправляли вниз по течению, со строгим предупреждением – зазимуете раньше конечного пункта, расстреляют всех нарушителей.
Ранним летом в тайге без ружья добычу не взять. Разве что капканы ставить, но для этого надо остановиться на одном месте, а по реке туда-сюда ходит катер с энкавэдэшниками, вдоль берегов дозоры, от которых не укрыться. Контролируют сплав со всех сторон, два раза на одной стоянке приловят, побьют, а то и хуже – еще кого из взрослых заберут. Рисковать нельзя.
Некоторые из ерепенистых да жизнью не битых мужиков пытались возмутиться, так их сразу в приклады, в железо, в сторону увели, и как сгинули. И потому ряд семей без отцов да старших братьев тяжкую, неизвестно за что наложенную кару тянет.
Этим, что остались без крепких плеч да умелых рук, хуже всего.
Остается только редкую да осторожную рыбу ловить, по утру да вечером, на остановках, собирать головки подснежников, другую съедобную зелень, копать коренья.
Воздух в Сибири прозрачный, по воде стылый до того, что обжигает горло. И нависают над рекой и людьми сопки с тайгой, величественной, могучей и равнодушной, как далекая власть...
Спряталась исхудавшая за неделю сплава до того, что можно и на просвет смотреть, семилетняя Нина за спину матери. Рядом с ней дрожит Сашка, ему вообще четыре.
А перед ними кормильцы семьи. Пятнадцатилетний Паша и Виктор, на два года моложе. Средние, Лена и Настя, в стороне. Рады, что речь не о них пока идет.
– Не доберемся мы все! – орет на мать Паша.
При бате бы он так попробовал! Но нет отца, и неизвестно, где он. Может, за решеткой. А может, и вообще уже в сырой земле лежит – за сопротивление властям.
– Жрать-то нечего! Рыбы в реке совсем нет. Чем дальше на север, тем лес нищее! А нам еще полмесяца плыть!
– Не кричи, сынок... – Хватается за сердце мама. Уговаривает: – Надо всем вместе держаться. Мы же семья.
– Мама, так мы все умрем. Работаем-то только мы с Витей, – сквозь зубы цедит брат. Крутит головой, прячет глаза, видно, что ему не по себе. – Да ты. От других никакого толку. Давай на следующей стоянке хотя бы младших, Нинку с Сашей оставим. Их конвой не обидит, они же маленькие. Куда в детдом определят, им так самим лучше, чем с нами там, на Севере. Тогда хоть остальные спасутся.
– Я никого не оставлю, – шепчет мама. Прибирает, как наседка цыплят, под себя младших. – Никого. Или все доплывем. Или умрем. Все вместе...
Ошиблась мама. Саша от голода, холода, неустроенности заболел и сгорел простудой, изошел кашлем за несколько дней. Как лечить ребенка на плоту, если от голода всех шатает, небогатую одежку не высушить и отставать от других нельзя?
Но даже тело ребенка мама не бросила. Довезли до места ссылки, там и похоронили.
А старшие пошли горбатиться в артели золотодобывающие да рыбачьи. То ли замаливали свою вину, то ли ответственность так въелась в плоть малолетних сибирских мужичков, но подняли они сестренок, а Нину вообще, единственную в семье, выучили до высшего образования.
Сначала педучилище, потом институт. Десятилетия преподавала биологию. Вышла замуж за ссыльного украинца из-под Чернигова, родила. Вырастили славного задиристого мальчишку. Пережили, перегоревали смерть сына в Афганистане. Через полгода не выдержало сердце у мужа.
Чтобы не остаться на старости лет одной, взяла из детдома девочку. Тянула из последних жил, все ей отдавала. Но грянули девяностые, накопления сгорели.
Пенсию назначили не сравнимую с советскими временами, такую, что только нищенствовать.
А падчерице, которой хотелось обеспеченной жизни, со временем приемная мать стала помехой.
И вот на старости лет приходится умирать в чужом доме...
На деревню обрушился проливной осенний дождь, стучал в стекла, барабанил по гнилой, разваливающейся крыше. По стенке потекла струйка воды. Еще одна.
Сосна под окнами багровела устремленным в хмурое небо стволом и пахла так же остро и больно, как плоты из детства...
***
Шишок протянул короткий, с темной и узловатой, как кора, кожей палец к кнопке звонка. Послушал доносящийся, словно издалека, проигрыш мелодии. Еще раз. И еще.
Открылась внутренняя, деревянная дверь. Гостя долгое время внимательно рассматривали, а он смирно и стойко терпел на коврике.
Наконец скрежетнул засов. Туша хозяина выкатилась к порогу, нависла над мастером.
– Ну! – рыкнул лысый детина, будто не узнавая. – Чего надо?
– Так работу посмотреть, – робко выдохнул Шишок. – Там не провисло, не просело что? Поправить...
– Да там уже делать нечего, – хмыкнул хозяин. – После того как ты мне все запорол, уже ничего не исправить. Одних материалов на две штуки баксов было! Кто мне их теперь вернет? Ты, что ли?!
– Быть того не может, – обмер Шишок. – Давайте гляну...
Шагнул вперед. Уперся в широкую, со штыковую лопату, ладонь.
– Э, нет. Теперь я тебя к себе не пущу. Хватит. Набедокурил.
Постояли, рассматривая друг друга. Пётр – насмешливо, мастер – непонимающе.
– Ну дак, – помялся, переступая с ноги на ногу, Шишок. – И что теперь делать?
– Что делать? Я не знаю, что делать. На тяп-ляп, кое-как мне антресоль срубил, а теперь еще спрашиваешь?
– Ну, если что, я ведь поправлю, – успокоился и догадливо из-под кустистых бровей глянул на заказчика мастер. – Давай посмотрю, и разберемся.
– Уже не надо! – помахал перед его носом указательным пальцем Пётр. – Теперь других звать придется, после тебя все переделывать. – Резюмировал: – В общем так, за испорченный материал я с тебя возьму...
Он окинул гостя взглядом от бейсболки до странной, похожей на лапти обувки. Разочарованно покачал головой:
– Ну, пять тысяч рублей. – Добавил страшную для мастера угрозу: – А в залог пока возьму твои инструменты. Хоть они таких денег не стоят.
Впрочем, рук к ящику протягивать не стал. Стоял горой над Шишком. Ждал: то ли возмущения, то ли бегства. Но явно не того, что последовало...
***
Лёха был хорошим ментом. «Правильным». Такие тоже встречаются. «Еще» или «уже» – трудно сказать, это только время покажет. Вверенный участок он изучил пока не всесторонне, но про дважды судимого Петра Шашкова был в курсе, пока с расстояния, но внимательно к нему присматривался.
Про выселенную бывшую хозяйку тоже знал, собирался в это дело вмешаться, хотя не понимал, как к проблеме законным порядком подойти. Чтобы решить ее на правовой основе, позитивно и без дальнейших серьезных проблем для Нины Ивановны.
Во дворик заходил постоянно. Общался с пенсионерками на скамеечках. Соседями. Собирал информацию. Обдумывал ее.
Заодно гонял бомжей. Нечего им делать, справедливо считал участковый, на подведомственной территории. У них там вши, чесотка, туберкулез, неизвестно какие болезни. А тут дети играют.
В этот визит Алексей все же решился навестить Веру с супругом. Для начала просто поговорить с ними. Присмотреться. Может, удастся пристыдить и все обойдется без излишних движений?
По-разному в жизни бывает.
Даже так, как оно на этот раз произошло.
Неожиданно для всех участников истории.
Кроме Шишка, конечно. Который в этот самый момент тоже вспомнил Нину Ивановну.
***
– Маму, значит, то есть тещу в ссылку умирать отправил? – неожиданно и без всякой связи с прежним разговором обвинил Петра стоящий перед ним, а если учитывать разницу в росте, то под ним, недомерок.
– Чего? – возмутился тот наглости плотника. – А я ведь тебе денег еще хотел дать! Ну, если так, то пошел на хрен!
Собираясь пихнуть нежеланного и вдобавок нахального гостя в лоб, спустить с лестницы, протянул толстую лапищу.
Но осекся, замер, наткнувшись на прямой, туманящий голову и лишающий воли взгляд.
С кухни подлетела жена.
– Да гони его! – взвизгнула, по бабьей дурости попыталась закрыть внутреннюю, деревянную дверь. Но та не поддалась, словно схваченная сваркой в петлях.
Вера впилась красными от возмущения и злобы глазами на лезущего не в свои дела наглеца.
И тоже замерла, вцепившись в створку будто приклеившимися к ней ладонями.
– Пока мне были не должны, не было у меня над вами воли! – торжественно и страшно провозгласил Шишок, и все деревянные вещи в доме словно зашевелились, заскрипели на разные голоса. – А теперь будете отрабатывать долг, пока не погасите. Или не изменитесь настолько, что решу я вас отпустить.
Засмеялся ухающим, словно филин в ночном лесу, смехом. Стал увеличиваться в размерах – вместе с проемом двери, в которой стоял.
Пол приблизился к потерявшим голос, волю, возможность говорить, возмущаться супругам. Встал на дыбы. Ударил в лица Веру и Петра так, что вышиб из них сознание...
***
Греющегося на скамеечке мужичка участковый засек сразу, как вошел под арку.
Подозрительно волосат. Одет бедно, но опрятно. У ног деревянный ящик с ручкой. На бомжа, несмотря на очень несовременный вид, не похож. Шло от незнакомца впечатление такой чистоты, даже, показалось, запаха тайги, где дедок смотрелся бы гораздо органичнее, что Лёха сразу понял – это не бродяга. Во всяком случае, не привычный, опустившийся, пропитый да вонючий «городской».
Внимательно рассматривал мужичок связку ключей, которых у такого человека быть просто не могло. Длинный желтый штырь, скорее всего, от гаража. Блеснул солнечным зайчиком диск от магнитного замка. А вот тот, с фирменным брелоком, явно от «БМВ». Точно видел уже этот набор участковый. В руках у Петра, когда он подходил к подъезду, а Алексей на той же скамейке общался «за жизнь» с местными пенсионерками.
Зыркнул тогда недобрым взглядом лысый громила на участкового. Но ничего говорить или делать не стал. Только прищурившись, так посмотрел на старушек, что те зашипели гусынями, впрочем, отворачиваясь, чтобы сосед их реакции не видел...
Продолжал идти Алексей вроде бы вдоль дома, но постепенно сокращая расстояние до непонятного гражданина. Намеревался потом резко, под прямым углом, свернуть и пообщаться с незнакомцем. Проверить документы, а если их нет или разговор вызовет подозрение, то вот он, хороший повод навестить «подопечную» семейку. Спросить – не ваши ли ключики? А там слово за слово и о прежней хозяйке, Нине Ивановне, справиться. Жива ли, где теперь, когда по месту прописки собирается вернуться?
Намекнуть, что нынче не девяностые, так просто люди пропадать не могут. Найдется в таких случаях кому и вопрос задать, и ответа потребовать.
Мужичок, словно почувствовав внимание участкового, быстро встал. Бросил ключи в карман, подхватил ящичек и мелкими шажками засеменил от скамейки. Почему-то не ко второму, дальнему выходу из двора и даже не к распахнутым по случаю теплого осеннего денька подъездам, а в глухой угол, где колонной высился изувеченный, обрезанный со всех сторон экзекуторами из городских служб тополь.
– Ну, словно дети, ей-богу, – пробормотал Алексей. Уже не скрывая своих намерений, направился к дереву, за которым пытался спрятаться, очевидно, имеющий основания скрываться от милиции дедок.
Из-за ствола высунулась нога, обутая в нечто непонятное. Похожее на стилизованную под лапти мокасину древесного цвета. Зацепила угол ящика, задвинула его за тополь.
– Так, я лейтенант Сенин, предъявите ваши документы... – начал участковый, обходя дерево. И заткнулся.
В глухом углу было пусто. С двух сторон, катетами, стены. На гипотенузе – тополь и участковый.
Больше никого. Милиционер ошалело вскинул голову. Подумалось, что дедок непонятным образом по гладкому стволу взобрался наверх и теперь сидит на обрубке толстого сука.
Дерево насмешливо прошелестело немногими оставшимися ветвями. К участковому спланировал тополиный лист, нежно погладил его по щеке, будто прошептал: «Забудь, ничего не было...».
Алексей тряхнул головой, приходя в себя.
А что он тут делает? Привиделось что-то. Или задумался и забрел, куда не собирался?
Ладно, пора идти разбираться с выселенной неблагодарными детьми пенсионеркой.
...В квартире Шашковых никто не откликался. Участковый несколько раз прослушал доносящуюся изнутри мелодию из «Бригады». Подождал. Потянул на себя первую, железную дверь. Она поддалась.
Но внутренняя, деревянная была заперта. Алексей еще раз нажал на кнопку. На всякий случай постучал по черному, под кожу, утеплителю.
Из соседней квартиры высунулась старушка с бородавкой на носу.
– Дома они, – наябедничала она. – Только что тут с кем-то ругались. Трех минут не прошло.
– Так ведь не открывают, – пожал плечами Алексей.
– Так вы же в форме, вот и боятся, – по-своему объяснила ситуацию соседка. С надеждой спросила: – А ордер у вас есть?
– Будет! – пообещал то ли себе, то ли старушке, то ли двери участковый.
Решил заглянуть сюда вечером. А если придется, то завтра с утра.
Алексей был парнем упорным. Как говорят про таких людей англичане, с хваткой бульдога.
***
К полудню погода исправилась, разгулялась. Ветер прогнал тучи, просушил воздух и почву. Выглянуло и стало прогревать благодарную землю солнышко,
Нина Ивановна позавтракала холодным чайком с дешевеньким печеньем и карамельками (они практичнее сахара). Выбралась на теплые ступеньки. Присела, рассматривая багрово-желтую рябинку с щедрыми гроздьями ягод, ярко-зеленую, не желающую признавать подступившую осень траву, голубое с редкими белыми облачками небо.