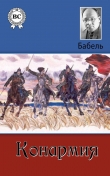Текст книги "Низкий жанр. Рассуждения о писателях"
Автор книги: Вячеслав Пьецух
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Страдания по России
Это, собственно, не вопрос – отчего мы так легко расстаемся с отечественными талантами и так последовательно снабжаем ими Америку и Западную Европу, – поскольку ответ на него слишком уж очевиден: оттого, что талант в России есть сам по себе отрицание политического режима, как правило, жестокого, косного, малокультурного, а главное, антинародного по структуре и существу. Отсюда печальный реестр изгоев, какого не знает ни одна цивилизованная страна; от Курбского до Герцена, от Мечникова до Плеханова, от Куприна до Некрасова и целой культуры русского зарубежья. Особливого слова заслуживает случай Александра Ивановича Куприна.
Вот нынешние писатели живут как-то жидко, по общегражданскому образцу. Они не стреляются из-за филологических разногласий, не волочатся за ослепительными красавицами, которые им по праву принадлежат, не учат власти предержащие уму-разуму и даже не устраивают причудливых кутежей; ну разве что раз в год напьется какой-нибудь «деревенщик» в Дубовом зале – вот и вся фронда кодексу строителя коммунизма. И то сказать: нынешний писатель человек бедный, стесненный семейством, общественной деятельностью, разными страхами, а также огорченный равнодушием современников, которые вряд ли его поймут, если он, скажем, искупает в Москве-реке постового милиционера.
Иное – Александр Иванович Куприн, писатель колоритной натуры и, как следствие, затейливой биографии. По матери он был отпрыском старинного рода татарских мурз Кулунчаков, которые вышли из Казанского ханства еще при Василии Темном, а по отцу, письмоводителю земской больницы, крестьянином Тамбовской губернии, что и предопределило его фамилию: она происходит от тамошней речки Купры. Отца он не помнил за ранней его кончиной, а своим ордынским происхождением гордился с младых ногтей; и действительно, Александр Иванович отличался незначительным ростом, квадратным телосложением крепыша, узким разрезом зеленых, прозрачных глаз и некоторой надменностью в общении с незнакомцами, да еще он не снимал с головы цветастую татарскую тюбетейку.
В семилетнем возрасте Куприн предпринял свой первый опыт в литературе, он написал стихотворение, которое открывалось следующей строфой:
В лучах запестреют цветочки,
И солнышко их осветит,
У деревьев распустятся почки,
И будет прелестный их вид…
С тех пор Куприн возвращался к перу более или менее регулярно. Между тем он окончил кадетский корпус, Александровское юнкерское училище и на двадцатом году жизни был выпущен подпоручиком в 46-й Днепровский пехотный полк. После того как Куприна не допустили до экзаменов в Академию Генерального штаба за то, что он выкупал в Днепре полицейского пристава, он вскоре подал в отставку, и начались его долгие скитания по Руси. Он работал на сталелитейном заводе в Волынцеве, торговал унитазами в Москве, одно время держал «Бюро объявлений, эпитафий, спитчей, острот и пр.», судил французскую борьбу в петербургском цирке «Модерн», выращивал на Юге махорку, репортерствовал где ни попадя, домушничал в Киеве – это, впрочем, из чисто литературных, эмпирических побуждений – в Одессе летал с Иваном Заикиным на биплане, в Балаклаве спускался на дно морское и, говорят, горько жалел о том, что ему не дано побывать беременной женщиной и таким образом познать роды. То есть вон еще когда, с легкой руки Иегудиила Хламиды, распространилось то наивное суеверие, будто писателю следует прежде всего познать жизнь через побродяжничество и, так сказать, разные физические упражнения, в то время как разуму очевидно, что писатель вовсе не тот, кто испробовал сто профессий, и не тот, кто пешком обошел страну, а, в сущности, тот писатель, у кого на плечах волшебная голова.
Надо полагать, не столько из-за буйного нрава, сколько из чувства мести к молодой своей обездоленности, Куприн в благополучные годы много безобразничал, или, лучше сказать, гусарил: хотя у него были и общечеловеческие чудачества, например, он обожал топить печи, он свободно мог нанять кавалькаду извозчиков под шляпу, трость, пальто, перчатки и прочие принадлежности; бывало, он заезжал верхом в фешенебельный ресторан и, не вылезая из седла, выпивал рюмку дворянской водки; однажды он послал в Ливадийский дворец императору телеграмму с просьбой о даровании Балаклаве статуса вольного города, на что Николай II, человек культурный, ответил ему пожеланием плотнее закусывать за столом; во время своих причудливых кутежей он, бывало, выписывал хор певчих из Александро-Невской лавры во главе со знаменитыми басами Здобновым и Ермиловым, обливал горячим кофе корифеев литературы и раз даже обедал на животе у одного замечательного поэта; женившись на Марии Карловне Давыдовой, владелице популярного издания «Мир божий», которая, между прочим, бивала его за пьянство посудой по голове, он образовал филиал редакции в ресторане «Пале-Рояль» и принимал литераторов под французское шампанское, шустовский коньяк и «Староверочку», которую бесконечно исполнял огромный цыганский хор. И что должно быть особенно обидно для пишущей братии наших дней: такая искрометная литературная жизнь совершалась, по сути дела, совсем недавно, в предыдущую художественную эпоху, и еще в начале восьмидесятых годов были живы и Петр Иванович Капитанаки, и Ольга Дмитриевна Ометова, любовница Юры Паратино, рыбака, контрабандиста, башибузука, и до сих пор стоят на месте купринской хижины три старые туи, живые свидетельницы былого, И до чего же привлекательна эта художественная эпоха!
Вопреки фальшивым характеристикам нашего литературоведения, добрые это были для изящной словесности, можно сказать, благословенные времена: бог с ними, с причудливыми кутежами, но ведь тогда работали тысячи изданий и издательств самого разного направления и не было проблемы напечататься даже у графоманов, предварительная цензура после пятого года перестала существовать, корпус классиков отнюдь не власти формировали, писательский труд так высоко оплачивался, что тогдашние гонорары нынче не приснятся даже в ночь с четверга на пятницу, наконец, читающая публика благоговела перед писателем и вполне разделяла точку зрения Гегеля, который считал его «доверенным лицом мирового духа». Но прошло каких-то пятнадцать лет серебряного века русской литературы, и воцарились иные ценности – писатели уступили статус живого бога генералам-от-пролетариата и почему-то быстро смирились с положением социально ненадежной прослойки, которую можно было отблагодарить за труды ордером на галоши и запросто взять в ЧК хотя бы за избыток человеческого достоинства. Те же из поверженных идолов, что не смирились с новой культурной политикой, как известно, образовали вторую волну литературно-политической эмиграции – на этой волне оставил отечество и Куприн.
В отличие от тех своих товарищей по перу, кто не принимал Советской власти, так сказать, теоретически, Александр Иванович имел случай на практике убедиться в кавалерийских ее повадках: за статью в газете «Молва», написанную в защиту великого князя Михаила Александровича, действительно простого и доброго малого, который всегда резал правду-матку в глаза своей венценосной родне и даже в сердцах отстреливался от личной охраны, Куприн был арестован по приказу Зиновьева и доставлен в петроградский ревтрибунал; здесь его продержали только три дня и отпустили домой, но на всякий случай занесли в список заложников для показательного расстрела. Первой литературной работой, которую Куприн написал после освобождения, был гневный отклик на убийство комиссара по делам печати Володарского, застреленного эсером.
Видимо, так уж устроена психика истинно русского человека, что он принимает свою родину всякой, и нищей и обильной, и могучей и бессильной, как всякими принимают у нас матерей, или мужей, возвращающихся с войны, или расположение звезд на небе, и почитает первейшим сыновьим долгом до конца разделить с родиной ее путь. Поэтому-то Куприн об эмиграции даже не помышлял, а, напротив, чистосердечно пытался сотрудничать с новой властью. В восемнадцатом году он составил проект общероссийской крестьянской газеты «Земля», которую собирался редактировать лично, и даже дошел с ним до Ленина, но проект, как говорится, спустили на тормозах; Владимир Ильич нашел в нем многие неприятные пункты, передал дело Каменеву, а тот, поволынив какое-то время, газету решительно запретил, да еще и конфисковал значительные средства на ее издание, собранные по нитке. Таким образом, на первых порах романа с Советской властью не получилось, и Александр Иванович вернулся в свою Гатчину, где у него был «зеленый домик», стоявший по Елизаветинской улице (ныне улица Достоевского, 19а), и по старой памяти загулял с пропившимся миллионером Трознером и гусаром Минеем Бестужевым-Рюминым, потомком казненного декабриста.
Эмигрировал Куприн, можно сказать, нечаянно. В октябре 1919 года Гатчину заняли войска генерала Николая Николаевича Юденича, бывшего начальника штаба Кавказской армии, которые наступали на Петроград. Генерал чуть ли не в первый же день пребывания в Гатчине предложил Куприну редактировать газету «Приневский край» – Александр Иванович согласился; однако согласился он не из желания вести, в сущности, пустую армейскую газетенку, а потому что Юденич мобилизовал его в свою армию – Куприн же был строг в понятиях о чести русского офицера. Как бы там ни было, Александр Иванович получил в свое распоряжение походную типографию и отправился в действующие войска. Недели через две вслед за Куприным пустилась его семья вторая жена Елизавета Морицевна и дочь Ксения, – так как Юденича уже погнали на запад, и они опасались остаться по разные стороны баррикад. Соединилась семья в городе Ямбурге, оттуда попала в Нарву, а затем оказалась в Ревеле вместе с остатками белой армии. Дальнейший их маршрут был таков: Хельсинки, Копенгаген, Гуль, Лондон, Париж – и вот что интересно: не успел Куприн ступить на чужую землю, как он уже жаловался в письме к Репину на цивилизованных европейцев: «…это люди с другой планеты, селениты, морлоки, жители о-ва доктора Моро. Тоска здесь… Впрочем, тоска будет всюду, и я понял ее причину вовсе недавно. Знаете ли, чего мне не хватает? Это двух-трех минут разговора с половым Любимовского уезда, с зарайским извозчиком, с тульским банщиком, с володимирским плотником, с мещерским каменщиком. Я изнемогаю без русского языка!»
Цивилизованная Франция наши таланты не обласкала, хотя за полтора века до 25 октября российские власти широко приютили жертвы 14 июля, и даже такой неталантливый человек, как будущий король Людовик XVIII, осевший в Митаве, получал от императора Павла трехсоттысячный пенсион. Так же, как Куприны бедовали во Франции, наверное, никто из наших литературных эмигрантов не бедовал. Дело доходило до того, что они открыли переплетную мастерскую и на продажу выращивали укроп, который французы в пищу не потребляют. Но, главное, в эмиграции Куприн ничего сколько-нибудь значительного так и не написал.
И тут возникает принципиальный вопрос: может ли русский писатель без России работать и просто существовать? Когда Достоевский выдумал формулу «химическое единство», он многое объяснил в отношениях между русскими и Россией, но вопрос о русском писателе-эмигранте, кажется, остается еще открытым. Впрочем, и то не исключено, что закрыть его в принципе невозможно, потому что Гоголь свои «Мертвые души» в Италии написал, Тургенев бывал на родине, можно сказать, наездами, Герцен в эмиграции, собственно, и сделался нашим выдающимся публицистом, – хотя с него взятки гладки, ибо он был «гражданином мира», – Бунин в своем Грассе все самое сильное написал, а Лев Толстой, три раза собиравшийся эмигрировать в Англию, так и не отважился на существование без России, а Белинский еле-еле выдюжил две недели парижской жизни, а Пушкин за границей даже сроду и не бывал. Принимая во внимание такой патриотический разнобой, уместно предположить, что вопрос о том, может ли русский писатель-эмигрант работать и просто существовать, это вопрос выдуманный, а вовсе не принципиальный, и ответ на него лежит в плоскости самой нефилософской: кто-то может, а кто-то нет. Но кое-какие общетеоретические соображения он все-таки навевает. Например, замечено, что русскому писателю, живущему в условиях зарубежья, критически не хватает некой культурной ауры, которую в России образуют товарищеские пирушки, глубокое народное уважение к писательскому труду, русские женщины, жестокий разлад между горней внутренней жизнью и безобразной жизнью внешней, то есть гражданской, общественно-политической, бытовой, собственные дети, которые, как правило, получаются ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца, одним словом, все то, что возбуждает почтительное внимание к жизни, иначе называемое интеллигентностью. Потом, у русской литературы есть два источника, которые действуют в более или менее строгих географических рамках, – это смертный страх и страдания по России. В том смысле смертный страх, что вот когда одного знаменитого убийцу тащили казнить в подвал, он панически расписывался на стенах огрызком карандаша, а во-вторых, русского культурного человека почти ничего не привязывает к жизни, кроме самой жизни, отчего он так ею и дорожит. В том смысле страдания по России, в каком у нас называются страданиями лирические частушки, и самые обожаемые чада суть беспутные и больные. Вне нашей культурной ауры и помимо обоих источников нашей литературы русский писатель чаще всего вырождается в писателя вообще, каким стал, например, Набоков. Это, конечно, тоже по-своему интересно, но ведь русский-то писатель тем и отличается от писателя вообще, что он сосредоточен на духовной жизни так или иначе несчастной личности, что Чистая Сила подрядила его на подвиг одухотворения человека до степени Человека. Поэтому поменять гражданство для русского писателя отчасти означает профессию поменять. Иной писатель-эмигрант и смерти уже, наверное, не боится, потому что, кроме самой жизни, у него есть вилла и счет в «Креди Лионе», и Россия представляется ему географической абстракцией, страной даже как бы маловероятной, точно она ему когда-то приснилась в кошмарном сне. Недаром русский человек меняется на чужбине и как человек: Куприн, например, почти сразу оставил свои княжеские замашки, не безобразничал, не интересничал, не гусарил, не задирался – вот, спрашивается, почему? Наверное, потому, что в России писатель – святитель, а во Франции что-то вроде директора департамента. Зато в Куприне с особой силой проявилось все самое чистое и нежное, что составляло сущность его натуры, и, возможно, именно благодаря этому чудесному превращению он в отличие от многих своих товарищей по несчастью в конце концов вернулся к великой истине, запечатленной в нашей пословице – «Россия, что мать родная, какая есть, такая и слава богу». Домой Куприн возвратился в тридцать седьмом году, глубоко больным человеком, в полной уверенности, что «двадцать лет жизни пошли псу под хвост», скоро умер от рака пищевода и был похоронен на Волковом кладбище в Ленинграде. И вот почему купринский случай – это особый случай: Цветаева вернулась в Союз из-за мужа, Алексей Толстой с голоду, Горький потому, что Сталин обещал его сделать Саваофом советской литературы, а Куприн оттого, что он двадцать лет не жил в строгом смысле этого слова.
Как известно, большинство наших литературных эмигрантов так и остались за рубежом; то есть лучше, конечно, писать в России, но можно и за границей, Бунин вон даже Нобелевскую премию получил. Но с самой Россией-то как быть, как быть с этим мучительным ощущением «химического единства», от которого не в радость никакие европейские благополучия?! Вот ездил недавно один наш писатель во Францию: француженки, всюду вызывающая опрятность, в магазинах только черта лысого нет, все вокруг для человека и во имя человека, а он, отчасти, правда, под воздействием паров «Шато Неф» урожая восемьдесят первого года, целовал в капоты родимые «Жигули», которые ему изредка попадались; французам это было, конечно, дико, но товарищи по делегации его безукоризненно понимали.
Нет, можно, конечно, писать за границей, но лучше писать в России.
1989
Последний гений
Утром они проснулись, позавтракали чем бог послал, выпили по немалому кофейнику кофе и вышли на палубу дожидаться армейского «козелка». Уже заступил октябрь, но здесь, в хазарских степях, осенью только слегка припахивало, и тальник, яблони в садах, пирамидальные тополя все еще были по-летнему зелены, разве что чуть подсохли.
– Читал вчера воспоминания о Некрасове, – сказал сам, задумчиво глядя в воду. – Ну как же нет бога, когда страстно влюбленные в жизнь натуры, вот вроде Николая Алексеевича, под старость страдают такими мучительными болезнями, что уже ждут не дождутся смерти!.. Не может его не быть.
И у самого на лице стало приметно некое тонко-отчаянное выражение, как будто он внимательно прислушивался к себе и обнаруживал грозные перемены, какие-то неизвестные прежде знаки, обещавшие катастрофу.
Тронутая было тема не получила развития, и они стали молча дожидаться транспорта от военных.
– Послушай, – сказал наконец Георгий, – тут всего и идти-то три километра – давай на своих двоих? – И он показал при помощи пальцев, как передвигаются своим ходом.
– Ноги болят, ты понимаешь русский язык! – внезапно озлился сам, причем в его голосе проскользнула нота фальцетная, истерическая почти; вообще в последнее время он что-то частенько плакал и бесился, по пустякам.
Через некоторое время подкатил-таки «козелок», и они поехали к месту съемок. Дорогой сам пересказывал Георгию финал одной недавно напечатанной зарисовки:
– Сцена суда: тут публика, тут судьи, тут подсудимые. Вдруг председательша суда замечает среди публики загадочную женщину и спрашивает ее: «Вы, собственно, кто такая?» Та отвечает: «Я, собственно, совесть». «Вот! – наставительно говорит председательша подсудимым. – Даже сама ваша совесть явилась судить вас за оголтелый алкоголизм!» – «Ну почему только ихняя, – говорит совесть, – ваша тоже…»
Это была последняя сцена фильма, и сцена прошла, как говорится, на легкой ноге. Когда сам уже принялся смывать грим, у него попросили автограф здешние комсомольские вожаки. Болезненно поморщившись, он отказал из-за усталости, опасного самочувствия и антипатии к комсомольскому аппарату, но Георгий воззвал к снисходительности, и сам нехотя согласился.
– Ну ладно, что там у вас… – согласился он.
– Мы вот запланировали слет областного актива и хотели бы ребятам сделать памятные подарки, – сообщили вожаки и протянули ему толстенную стопку фотокарточек совэкспортфильмовской фабрикации.
Сам с готовностью принял стопку, и тотчас фотокарточки взмыли в воздух, как вспугнутая стая нелепых птиц.
Потом он поехал на почту звонить домой, но никого не застал и почему-то был этим крайне обеспокоен, хотя стояло воскресенье и домашние могли просто-напросто отправиться погулять. После поехали париться в деревенскую баньку, истопленную хозяевами на прощанье. Уже подъезжая к баньке, задавили ненароком глухого кота, когда между плетнями сдавали задом.
Сам в ужасе закрыл руками лицо, а шофер Николай сказал:
– Погиб Пушок геройской смертью! – и вылез из машины прибрать несчастную животину.
– Все, что ли? -с гадливым нетерпением спросил сам.
– Все, – сказал Николай, но когда сам отнял от лица руки, Николай еще только собирался перебросить окровавленную тушку через плетень.
Местный старичок с орденскими планками на нищенском пиджачке, из ровесников века и любителей изложить перед городскими свою историческую биографию, в надежде что ее пропечатают в назидание опустившейся молодежи, который давно уже поджидал компанию возле баньки, проводил мертвого Пушка взглядом и почему-то с укоризною произнес:
– Нехорошая примета. Обязательно кто-то у нас помрет.
– Типун тебе на язык! – сказал ему Николай.
Дед уже собрался перейти непосредственно к автобиографии, но компания невозмутимо проследовала в предбанник, и последний со значеньем захлопнул дверь.
Самому что-то париться не хотелось; он немного посидел из уважения к хозяевам на полке, но вскоре вернулся в предбанник, со словами: «Что-то не парится мне сегодня». И опять у него на лице означилось некое тонко-отчаянное выражение, как будто он внимательно прислушивался к себе и обнаруживал грозные перемены, какие-то неизвестные прежде знаки, обещавшие катастрофу.
После баньки вернулись обедать на пароход и ближе к вечеру у самого слегка прихватило сердце; настоящего лекарства под рукою не оказалось, и ему пришлось довольствоваться чуть ли не киндербальзамом – тем не менее сердце потихонечку отпустило.
На сон грядущий они выпили по немалому кофейнику кофе и вышли на палубу подышать. Явился некто администратор и поинтересовался у самого:
– Ну что вы решили насчет директора?
– Есть директор, – ответил сам.
– И кто же он, интересно?
– Милькис.
– И что вас все тянет к этим гешефтмахерам, не пойму?!
Сам вдруг заиграл железными желваками и диким голосом закричал:
– На сегодняшний день Лазарь Моисеевич Милькис самый русский директор на всем «Мосфильме»!
Некто администратор в панике удалился, а сам еще долго молчал, смотрел в сгущавшуюся темень и раза два смахнул с уголка правого глаза набегающую слезу.
Над плоским берегом затеплилась какая-то низкая оранжевая звезда, и сам в раздумье заговорил:
– Ты знаешь, Жора, я, кажется, вышел на героя нашего времени… – И он принялся развивать прелюбопытную социально-филологическую идею.
– Гениальная мысль, – сказал про нее Георгий. – Я вот только опасаюсь, что народ этого не поймет.
– Народ?! – внезапно озлился сам и опять заиграл железными желваками. Какой народ-то? Народу-то осталось четыреста человек!
Было уже поздно, и они разошлись по каютам спать. Напоследок Георгий заглянул к самому справиться о здоровье; тот пытался читать, но видно было, у него опять расходилось сердце.
– Может, сгонять за врачом к военным? – предложил Георгий, почувствовав смутное беспокойство.
– Ну, сгоняй… – как-то отрешенно ответил сам.
Пароход по случаю окончания съемок был беспробудно пьян, и никого из шоферов растолкать так и не удалось. Георгий вернулся назад ни с чем и сказал на прощание самому:
– Ты, если что, мне крикни. Я нарочно оставлю открытой дверь…
Сам пообещал Георгию крикнуть, если что, и на этом они расстались.
Утром 2 октября 1974 года Георгий первым делом зашел к самому в каюту: тот мирно спал на левом боку, уткнувшись щекой в подушку. Тогда он уселся на свободную койку и стал спокойно дожидаться пробуждения самого. Что-то он долго не просыпался; в конце концов Георгий тронул товарища за плечо и тот легко повернулся на спину – всю его левую щеку занял багровый кровоподтек, дыхания не было, а тело, кажется, источало какой-то нездешний холод.
Так умер Василий Макарович Шукшин, последний гений нашей литературы.
Уместен вопрос: почему же именно гений? За какие исключительные дела он достоин звания превосходительного, фактически неземного? Вообще говоря, табель о рангах в применении к писательскому труду, включающая такие градации, как великий, гениальный, выдающийся и прочее в этом роде, имеет не просто факультативное значение, а просто никакого значения не имеет. Потому что все писатели в действительности делятся только на писателей и тех, кто в той или иной мере заблуждается на свой счет. Потому что на Руси уже сама должность писателя соответствует званию – гений и обозначает его принадлежность к вечности, как звание святого и принадлежность к вечности обозначаются нимбом, изображенным над головой.
Таким образом, все занятые в литературном процессе делятся на гениев и… скажем, тружеников пера. Последних, конечно, огромное большинство, однако на судьбах литературы это не отражается, но зато отражается на судьбах настоящих писателей, русских во всяком случае, во-первых, потому, что они народ всеблаженный и, как Красная Шапочка, видят в каждом волчьем оскале родственную улыбку, во-вторых, отечественный Парнас сродни коммунальной квартире со всеми вытекающими последствиями, в-третьих, русский писатель любит литобъединяться, а любое литобъединение для него – смерть, поскольку в них всегда верховодят заблуждающиеся на свой счет, как элемент, имеющий массу свободного времени и энергии, которые надо куда-то деть, в-четвертых, наша российская действительность и наша советская, точнее будет сказать антисоветская, действительность устроены таким окаянным образом, что все, выходящее из ряда обыкновенного, представляет собой государственную измену. Этот четвертый пункт особенно влиятелен на гражданскую жизнь писателей, даже как-то автоматически влиятелен, вне зависимости от перемен нашего резко континентального политического климата, и какого русского гения ни возьми, всякий, за одним-другим исключением трансцендентального характера, прошел если не через тюрьму, то через суму, всякого эта действительность терла, ломала и, как правило, до срока вгоняла в гроб.
Возьмем Василия Макаровича Шукшина: какими только посторонними делами не обременяла его действительность – и в колхозе-то он работал, и на флоте служил, и в автотехникуме учился, и в школе преподавал, и в фильмах снимался, и вот даже его отговорили поступать на сценарный факультет института кинематографии, а переадресовали на режиссерский, и он всю жизнь ставил квелое, дюжинное кино, и через горькое пьянство он прошел, этот силикоз для добытчиков радия из тысячи тонн словесной руды, и в больницах лежал, и все бесконечно мотался вдоль и поперек нашего государства, пока не уперся в то справедливое убеждение, что его единственное и естественное предназначение – это литература, что его место – это рабочий стол, что его инструмент – это шариковая авторучка и тетрадка за три копейки [1]1
Шукшин черновики писал в ученических тетрадках за 3 копейки, а перебелял рассказы в так называемых общих – за 42. (Здесь и далее примеч. автора.)
[Закрыть]. Понятное дело, не успел он прийти к этому убеждению, как надорвался и умер, отрабатывая барщину у тогдашнего киновельможи Бондарчука; одна жутковатая, издевательски-показательная деталь: в гробу он лежал рыжеволосым, выкрашенным под шолоховского бронебойщика-балагура. Ну и напоследок над закопанным уже писателем простодушно поглумился Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства, второпях возвеличив его совсем не за то, за что его действительно следовало возвеличить, – получилось, в сущности, то же самое, вот как если бы Байрона провозгласили великим художником в связи с тем, что он хромал на левую ногу, или Менделееву поставили бы памятник за то, что он мастерил отличные чемоданы.
Это скорее всего недоразумение, что писатель по-горьковски должен пройти через свои университеты, как-то приобщиться к народной жизни, чтобы потом ему было о чем писать. На то он, собственно, и писатель, чтобы у него было о чем писать, чтобы у него новое слово само по себе рождалось, независимо от превратностей судьбы, перемены мест, знания ремесел, успехов в работе и личной жизни. Труженику пера трепка от действительности и вправду необходима, как бензин для автомобиля, потому что в литературе он только опытом существует, а писателя действительность вымучивает и губит, если он, конечно, своевременно не отыдет от мира в какое-то автономное бытие; вообще это странно, даже необъяснимо, но всякая действительность настойчиво вытесняет гения из себя, как нечто кардинально враждебное собственному устройству.
Хотя почему необъяснимо, очень даже объяснимо, отчего действительность была так жестока, скажем, к Сократу, Паскалю, Достоевскому, Бабелю, – дело в том, что гений есть отрицание современности. Такую незавидную роль он играет вопреки своей воле и вовсе не потому, что принадлежит будущему, и не потому, что он умнее и лучше прочих, а даже он, напротив, может быть малосимпатичным созданием и некоторым образом простаком, а потому, что гений – существо как бы иной природы и, так сказать, темной этимологии, относящееся больше к вечности, нежели к злобе дня, недаром великий Гегель называл его доверенным лицом мирового духа. Возьмем даже уровень бытовой: если поставить себя на место заурядного человека, живущего без малого физически и неизвестно в силу какой причины, то, разумеется, как минимум неудобно будет сосуществовать рядом с каким-нибудь опасным изобретателем квадратного колеса, которому нипочем обыкновенные человеческие заботы, или с каким-нибудь юродивым проницателем, видящим всех насквозь, как рентгеновский аппарат, который ничего не боится и никого, – понятно, что заурядному человеку, ужасающемуся непохожести на себя не меньше, чем экономической катастрофе, как минимум, захочется сплавить этих придурков к Ганнушкину, а еще лучше в Матросскую тишину; вот как иммунная система уничтожает чужеродные клетки, возникшие в организме, как стая черных воронов заклевывает ворона-альбиноса, так и человечество исподволь, окольно вытесняет из жизни гениев, и это отчасти понятно, даже простительно, если исходить из природы вещей и логики заурядного человека. Это тем более понятно, что излюбленная идея рода людского есть единообразие, сформулированное Великой французской революцией в лозунге «Свобода, равенство, братство» – в российской редакции это будет свобода от всего, равенство в обездоленности и братство преимущественно по оружию – между тем природа до такой степени не терпит этого самого единообразия, что никогда не существовало двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев; русский народ по этому поводу говорит: «Бог и леса не уровнял». Это тем более простительно, что, в сущности, не люди, а человечество, не действия, а действительность приносят гения себе в жертву. Ведь Сократ никому лично из состава ареопага, как говорится, не насолил, и его казнили за богохульство, и Паскаль мученически угас не потому, что он был Паскаль, – потому, что лошади понесли, и Достоевского взводили на эшафот не кровно задетые его «Униженными и оскорбленными», а те, кто полагал, что публичная декламация письма Белинского к Гоголю предосудительней грабежа на большой дороге, и Бабеля расстреляли за то, что он из праздного любопытства слишком сблизился с высшими чинами ОГПУ. Так что все претензии к диалектическому материализму, формирующему действительность, который враждебно третирует высшие достижения природы в отрасли человека.
Удивительно же другое: что в последнем пункте природа вещей вступает сама с собой в коренное противоречие; с одной стороны, она заданно рождает гениальное существо, посредством которого осуществляется ее воля, а с другой стороны, отягощает бытие гения окаянной действительностью, которую сама же и формирует, и, как правило, до срока сводит его в могилу. Примирение этих противодействующих векторов внутри одной силы, видимо, возможно только в следующей плоскости: существо, обреченное природой на гениальность, способно самореализоваться лишь в столкновении с безобразной действительностью – и чем безобразнее действительность, тем рельефнее прорезывается гениальность, недаром Россия дала миру такую многочисленную плеяду великих художников – и, стало быть, губительная действительность есть вполне штатная ситуация, и даже непременное условие становления гениальности, вроде кислорода для получения стали из чугуна, которое в наших пределах действует по принципу поговорки: «Русского побей – часы сделает». Надо полагать, что природа вещей и в могилу сводит писателя во благовременье, то есть немногим прежде того, как прекратится его реакция с безобразной действительностью, и он рискует на выходе выродиться в рантье, живущего на проценты от былого служения родимой литературе; впрочем, с гениями природа никогда таких жестоких шуток не допускала и позволяет себе назидательно подкузьмить только служителям той механической ереси, которую мы называем социалистическим реализмом. Потому что, как ни крути, а всякий писатель, то бишь гений, – это чадо самой природы, зачатое, выношенное, рожденное, воспитанное по какому-то горнему образцу, и, естественно, мать-природа стоит за него горой, то есть по-своему лелеет и опекает, но только безжалостно, как отцы учат плавать своих ребят.