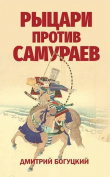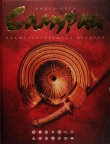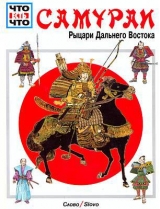
Текст книги "Самураи [Рыцари Дальнего Востока]"
Автор книги: Вольфганг Тарновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Как Ёритомо Минамото создал государство самураев?
После своей победы над домом Тайра Ёритомо Минамото принял ряд радикальных мер. В 1192 г. он объявил себя верховным главнокомандующим – сёгуном. Рыбацкое селение Камакура (близ нынешнего Токио), где размещалась его штаб-квартира, он превратил в свою резиденцию, построив великолепный город (Камакура находится в 300 км на северо-восток от Киото, столицы императора, по ту сторону «японских Альп»). Это лучше любых слов объясняет суть свершившегося: старый мир императорского двора и новый центр власти самураев должны быть навсегда отделены друг от друга.

На этой картинке из книги времен Токугава нарисован сегун в придворном убранстве. Вместо двух обычных для воина-самурая мечей у него лишь один.
Император по-прежнему существует, но отныне не принимает участия в управлении страной.
В 1192 г. император вынужден был назначить Ёритомо сэйи тайсёгуном– «великим полководцем, покорителем варваров». В прежние времена этим почетным титулом уже награждали особо отличившихся полководцев. Но сейчас, присвоенный Ёритомо, этот титул приобретал совершенно новое значение. Отныне сегун становился самым могущественным человеком в стране: наивысшим по рангу самураем и главным министром в одном лице. Он один принимал решения – императору оставалось соглашаться с ним, в противном случае ему пришлось бы «добровольно» отречься от престола.
Чтобы придать вес своим политическим начинаниям, Ёритомо создал в Камакуре новый орган управления империей – военное управление сёгуната, именовавшееся полевой ставкой (бакуфу). Во главе бакуфу, которое состояло из двух палат – административной и судебной, стоял сам сёгун.
Отдельно существовало специальное Самурайское управление. Как и сегун, большинство его министров и их помощников были самураями. Благодаря этому дух самурайского сословия проник во все сферы общественной жизни.
Опытный полководец, Ёритомо знал, что недостаточно лишь раздавать приказания – они должны беспрекословно выполняться. Для этого на все важные посты в провинциях – губернаторов, судей, управляющих государственными землями и т. д. – он назначал людей, снискавших его доверие в войне Гэмпэй. Кроме того, в каждой провинции он учредил две новые должности: военного губернатора (сюго), которому принадлежала военная и политическая власть, и земельного главы (дзито). Дзито предоставлялась полная свобода во всем, что касалось управления в его провинции. Он же обязан был регулярно собирать налоги. Сюго и дзито подчинялись непосредственно бакуфу.
Им надлежало в определенное время появляться в Камакуре и давать обстоятельный отчет о положении дел. Таким образом, сёгун и его министры были прекрасно осведомлены о том, что происходило в стране, и могли, в случае необходимости, своевременно принять решительные меры.
Камакурское государство с его институтами – сёгунатом, бакуфу и военным управлением в провинциях – открыло новую главу в истории Японии. Хотя официально верховная власть в государстве принадлежала императору да и двор его сохранял свое влияние, господствующее положение они утратили. Никогда уже людям светским, то есть придворной знати, не придется больше править судьбами страны – пришел черед военной аристократии, самураев.

Ёритомо Минамото (1147–1199) – основатель государства самураев и первый японский сёгун.
Эта выразительная скульптура из дерева была сделана вскоре после его смерти.
Как развивалось государство самураев до XVI в.?
Военное правительство (бакуфу из Камакуры), учрежденное в 1192 г. Ёритомо Минамото, просуществовало около полутора столетий. В это время военные губернаторы (сюго) становились все более не зависимыми от камакурского сёгуната.
Они превращались в крупных феодалов, сосредоточивая в своих руках землю.
Особенно усилились родовитые дома юго-западных провинций, которые значительно увеличили свои вооруженные силы.
Кроме того, в конце XIII – начале XIV в. Япония вела оживленную торговлю с Китаем и Кореей. Благодаря ей обогащались не только купцы и ремесленники, но и феодалы западных и юго-западных провинций, откуда в основном велась эта торговля. Камакурский сёгунат, не желая мириться с усилением отдельных домов, препятствовал связанной с рынком деятельности феодалов, ремесленно-торгового люда и зажиточного крестьянства.
Это послужило поводом для борьбы с существующим режимом.
Противоречиями между сёгунатом и феодалами решил воспользоваться император Годайго, мечтавший вернуть политическую власть императорскому дому. Он, как это делали и его предшественники, привлек на свою сторону многих недовольных сёгунатом влиятельных феодалов, в том числе юго-западного феодала Такаудзи Асикагу и восточного феодала Ёсидаду Нитту.
Первые попытки разбить войска камакурского сёгуната – в 1324 и 1332 гг. – окончились неудачей. Однако в начале мая 1333 г. Такаудзи Асикага захватил императорскую столицу Киото, а Ёсидада Нитта вторгся в сёгунскую столицу Камакуру.
Оказавшись в безвыходном положении, сёгун вместе со своими 800 сторонниками торжественно совершил самоубийство.
Камакурский сёгунат был низложен. Но теперь победители – Асикага и Нитта – начали борьбу между собой. Первый представлял передовой, экономически развитый западный район, второй – отсталый восточный. Если на западе, где было много заливных рисовых полей и налаженных водных транспортных путей, развивались ремесла и процветала торговля, то на востоке царило запустение, ремесла и торговля еле-еле тлели. Экономическая победа Асикаги была предрешена. Титул сегуна перешел к представителям дома Асикага. Его глава оставил разрушенную Камакуру и вместе со всем бакуфу переехал в императорский Киото.

Благородный воин-самурай Такаудзи Асикага (1305–1358), первый сёгун из дома Асикага, в пышных доспехах.
Как показало время, это было роковой ошибкой. Попав в Киото, новые вожди самураев, не искушенные еще в делах управления, тут же попали в водоворот интриг императорского двора. Но самым страшным было то, что воины, привыкшие к дисциплине и суровой жизни, здесь, в изобиловавшей соблазнами пышной столице, безнадежно погрязли в роскоши и безделье. Чтобы сравняться с кичливой придворной знатью, сёгун и влиятельные самураи стали строить себе великолепные дворцы, окруженные садами, каждый из которых был произведением искусства. Они участвовали в приемах, празднествах и театральных представлениях, содержали дорогих наложниц и… пренебрегали государственными делами.
Последствия не заставили себя долго ждать. Как только сюго, военные губернаторы, которых сёгун прежде держал в строгости, почувствовали, что суровая хватка бакуфу ослабевает, они начали хозяйничать у себя в провинциях по своему усмотрению. Уже в XV в. многие из местных правителей жили как владетельные князья – даймё («великое имя»). Они формировали собственные отряды самураев, с которыми нападали на своих соседей, видя в каждом врага, пока наконец отдельные стычки не переросли в настоящую гражданскую войну, все шире и шире расползавшуюся по стране.
Последнюю фазу этой войны «всех против всех» хроники называют сэнгоку дзидай («эпоха воюющих провинций»). Длилась она с 1478 по 1577 г., то есть целое столетие. Это время, как и Тридцатилетняя война в Европе (1618–1648), было ужасным и для страны, и для ее жителей, но зато пришлось совершенно по вкусу самураям: уж они-то вволю могли предаться ратным утехам.
В пору всеобщего безумия люди совершали прежде немыслимые поступки. Все чаще начальники отрядов самураев восставали против нанявших их даймё, которым недавно клялись в верности, или прогоняли, присваивая себе их владения.
Наступила эпоха потрясения устоев прежней жизни, которую историки называют гэкокудзё («низшие одолевают высших»).
О том, как эта вакханалия измен и кровопролитий сказалась на японском обществе, говорят следующие цифры.
В начале «эпохи воюющих провинций» в Японии было примерно 260 даймё, все они происходили из благородных самурайских родов. К концу их осталось всего какой-нибудь десяток, но появилось около 250 так называемых сэнгоку даймё («князей сражающихся провинций») – мелких, тщеславных провинциальных князьков, часто сомнительного происхождения, которые в смутное время пробивались наверх собственными силами, не брезгуя бесчестными поступками.

Прекрасный Золотой павильон – некогда часть усадьбы сегуна Ёсимицу Асикаги (1358–1408) – красноречиво свидетельствует о роскоши, царившей в среде самурайских вождей в эпоху сёгуната Асикага.
Кто и когда восстановил единство Японии?
В середине XVI в. казалось, что вот-вот империя, сотрясаемая гражданской войной, развалится на отдельные государства и лишь чудо сможет предотвратить окончательный распад и вернуть стране мир.
Чудо свершилось. Даймё провинции Овари (в центральной части Хонсю) Нобунага Ода (1534–1582) совершенно неожиданно стал спасителем страны. Нобунага был выдающимся человеком: целеустремленным, прозорливым, лишенным предрассудков, хладнокровным, вероломным и по-крестьянски хитрым. Вдобавок он оказался гениальным полководцем. Совершив несколько удачных походов против крупных феодалов и разгромив буддийские монастыри, которые участвовали в междоусобных войнах, он смог вскоре подчинить своей власти центр страны со столицей Киото. В 1573 г. он сверг Иосиаки, последнего сегуна из семьи Асикага. В 1582 г. в одном из храмов Киото Нобунага покончил жизнь самоубийством, когда его окружили войска мятежников, возглавляемые предавшим его генералом. Япония оказалась на грани катастрофы.

Хитрым и энергичный Нобунага Ода (1534–1582) спас Японию, прекратив столетнюю гражданскую войну, которая угрожала стране распадом.
Тем, что дело объединения страны все-таки было продолжено, Япония обязана самому способному из генералов Нобунаги – Хидэёси Тоётоми (1536–1598).
Хидэёси, некрасивый, необразованный, тщеславный, но смышленый и волевой выходец из крестьянских низов, был блестящим стратегом. После смерти Нобунаги он с беспощадной решимостью продолжил дело, начатое его покровителем. Уже к 1588 г. Хидэёси был столь силен, что ухитрился назначить своих наместников даже в самые отдаленные области страны и отдал приказ всему гражданскому населению, кроме самураев, сдать все оружие. В 1592 г. Хидэёси со 137-тысячной армией напал на Корею.
Поговаривали, что сделал он это с умыслом, дабы направить воинственный пыл самураев в новое русло и отвлечь их от собственной страны. Так это или нет, но десятки тысяч вероятных смутьянов никогда не вернулись на родину из заморской авантюры.
В 1598 г. Хидэёси умер, оставив власть своему несовершеннолетнему сыну, вместо которого государственными делами должен был руководить регентский совет.
Именно из этого круга вскоре выделился человек, завершивший объединение Японии, – Иэясу Токугава (1542–1616).
Внешне совсем непохожий на героя, он обладал стальной волей и ясным умом.
Но прежде всего он умел терпеливо ждать своего часа.
Иэясу боролся с противниками объединения страны, которые сгруппировались вокруг сына Хидэёси. Потерпев в 1600 г. поражение в кровопролитной битве при Сэкигахаре, сын Хидэёси и его сторонники обосновались в Осаке, городе, который на протяжении 15 лет был центром оппозиции. Спустя три года Иэясу провозгласил себя сегуном, положив начало сёгунату Токугава (1603–1867). Своей резиденцией и местопребыванием правительства он избрал город Эдо (ныне Токио).
Итак, в Японии началась эпоха Токугава, даровавшая стране мир на два с половиной столетия. Лишь однажды, в начале XVII в., спокойствие было вновь ненадолго нарушено: тогда Иэясу хитростью и силой оружия устранил выросшего к тому времени сына Хидэёси, который не хотел отказываться от титула сегуна, завещанного ему отцом.
Как жили самураи в эпоху Токугава?
После того как «эпоха воюющих провинций» ушла в прошлое, Иэясу Токугава и его преемники начали наводить новые порядки в истерзанной, залитой кровью стране. Они хотели построить такое государство, в котором ни у кого не было бы никакой возможности плести заговоры, чинить насилие или развязывать гражданскую войну. Чтобы в зародыше пресечь малейшее непослушание, новые государственные мужи приняли радикальные меры.
Одна из них касалась императора. Ему и придворной знати с ее вечными интригами было запрещено вмешиваться в политику. В 1615 г. Иэясу издал указ, резко ограничивший права тэнно: ему дозволялось лишь участвовать в религиозных обрядах и церемониях, посвященных государственным праздникам, а также покровительствовать философам, поэтам и художникам.
Чтобы удержать политическую власть в руках военных, Иэясу назначил на все ключевые посты в стране преданных ему самураев.
Возглавлял государственный аппарат самурай наивысшего ранга – сёгун. Его резиденция располагалась в Эдо, нынешней столице страны Токио. Оттуда он правил как абсолютный монарх: слово его было законом, любой приказ исполнялся.
Следующее после сегуна место в иерархии занимало военное правительство – бакуфу. Большинство его министров, равно как и все чиновники, занимавшие высокие должности в сёгунате Токугава, происходили из самых знатных семей самураев. Они должны были обеспечивать выполнение приказов сегуна во всех уголках страны.
Следующую за сегуном и членами бакуфу ступеньку в государстве Токугава занимали самурайские владетельные князья (даймё), управлявшие 260 провинциями страны. Править им, конечно, полагалось не по собственному усмотрению, как было накануне гражданской войны, а согласно предписаниям бакуфу. Даймё регулярно приезжали в сёгунскую столицу и отчитывались перед бакуфу, которое могло в любую минуту отозвать их или назначить в другую провинцию.

После смерти Нобунаги Оды его близкий друг и сподвижник генерал Хидэёси Тоётоми (1536–1598) (слева) продолжил начатое Нобунагой объединение страны. Иэясу Токугава (1542–1616) (справа), преемник Тоётоми, завершил создание нового государства, просуществовавшего больше 250 лет.
Среди рядовых самураев лишь немногие подчинялись непосредственно сегуну в Эдо. Значительная же их часть – около 400 тысяч воинов со своими семьями – находилась в распоряжении провинциальных даймё. Именно в столицах провинций жило большинство самураев – кто в крепости своего господина, кто в небольших, стоявших неподалеку домах. Так некогда сельские жители становились горожанами.
В провинциях самураи выполняли обязанности, которые возлагал на них даймё.
Одним выпадала военная стезя: они служили в полицейских войсках или личной гвардии даймё либо несли сторожевую службу в крепости. Но большинство занималось мирной деятельностью: самураи управляли поместьями и товарными складами, взимали налоги, набирали крестьян для строительных работ. За это они получали жалованье. В наши дни их назвали бы чиновниками.
Но эти «чиновники» не считали себя людьми штатскими; нет, они по-прежнему видели себя в первую очередь воинами и, вдобавок, элитой нации. Это объясняется их военным воспитанием и особым образом жизни: даже в мирное время они обязательно подолгу тренировались, совершенствуя свои навыки в обращении с оружием.


Сегуны из дома Токугава, помня об ужасных уроках столетней гражданской войны, ввели строгий контроль за провинциальными князьями (даймё). Отныне каждому почти из 250 даймё полагалось через год с семьей и свитой приезжать в столицу. По прошествии года даймё возвращался в свои владения, а его жена и дети оставались при дворе сегуна в качестве заложников. С тех пор по всей стране потянулись длинные караваны – это даймё в сопровождении многочисленной челяди переезжали с места на место.
На этой миниатюре изображена такая процессия. В центре – паланкин князя, который охраняют его самураи. Впереди и позади него слуги несут вещи господина.
Но еще важнее для самосознания самураев было их исключительное положение в обществе, которое за ними признавал закон. Уже вскоре после своего вступления в должность сёгун Иэясу разделил своих подданных на четыре сословия: дворян ( самураев), крестьян, ремесленников и торговцев. «Но самураи, – так говорилось в соответствующем указе, – господа среди четырех сословий».
О том, что это значило на деле, говорит такой пример. Любой самурай, от сегуна до простого караульного солдата, обладал особой привилегией, закрепленной законом, – правом «убить и уйти». Под этим подразумевалось право самурая казнить любого человека, не оказавшего ему должного почтения. Случаи подобных расправ были нередкими, и воспринимались они как нечто само собой разумеющееся.

Любого самурая простолюдины должны были встречать с величайшей почтительностью. Забывший об этом рисковал – оскорбленный самурай по закону мог снести ему голову с плеч.
МИР САМУРАЕВ
Каким моральным нормам следовали самураи?
Как вы уже поняли, сословие самураев объединяли не чины, не доставшиеся им за службу владения, не образ жизни – тут различия были велики: самураем был и сёгун, и рядовой воин. Сплачивало их всех нечто нематериальное – представление об идеальном, «доблестном человеке».
Каждый самурай стремился к высокой цели – стать «доблестным человеком».
Долгий и трудный путь к ее достижению идеологи самурайства обозначали особым термином – бусидо(«путь воина»).
Бусидо был основным моральным законом, руководствуясь которым жил самурай. Прежде всего он должен был усвоить три главные добродетели: верность, чувство долга и храбрость – и никогда отступать от них. Под верностью кодекс бусидо подразумевал самую ценимую самураями добродетель – верность господину. Ни при каких обстоятельствах самурай не должен был нарушать эту заповедь. «Где бы ты ни находился, в горах или под землей, в любое время и везде мой долг обязывает меня охранять интересы моего владыки. Это – долг каждого подданного. Это – позвоночник нашей религии, неменяющейся и вечной».Так говорится в клятве воина из собрания самурайских наставлений начала XVII в. «Хагакурэ» («Сокрытое под листьями»).

Обучение искусству сражения копьем. В то время как учитель держит отвесно копье (яри), ученик направляет на него алебарду (нагинату).
Второй добродетелью самурая кодекс бусидо считал чувство долга. Это понятие объединяло несколько моральных заповедей, и прежде всего долг самовоспитания, который требовал от самурая:
• честности (нельзя лгать, злословить, совершать бесчестные поступки);
• непритязательности (презрения к роскоши, деньгам, другим жизненным благам);
• приличия (соблюдения принятых этических норм; скромности и невозмутимости; сдержанности в чувствах).
Понятие чувства долга подразумевало, кроме того, и обязанности по отношению к другим. Это значило, что самурай должен:
• ни перед чем не отступать при выполнении долга;
• быть полезным своему владыке;
• быть почтительным к родителям;
• быть великим в милосердии.
Помимо верности и чувства долга третьей главной добродетелью самурая была храбрость. Под этим понималась не только отвага в бою, но и бесстрашие в обыденной, гражданской жизни. Этот принцип весьма почитаемый в Японии китайский философ Конфуций, живший около 552–479 гг. до н. э., облек в форму постулата: «Всегда неколебимо делай правое дело». Воину нельзя медлить, он должен не задумываясь заступиться за правое дело, даже если благородный поступок может стоить ему жизни. Ведь, как следует из кодекса бусидо, «правое дело – всё, жизнь – ничто».
Здесь мы подошли к самой сути самурайской морали: поскольку в соответствии с кодексом бусидо обстоятельства в любой момент могли потребовать от самурая пожертвовать собственной жизнью, то он должен осознавать, что жизнь не имеет никакой ценности («жизнь – ничто»). «Хагакурэ», собрание самурайских текстов, которое мы уже цитировали, учит:
«Бусидо – путь воина – означает смерть. Когда для выбора имеются два пути, выбирай тот, который ведет к смерти. Не рассуждай! Направь мысль на путь, который ты предпочел, и иди!»
Как самураи воспитывали своих сыновей?
Воспитание самурая начиналось с раннего детства. Вместо волшебных сказок родители рассказывали малышам о войне Гэмпэй, многих других драматических событиях, которых было предостаточно в японской истории. В них мужественные герои-самураи всегда одерживали блистательные победы над врагами или, коли доводилось, хладнокровно шли на смерть.
Подобные рассказы, как правильно предполагали взрослые, будили в ребенке пылкое желание самому когда-нибудь стать таким же, как те, вызывающие его восхищение, идеальные герои.
Но чтобы стать настоящим самураем, одного желания недостаточно. Воспитание воина – дело долгое и кропотливое, требующее ежедневного напряженного труда.
Сегодня оно кажется, по нашим меркам, слишком суровым.
Прежде всего мальчика учили владеть своим телом и своими чувствами. Преисполненные любви к своему чаду родители хотели, чтобы он без жалоб сносил боль, холод и любые другие тяготы жизни.

Упражняясь с оружием, молодые самураи настойчиво развивали мгновенную реакцию, гибкость и ловкость.
Если у мальчика вдруг выступали слезы, мать отчаянно бранила его за слабость.
Железная воля, сильный характер, умение подчиняться жесткой дисциплине воспитывались не только увещеваниями и наставлениями, но и всеми условиями жизни будущего самурая.
Так, мальчиков будили еще в предрассветные сумерки, оставляли играть в нетопленой комнате или надолго лишали еды. Еще более суровые испытания ожидали их впереди, когда они подрастали и их уже можно было учить чтению и письму в соседнем храме или монастыре. Детям приходилось проделывать долгий путь туда и обратно в любую погоду, часто в ненастье даже без плаща, а зимой – босиком. Позднее им предстояло научиться побеждать страх: их в одиночестве оставляли на ночь на кладбище или подле эшафота среди повешенных, обезглавленных и распятых.
В это же время, пока мальчики подобным образом закаляли свою волю, их учили обращаться с оружием. Приобщение к этому искусству начиналось с торжественной церемонии: будущему воину, которому к тому времени исполнилось пять лет, вручали меч. Первыми, основными учебными предметами были плавание, верховая езда и джиу-джитсу – искусство самозащиты без оружия. После того как ученик осваивал эти азы, переходили к стрельбе из лука, единоборству на копьях и фехтованию. Кроме того, юноша должен был овладеть и другими полезными навыками, например научиться плавать со связанными руками и ногами или в доспехах, преодолевать водные преграды, используя вместо моста лианы, и, не оступаясь, сражаться среди бурных потоков горных рек.
К пятнадцати годам, к окончанию учебы, молодой человек должен был стать таким, каким полагалось быть настоящему самураю: «спокойным, как лес, неподвижным, как гора, холодным, как туман, быстрым, как ветер, в принятии решения и яростным в атаке, как огонь». Если он соответствовал этим требованиям, его принимали в сообщество воинов.
Церемония посвящения, так называемая гэмпуку, начиналась с того, что кандидат в самураи отказывался от имени, которым его называли в детстве, и принимал новое. После этого ему выбривали переднюю часть головы до макушки, а волосы на затылке заплетали в косичку – магэ (ее пропитывали помадой и загибали вперед).

На этой фотографии второй половины XIX в. вы видите типичную прическу самурая: часть головы – от лба до макушки – выбрита, на макушке загнута косичка (магэ).
Потом молодому воину вручали знаки его нового сана – пару мечей: короткий и длинный, а также будничный лакированный головной убор (эбоси) и остроконечную шапочку (каммури), предназначенную для торжественных событий.
Сыновья рядовых самураев получали, как правило, лишь домашнее воспитание и в крайнем случае могли посещать частные школы. Сёгун, даймё и другие высшие представители сословия воинов отправляли своих сыновей в государственные элитные школы. Помимо различных боевых искусств юноши постигали там учение глубоко почитавшегося в Японии китайского философа Конфуция, а также изучали математику, медицину и фармацевтику, поэзию и музыку, овладевали искусством каллиграфии. Таким образом, когда знатные молодые самураи покидали стены школы, они были не только превосходными воинами, но и в высшей степени образованными людьми, способными тонко чувствовать прекрасное.

Свои первые доспехи мальчик-самурай надевал, когда его принимали в рыцарское сословие. Выполнены они были по образцу доспехов отца (сзади).