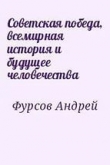Текст книги "О самом себе"
Автор книги: Вольф Мессинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Вольф Мессинг
О САМОМ СЕБЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
Сегодня мне предстоит выступить с очередным сеансом моих «Психологических опытов». Мне предстоит выйти в зал, где сидит почти тысяча человек и все смотрят на меня. Мне надо захватить этих людей, взволновать и удивить их, показывая им мое искусство, которое большая половина из них считает чудесным, удивить и в то же время, не разочаровывая, убедить, что ничего чудесного в этом нет, что все делается силой человеческого разума и воли.
А ведь это совсем нелегко – выйти одному в зал, где на тебя устремлены тысячи глаз: недоверчивых, сомневающихся, бывает и просто враждебных, – и без сочувствия, без поддержки, во всяком случае в первые, самые трудные, минуты, выполнить свою работу.
Психологические опыты – это моя работа, и она совсем нелегка! Мне надо собрать все свои силы, напрячь все свои способности, сконцентрировать всю свою волю, как спортсмену перед прыжком, как молотобойцу перед ударом тяжелой кувалдой. Мой труд не легче труда молотобойца и спортсмена, или конструктора, склонившегося над чертежом новой машины, или геолога, по неведомой тропке отыскивающего в непроходимой тайге редкий минерал... И те, кто бывали на моих психологических опытах, иной раз видели капли пота, выступающие на моем лбу...
Сегодня мне выступать... И задолго до начала выступления, когда зрители только еще начинают думать о том, что сегодня вечером они встретятся со мной, я уже там – в этом большом, пока еще пустом зале, где должна состояться наша встреча. В раздевалке висят одиноких два-три пальто... Уборщицы возятся с пылесосами, завершая очистку зала... Администрация занимается текущими делами. Я прохожу в артистическую комнату и закрываю за собой дверь... Мне надо побыть одному...
Но вот я чувствую, что скоро выходить на сцену... В фойе стоят группами молодые и пожилые люди, мужчины, женщины, юноши, девушки... Инженеры и бухгалтеры... Ученые и металлисты... Военные... Строители... Горняки... Мне приходилось выступать в разных местах и, соответственно, перед разными аудиториями. В годы войны зал был битком набит людьми в одноцветной защитной форме – ни одного голубого или белого пятнышка девичьего платья не удавалось увидеть в их рядах... На дальних стройках Сибири и теперь еще зал заполняют преимущественно люди в комбинезонах. Они приходят сюда прямо с работы, эти веселые ребята – бетонщики, плотники, сварщики, бульдозеристы... На целинных землях в зале, бывает, не найдешь ни одной седой или лысой головы – сплошь молодые улыбающиеся лица... И со всеми надо найти контакт. Но всегда я сидел вот так, как сегодня, перед выступлением в полном одиночестве, собираясь с силами и представляя себе их – этих людей, с которыми в этот вечер мне предстоит встретиться.
Я испытываю к ним острейший интерес! Сознаюсь, нередко перед началом опытов, когда я чувствую, что уже успел внутренне собраться и готов к выступлению, я выхожу на сцену, приоткрываю слегка занавес и в щель смотрю в зал. Еще стоят в проходах между рядами люди. Смотрят на билеты. Ищут свои места. Встречаются со знакомыми. Разговаривают. Обрывки слов иногда долетают до моих ушей. Нередко разговор заходит обо мне.
Вот проходит молодой человек с несколько холодным, как мне кажется, лицом. Он ведет под руку красивую девушку.
– Очень тонкое шарлатанство... Помнишь Кио? Тоже ведь не могли мы разгадать его фокусов... А тот и не скрывал, что он фокусник, иллюзионист. Того же типа и Мессинг... Только не так-то легко разоблачить его здесь, на сцене.
Не скрою – обидно! Никогда в жизни я не говорил неправды. Все, что я делаю на сцене и в зале, открыто со всех сторон. У меня нет ни хитроумной аппаратуры, как у Кио и других иллюзионистов, ни сверхразвитой ловкости пальцев, как, скажем у известных манипуляторов Дика Читашвили или Арутюна Акопяна... Не прибегаю я и к чревовещанию и шифрованной сигнализации с тайными помощниками. Я не фокусник, даже не артист, хотя выступаю на эстраде. Я демонстрирую психологические опыты. И ничего больше. И мне неприятно, когда меня считают шарлатаном и обманщиком.
Проходите на свой ряд, молодой человек! Я буду рад, если вы перемените сегодня свое мнение.
Рядом со мной, в двух шагах от портьеры, остановилась новая группа людей. До меня доносится голос:
– У него за ухом шишка... В нее вшит прямо под кожу радиоприемник на полупроводниках... Вот увидите, он все время будет руку к уху прикладывать – настраивать на нужную волну... А в зале сидят тайные помощники с радиопередатчиками. Они ему и диктуют, что делать... Никаких чудес здесь нет...
Это рассказывает трем юношам пожилой человек, возможно их учитель.
Внутренне улыбаюсь! Да, у меня есть привычка во время сеанса правую руку прикладывать раструбом к уху – этим я хочу подчеркнуть свое внимание, показать, что я напряженно вслушиваюсь... А вот шишки за ухом у меня уже нет. Была... Не злокачественное жировое образование, какое встречается у многих... Впервые услышав, что в этом месте у меня скрыт радиоприемник, я пошел к профессору Петровскому Борису Михайловичу и попросил удалить этот нарост. Надо будет во время сеанса специально подойти поближе к этим юношам и продемонстрировать им свой череп со всех сторон. Пусть убедятся, что я не обвешан аппаратурой...
...Еще двое. Видимо, молодые физики. Продолжается начатый в фойе, а может быть и еще раньше, горячий спор:
– Но электромагнитный спектр изучен во всем диапазоне. От сверхжестких гамма-лучей до сверхдлинных радиоволн... В нем нет ни одного участка, на котором могла бы осуществляться телепатическая связь...
– Парапсихическая связь...
– Дело не в терминах...
– Понимаю, что не в терминах, но слово «телепатия», к сожалению, скомпрометировано доморощенными всезнайками...
– Но все равно материального поля, которое бы служило передачей информации непосредственно из мозга в мозг, не существует...
– Друг мой! Всего сто лет назад, если смотреть с этих позиций, не было материального поля для передачи звуков и изображения на большие расстояния. Ведь радиоволны-то были открыты Генрихом Герцем только в 1886 году...
– Ты думаешь, существует еще какое-нибудь поле?..
– А почему бы и нет?
– Оно было бы уже замечено учеными...
– С помощью приборов, предназначенных для изучения электромагнитного поля?.. Попробуй ватерпасом или безменом замерить напряженность радиоволн...
– Да, ты прав... Было бы интересно поработать с самим Мессингом! Посадить его в заземленную медную клетку... Смог ли бы он оттуда читать мысли? Это сразу бы исключило возможность участия здесь любых лучей электромагнитного спектра...
– Превратить Мессинга в подопытного кролика? Неприлично.
Они проходят в зал. Жаль... Умные ребята! И я бы не отказался от почетной, с моей точки зрения, роли подопытного кролика посидеть в заземленной медной клетке... Мне самому было бы интересно узнать, участвует ли в моих психологических опытах электромагнитное поле? Или надо искать новые виды поля, которые не регистрируются и не отмечаются существующими сегодня приборами физиков.
...Две дамы в вечерних платьях.
– Милочка, это настоящий волшебник! Как граф Калиостро! Ах, ты не веришь мне: в наш материалистический век угасла вера в настоящее волшебство! Вот сама увидишь! То, что он показывает, – это сотая доля того, что он может. Он, например, может принимать облик любого животного, превращаться в тигра или собаку...
– Почему же он не превращается?
– Ему запретили это делать. Он подписку дал...
Да, и такую чушь о себе приходится иной раз слышать!
...Молодые люди:
– Нет, Мессинг не обманщик... Но он и не телепат... Гигантский жизненный опыт. Привычка по одному взгляду составлять полное представление о человеке...
Прошли мимо.
А вот и еще... Снова группа молодых людей.
– Никакого чуда, конечно, нет... Но есть удивительные способности. Или, точнее, чрезвычайно развитые способности... Да, да... Я уже присутствовал на психологических опытах в нашей клинике и утверждаю: все дело в удивительных способностях этого человека. Но ничего общего не имеющих ни с фокусничеством, ни, конечно, с какой бы то ни было чертовщиной...
– Удивительные непонятные способности?
– Да, непонятные!.. Ну а когда ты слушаешь только что рожденные на твоих глазах стихи поэта-импровизатора – разве это так уж понятно? А человек с математическими способностями, в уме переумножающий, возводящий во вторую и третью степень девятизначные числа – это разве понятно?
– Это верно, – продолжает другой, – действительно, многое ли мы знаем сейчас о способностях человека? Тайна рождения в мозгу человека идеи, мысли – и сегодня еще величайшая тайна природы. Рефлексы, первая и вторая сигнальные системы – это только самые дальние подходы к расшифровке этой тайны. Да, мы вышли в космос, разгадали тайну атомного ядра, сняв с нее семь печатей. Но, видно, прорваться в мир элементарных частиц было легче, чем разгадать тайну рождения мысли.
– Как ты думаешь, разгадаем?
– Уверен, настанет время, и ум человека разберется и в себе самом... И кто знает, может быть, именно психологические опыты Вольфа Мессинга могут стать одним из тех ключиков, с помощью которых будут открывать двери к этим самым сокровенным секретам природы?..
Спасибо вам, друзья, за эти слова! Конечно же, никакого чуда нет, да и быть не может!.. Я сам думаю так же. Мне радостно. Я чувствую прилив сил. В зале есть люди, которых интересует мое искусство, которым оно, быть может, поможет в жизни, в труде, в открытиях новых тайн природы... Сегодня я буду особенно хорошо работать...
Но звонит звонок, зрители расходятся по своим местам. А я иду назад в пустую комнату. У меня есть еще несколько минут для того, чтобы сосредоточиться...
Потом – два часа напряженной работы. Я буду говорить о них позже подробнее. Это труднейшие в моей жизни часы и в то же время самые счастливые в моей жизни часы. Это – часы творчества!.. Наверное, так же счастлив поэт, поймавший, наконец, ускользнувшую рифму, художник, схвативший и на века пригвоздивший к полотну мимолетное дыхание прибрежного ветерка... Жизнь была бы пустой и ненужной без этих труднейших и счастливейших часов творчества.
А потом в той же пустой комнате я пью крепкий горячий чай. Готовясь к выступлению, я ем очень мало. Нередко в этот день я вообще не обедаю. И этот чай, заработанный мной, мне кажется особенно сладок... Я чувствую усталость и удовлетворение. Такое же удовлетворение чувствует каждый рабочий человек, окончивший свой труд и пьющий, как я, свой стакан чая.
Я дал людям радость. Я заставил их думать... Спорить... Теперь можно и отдохнуть...
В это время обычно заходят ко мне люди, которые хотят мне высказать свои соображения о моих опытах, быть может, с чем-нибудь не согласиться, поспорить, попросить объяснения, а то и просто посоветоваться о каком-то трудном случае из жизни. Но большинство уносит эти вопросы с собой... Домой... И уже в других городах, на других сеансах, другими людьми они вернутся ко мне в таких же разговорах, какие я слушал сегодня перед началом сеанса.
Возвращаются к себе домой, а может быть, направляются на ночное дежурство и молодые врачи, разговор которых так взволновал меня... Идут домой или к незаконченным чертежам и молодые физики, мечтавшие поговорить со мной... Увы! Я не могу поговорить со всеми. Но я постараюсь на страницах этой книги ответить на вопросы, которые мне в разное время задавали. Ответить абсолютно откровенно, ничего не скрывая, ничего не прикрашивая. К сожалению, далеко не всем своим опытом я могу дать достаточно исчерпывающие объяснения: многие свойства своего мышления я сам не понимаю. Я был бы рад, если бы мне кто-нибудь помог в этом разобраться.
Глава I
ГОДЫ И ВСТРЕЧИ
Я родился в России, точнее, на территории Российской империи, в крохотном еврейском местечке Гора-Калевария близ Варшавы. Произошло это в канун нового века – 10 сентября 1899 года.
Трудно сейчас представить и описать жизнь такого местечка – однообразную, скудную, наполненную суевериями и борьбой за кусок хлеба. Гораздо лучше меня это сделал в своих произведениях великий еврейский писатель Шолом-Алейхем... Этого удивительного человека, так великолепно знавшего жизнь и чаяния еврейской бедноты, я любил с раннего детства. С первой и, к сожалению, единственной нашей личной встречи, когда ему, уже прославленному писателю, остановившемуся проездом в наших местах, демонстрировали меня, девятилетнего мальчика, учившегося успешнее других. Помню его внимательный взгляд из-под очков, небольшую бородку и пышные усы. Помню, как он ласково потрепал меня по щеке и предсказал большое будущее... Нет, это не было предвидением. Просто Шолом-Алейхем верил в неисчерпаемую талантливость народа и в каждом втором мальчике хотел видеть будущее светило. Эта вера отчетливо проявилась и в его проникнутых теплотой к простым людям книгах. Вспомните хотя бы его роман «Блуждающие звезды»... Конечно, с его новеллами, романами и пьесами я познакомился значительно позднее. Но и сейчас еще, когда я открываю иные страницы его книг, меня охватывают впечатления раннего детства. Вот к этим волшебным страницам одного из самых любимых моих писателей я и отсылаю своего читателя, который захочет представить жизнь еврейского местечка, в котором я появился на свет и прожил первые годы своей жизни.
От этих первых лет не так уж много осталось у меня в памяти. Маленький деревянный домик, в котором жила наша семья – отец, мать и мы, четыре брата. Сад, в котором целыми днями возился с деревьями и кустами отец и который нам не принадлежал. Но все же именно этот сад, арендуемый отцом, был единственным источником нашего существования. Помню пьянящий аромат яблок, собранных для продажи... Помню лицо отца, ласковый взгляд матери, детские игры с братьями. Жизнь сложилась потом нелегкой, мне, как и многим моим современникам, довелось немало пережить, и превратности судьбы оказались такими, что от детства в памяти не осталось ничего, кроме отдельных разрозненных воспоминаний.
Отец, братья, все родственники погибли в Майданеке, в варшавском гетто в годы, когда фашизм объявил войну человечеству. Мать, к счастью, умерла раньше от разрыва сердца. И у меня не осталось даже фотокарточки от тех лет жизни... Ни отца... ни матери... ни братьев...
Вся семья – тон этому задавали отец и мать – была очень набожной, фанатически религиозной. Все предписания религии исполнялись неукоснительно. Бог в представлениях моих родителей был суровым, требовательным, не спускавшим ни малейших провинностей. Но честным и справедливым.
Отец не баловал нас, детей, лаской и нежностью. Я помню ласковые руки матери и жесткую, беспощадную руку отца. Он не стеснялся задать любому из нас самую беспощадную трепку. Во всяком случае, к нему нельзя было прийти пожаловаться на то, что тебя обидели. За это он бил беспощадно, обиженный был для него вдвойне и втройне виноватым за то, что позволил себя обидеть. Это была бесчеловечная мораль, рассчитанная на то, чтобы вырастить из нас зверят, способных удержаться в жестком и беспощадном мире.
Позже мне рассказывали, что в самом раннем детстве я страдал лунатизмом. Якобы мать однажды увидела, как я во сне встал с кровати, подошел к окну, в которое ярко светила луна, и, открыв его, попытался влезть на подоконник... Излечили меня – опять же по рассказам – корытом с холодной водой, которое в течение некоторого времени ставили у моей кровати. Вставая, я попадал ногой в холодную воду и просыпался... Какова доля правды в этом сообщении, установить не берусь, но я дал обещание ни о чем не умалчивать. Может быть, какой-нибудь на первый взгляд совсем малозначащий эпизод окажется для кого-нибудь из специалистов, прочитающих эту книгу, наиболее интересным и важным.
Когда мне исполнилось шесть лет, меня отдали в хедер. Это слово немного говорит современному читателю. Но ведь шестьдесят лег назад три четверти населения царской России были вообще неграмотными. И люди ниже среднего достатка, какими были мои родители, да еще в бедном еврейском местечке, могли учить своих детей только в хедере – школе, организуемой раввином при синагоге. Основным предметом, преподаваемым там, был талмуд, молитвы из которого страница за страницей мы учили наизусть...
У меня была отличная память, и в этом довольно-таки бессмысленном занятии – зубрежке талмуда – я преуспевал. Меня хвалили, ставили в пример. Именно эта моя способность и явилась причиной встречи с Шолом-Алейхемом... Но общая религиозная атмосфера, царившая в хедере и дома, сделала меня крайне набожным, суеверным, нервным..
Отметив мою набожность и способность к запоминанию молитв талмуда, раввин решил послать меня в специальное учебное заведение, готовившее духовных служителей, – иешибот. У моих родителей и мысли не появилось возразить против этого плана. Раз раввин сказал, значит, так надо!.. Но мне отнюдь не улыбалась перспектива надеть черное платье священнослужителя...
Я наотрез отказался идти после окончания хедера в иешибот. Со мной сначала спорили, потом отступились. И тут произошло первое и единственное в моей жизни чудо, в которое я верил довольно долго. С тех пор я не верю чудесам, но ведь тогда мне было всего девять лет...
Однажды отец послал меня в лавку за пачкой папирос. Время было вечернее, солнце зашло и наступили сумерки. К крыльцу своего дома я подошел уже в полной темноте. И вдруг на ступеньках выросла гигантская фигура в белом одеянии. Я разглядел огромную бороду, широкое скуластое лицо, необыкновенно сверкавшие глаза... Воздев руки в широких рукавах к небу, этот небесный – в моем тогдашнем представлении – вестник произнес:
– Сын мой! Свыше я послан к тебе... предречь будущее твое во служение Богу. Иди в иешибот! Будет угодна Богу твоя молитва...
Нетрудно представить себе впечатление, которое произвели эти слова, сказанные громоподобным голосом, на нервного, мистически настроенного, экзальтированного мальчика. Оно было подобно вспышке молнии и удару грома. Я упал на землю и потерял сознание...
Очнулся – надо мной громко читают молитвы склонившиеся отец и мать. Помню их встревоженные лица. Но едва я пришел в себя, тревога их улеглась. Я рассказал о случившемся со мной родителям. Отец, внушительно кашлянув, произнес:
– Так хочет Бог... Ну, пойдешь в иешибот? Мать промолчала.
Потрясенный происшедшим, я не имел сил сопротивляться, и вынужден был сдаться.
...Помню иешибот. Он помещался в другом городе, и с этого началась моя жизнь вне дома. Опять талмуд, те же самые, что в хедере, молитвы. Более широкий круг учителей, сменявших друг друга, преподносивших нам разные науки. Кормился – по суткам – в разных домах. Спал в молитвенном доме. Так прошло два года. И так, наверное, и сделали бы из меня раввина, если бы не одна случайная встреча.
Однажды в том самом молитвенном доме, где я жил, остановился странник – мужчина гигантского роста и атлетического телосложения. Каково же было мое изумление, когда по голосу я узнал в нем того самого «посланника неба», который наставлял меня от имени самого Господа Бога на путь служения ему... Да, это было то же лицо: широкая борода, выдающиеся скулы. Я испытал потрясение не меньшее, чем в момент первой с ним встречи.
Значит, отец просто сговорился с этим прошедшим огонь и воду проходимцем, может быть, даже заплатил ему, чтобы тот сыграл свою «божественную» роль! Значит, отец попросту обманул меня, чтобы заставить пойти в иешибот! Если пошел на обман мой всегда справедливый и правдивый отец, то кому же верить?! Тогда ложь все, что я знаю, все, чему меня учили... Может быть, лжет и Бог?!. Может быть, его и нет совсем? Ну конечно же его нет, ибо существуй он – всезнающий и всевидящий, он не допустил бы такое... Он на месте поразил бы громом нечестивца, осмелившегося присвоить себе право говорить от его имени... Нет Бога... Нет Бога...
Примерно такой вихрь мыслей пронесся у меня в голове, мгновенно разметав в клочки и очистив мой разум от всего того мусора суеверий и религиозности, которым меня напичкали в семье и в духовных школах...
...Мне нечего было больше делать в иешиботе, где меня пытались научить служить несуществующему Богу... Я не мог вернуться и домой к обманувшему меня отцу. И я поступил так, как нередко поступали юноши в моем возрасте, разочаровавшиеся во всем, что было для них святого в жизни: обрезал ножницами длинные полы своей одежды и решил бежать. Но для этого нужны были деньги, а где их взять? И тогда я совершил одно за другим сразу три преступления.
Сломав кружку, в которую верующие евреи опускали свои трудовые деньги «на Палестину», и твердя про себя извечные слова всех обиженных и угнетенных: «Вот вам за это!..», я пересыпал себе в карман все ее содержимое: раз Бога нет, значит, теперь все можно... К счастью, оказалось, что это не так, что есть и помимо угрозы божьего наказания мотивы, удерживающие человека от дурных поступков. Но в те годы я еще не знал, что обманывать, совершать непорядочные поступки – это, прежде всего, терять уважение к самому себе. Я присел на холодных ступеньках молельного дома и пересчитал украденные деньги. Оказалось, как сейчас помню, восемнадцать грошей, которые составляли девять копеек. И вот с этим «капиталом», с опустошенной душой и сердцем я отправился навстречу неизвестности.
Пошел на ближайшую станцию железной дороги. По дороге очень захотелось есть – путь был неблизкий. Накопал на чужом поле картошки (второе преступление за одну ночь!). Разжег костер, испек ее в золе. Для меня и теперь нет лучшего лакомства, чем печеный картофель – рассыпчатый, пахнущий дымом, с неизбежной добавкой солоноватой золы...
Вошел в полупустой вагон первого попавшегося поезда. Оказалось, что он шел в Берлин. Залез под скамейку, ибо билета У меня не было (третье преступление!), и заснул безмятежным сном праведника.
Но этим не исчерпывались события столь памятной для меня ночи.
Случилось то, что неизбежно должно было случиться, и чего я больше всего боялся: в дверь вагона вошел кондуктор. Поезд приближался к Познани. Кондуктор осторожно будил заснувших пассажиров, тряся их за плечо, и проверял билеты. Так небыстро, но неизбежно он приближался ко мне. По временам он наклонялся и заглядывал под скамейки. Вагон был плохо освещен – огрызками свечей в двух стеклянных фонарях на его концах. Под скамейками лежали мешки и узлы пассажиров. И поэтому он заметил меня, только когда заглянул непосредственно под мою скамейку.
– Молодой человек, – у меня в ушах и сегодня еще звучит его голос, – ваш билет!..
Нервы мои были напряжены до предела. Я протянул руку и схватил какую-то валявшуюся на полу бумажку – кажется, обрывок газеты... Наши взгляды встретились. Всей силой страсти и ума мне захотелось, чтобы он принял эту грязную бумажку за билет... Он взял ее, как-то странно повертел в руках. Я даже сжался, напрягся, сжигаемый неистовым желанием. Наконец он сунул ее в тяжелые челюсти компостера и щелкнул ими... Протянув мне назад «билет», он еще раз посветил мне в лицо своим кондукторским фонарем со свечкой. Он был, видимо, в полном недоумении: этот маленький худощавый мальчик с бледным лицом, имея билет, зачем-то забрался под скамейку... И подобревшим голосом сказал:
– Зачем же вы с билетом – и под лавкой едете?.. Есть же места... Через два часа будем в Берлине...
Несколько лет назад я прочитал роман Лиона Фейхтвангера «Братья Лаутензак». Один из братьев – действительно исторически существовавшее лицо, личный, так сказать, «ясновидящий» Адольфа Гитлера. Я знал этого человека – его настоящее имя Ганусен. Мне еще придется вспоминать о нем. Здесь я только хочу обратить внимание читателя на те строки этого романа, где Фейхтвангер рассказывает о первых проявлениях необыкновенных способностей Оскара Лаутензака – о его психологическом поединке с учителем. Не выучившего как следует урок Оскара должен вызвать учитель. Вот карандаш учителя остановился против его фамилии в списке... Вот он смотрит на Оскара и перебирает в памяти вопросы – о чем бы его спросить. Оскар знает из всего материала ответ только на один вопрос. И, глядя прямо в глаза учителю, твердит про себя: спроси это, спроси это... И задумавшийся учитель задает именно тот вопрос, который хочет маленький Оскар...
Не знаю, кто рассказывал Фейхтвангеру этот эпизод, но он психологически удивительно точен. Именно так: в минуту максимального душевного напряжения обычно впервые проявляются способности к внушению. Такое произошло и со мной, когда я лежал на грязном полу под скамейкой вагона, идущего в Берлин. Кстати, это и не так уж трудно, это доступно почти каждому – внушить другому человеку, не знающему, какое из нескольких равноценных решений ему следует принять, предпочтение к тому или иному варианту... Может быть, и вы, если покопаетесь в памяти, вспомните подобное неосознанное внушение, сделанное вами или по отношению к вам... Мой первый, неожиданный для меня самого опыт внушения был куда труднее! Это было первое в моей жизни яркое проявление тех способностей, которые часто считают удивительными.
Так кончилось мое детство. Пожалуй, точнее, у меня не было детства. Была холодная жестокость озлобленного жизнью отца. Была убивающая душу зубрежка в хедере. Только редкие и торопливые ласки матери могу я вспомнить тепло. А впереди была трудная кочевая жизнь, полная взлетов и падений, успехов и огорчений. Впрочем, вряд ли бы согласился я и сегодня сменить ее на любую другую.
Берлин... Много позже я полюбил этот своеобразный, чуть сумрачный город. Конечно, я имею в виду довоенный Берлин; в последние десятилетия я не был в нем. А тогда, в мой первый приезд, он не мог не ошеломить меня, не потрясти своей огромностью, людностью, шумом и абсолютным, как казалось, равнодушием ко мне... Я знал, что на Драгунштрассе останавливаются люди, приезжавшие из нашего городка, и нашел эту улицу. Вскоре я устроился посыльным в доме приезжих. Носил вещи, пакеты, мыл посуду, чистил обувь.
Это были, пожалуй, самые трудные дни в моей нелегкой жизни. Конечно, голодать я умел и до этого, и поэтому хлеб, зарабатываемый своим трудом, был особенно сладок. Но уж очень мало было этого хлеба! Все кончилось бы, вероятно, весьма трагически, если бы не случай...
Однажды меня послали с пакетом в один из пригородов. Это случилось примерно на пятый месяц после того, как я ушел из дома. Прямо на берлинской мостовой я упал в голодном обмороке. Привезли в больницу. Обморок не проходит. Пульса нет, дыхания нет... Тело холодное... Особенно это никого не взволновало и никого не беспокоило. Перенесли меня в морг... И могли бы легко похоронить в общей могиле, если бы какой-то студент не заметил, что сердце у меня все-таки бьется. Почти неуловимо, очень редко, но бьется...
Привел меня в сознание на третьи сутки профессор Абель. Это был талантливый психиатр и невропатолог, пользовавшийся известностью в своих кругах. Ему было лет 45. Был он невысокого роста. Помню хорошо его полное лицо с внимательными глазами, обрамленное пышными бакенбардами. Видимо, ему я обязан не только жизнью, но и открытием своих способностей и их развитием.
Абель объяснил мне, что я находился в состоянии летаргии, вызванной малокровием, истощением, нервными потрясениями. Его очень удивила открывавшаяся у меня способность полностью управлять своим организмом. От него я впервые услышал слово «медиум». Он сказал:
– Вы – удивительный медиум...
Тогда я еще не знал значения этого слова. Абель начал ставить со мной опыты. Прежде всего он старался привить мне чувство уверенности в себе, в свои силы. Он сказал, что я могу приказать себе все, что только мне захочется.
Вместе со своим другом и коллегой профессором-психиатром Шмиттом Абель проводил со мной опыты внушения. Жена Шмитта отдавала мне мысленные приказания, я выполнял их. Эта дама, я даже не помню ее имени, была моим первым индуктором.
Первый опыт был таким. В печку спрятали серебряную монету, но достать я должен был ее не через дверцу, а выломав молотком один кафель в стенке. Это было задумано специально, чтобы не было сомнений в том, что я принял мысленно приказ, а не догадался о нем. И мне пришлось взять молоток, разбить кафель и достать через образовавшееся отверстие монету.
Мне кажется, с этих людей, с улыбки Абеля начала мне улыбаться жизнь. Абель познакомил меня и с первым моим импресарио господином Цельмейстером.
Это был очень высокий, стройный и красивый мужчина лет 35 от роду – представительность не менее важная сторона в работе импресарио, чем талантливость его подопечных актеров. Господин Цельмейстер любил повторять фразу: «Надо работать и жить!..» Понимал он ее своеобразно. Обязанность работать он предоставлял своим подопечным. Себе он оставлял право жить, понимаемое весьма узко. Он любил хороший стол, марочные вина, красивых женщин... И имел все это в течение длительного ряда лет за мой счет. Он сразу же продал меня в берлинский паноптикум. Еженедельно в пятницу утром, до того как раскрывались ворота паноптикума, я ложился в хрустальный гроб и приводил себя в каталептическое состояние. Я буду дальше говорить об этом состоянии, сейчас же ограничусь сообщением, что в течение трех суток – с утра до вечера – я должен был лежать совершенно неподвижно. И по внешнему виду меня нельзя было отличить от покойника.
Берлинский паноптикум был своеобразным зрелищным предприятием: в нем демонстрировались живые экспонаты. Попав туда в первый раз, я сам попросту испугался. В одном помещении стояли сросшиеся боками девушки-сестры. Они перебрасывались веселыми и не всегда невинными шутками с проходившими мимо молодыми людьми. В другом помещении стояла толстая женщина, обнаженная до пояса, с огромной пышной бородой. Кое-кому из публики разрешалось подергать за эту бороду, чтобы убедиться в ее естественном происхождении. В третьем помещении сидел безрукий в трусиках, умевший удивительно ловко одними ногами тасовать и сдавать игральные карты, сворачивать самокрутку или козью ножку, зажигать спичку. Около него всегда стояла толпа зевак. Удивительно ловко он также рисовал ногами. Цветными карандашами он набрасывал портреты желающих, и эти рисунки приносили ему дополнительный заработок... А в четвертом павильоне три дня в неделю лежал на грани жизни и смерти «чудо-мальчик» Вольф Мессинг.
В паноптикуме я проработал более полугода. Значит, около трех месяцев жизни пролежал я в прозрачном холодном гробу. Платили мне целых пять марок в сутки! Для меня, привыкшего к постоянной голодовке, это казалось баснословно большой суммой. Во всяком случае, вполне достаточной не только для того, чтобы прожить самому, но даже и кое-чем помочь родителям. Тогда-то я и послал им первую весть о себе...