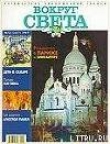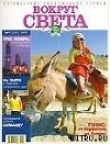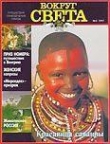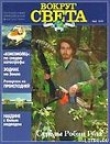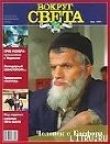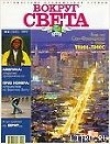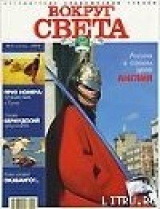
Текст книги "Журнал "Вокруг Света" №7 за 1997 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Потом, оценив меня взглядом с ног до головы, он вдруг спросил:
– Не могли бы вы подарить мне рубаху? Сейчас время зимнее. И, хотя дни жаркие, ночью бывает холодно.
К сожалению, я не мог удовлетворить просьбу «лесного человека», так как взял с собой в дорогу только самое необходимое. А все остальное оставил в Маунге. Но я все же пообещал переслать ему кое-какую одежонку из лагеря – когда буду улетать назад в Маунг.
– Скажите, – в свою очередь обратился я к новому знакомому, – а у вас в Калахари, среди бушменов-кочевников есть родственники?
– Какие там родственники, – сокрушенно ответил он. – Те, кто и был, давно умерли. У нас был такой обычай – в тяжелые времена оставлять слабых и старых умирать в пустыне, чтобы сохранить еду и воду для более крепких. Старики сами просили, чтобы их бросали.
– Но ведь кто-то же остался в живых? – изумился я.
– Да, конечно. Те из моего рода, кто выжили, сейчас работают на фермах, как я и мой брат.
Тут к нему подошел его брат, и они заговорили на родном языке. Я заметил, что во время разговора они как-то причмокивали, но тогда не обратил на это особого внимания. Позже узнал, что чмоканье характерно для своеобразного семейства так называемых «цокающих языков», распространенных среди бушменов и готтентотов. Существует несколько типов цокающих звуков – все они выполняют функции согласных (Лингвисты, бессильные обозначить буквами эти звуки, употребляют для их обозначения восклицательные знаки и двоеточия посреди слова. Например, «tzwa! nа». – Прим. ред.).
Культура бушменов – их песни, танцы, наскальная живопись – пришла сейчас в упадок. В 90 километрах от нашего лагеря находились редкие в Калахари возвышенности – холмы Цодильо, испещренные наскальными рисунками. Это очень хорошо выполненные охрой изображения – главным образом диких животных, а иногда людей. Рисунков очень много, может быть, больше тысячи. Кто их создал? Живущие около Цодильо бушмены об этом понятия не имеют...
Но, в общем, от этой страны у меня осталось отрадное впечатление, потому что люди здесь строят свою жизнь цивилизовано, без расовой вражды, и старательно оберегают уникальный дар природы, дельту реки Окаванго, впадающей в песчаный океан Калахари.
Вадим Добров
Ботсвана
Via est vita: Проклятая дорога

Путешествие по «мертвой» трассе Салехард – Игарка
Мы летим в известную неизвестность. Прямо на восток – туда, где нас никто не ждет, кроме нескончаемых речек, проток, болот и озер с пятнами голой тундры и дремучей тайги. Мы летим на высоте 140-150 метров над пришедшей в полную негодность некогда легендарной линией связи Салехард – Игарка на вертолете Ново-Уренгойского авиаотряда. Чудом уцелевшие телеграфные столбы – основной наш ориентир. Другой, еще более зловещий ориентир, – восточное крыло последней великой сталинской стройки – железной дороги Салехард – Игарка, или «мертвой дороги». Мертвой, потому что не закончена, мертвой и потому, что строилась на костях заключенных советских исправительно-трудовых, а, по Александру Солженицыну, – «истребительно-трудовых» лагерей (МТЛ). Цель нашей экспедиции – найти по маршруту, пролегающему от реки Пур до притока Енисея Турухана, хотя бы один такой островок Архипелага ГуЛАГ, а если быть точнее, островок второй зэковской империи, созданной перед Великой Отечественной, – Главного Управления Лагерей Железнодорожного Строительства (ГУЛДЖС)...
Серпантином петляет под нами река Хадыр-Яха, или, по-простому, – Хадырка. Бот еще одна – Салю-Яха Тарка; кое-где попадаются по пути избы связистов-обходчиков. Когда действовала линия Салехард – Игарка, избы находились на расстоянии 10-20 километров друг от друга...
О том, что закончился Пуровский район и начался Красноселькупский, нам напомнила топографическая карта новоуренгойского краеведа Константина Егорова. Если у ненцев река называется «Яха», то у селькупов – « Кы». И пошли речки Воргэ– Ката-рьгль-Кы, Мэрхы-Кы, Кораль-Кы, Вар-ко-Сыль-Кы, озеро Кыпа-Кыль-Нярэ... Что означают все эти названия"? Ничего особенного. Коренные жители – ненцы, селькупы, ханты – что видели вокруг себя, то и переносили в название. Тарка – развилка, приток реки, Хадыр – скалистый берег, Салю – песчаный, Воргэ – болотистая местность, Нярэ – моховое болото, Кыпа – начало реки, Карко-Сыль – лесной холм в тундре. Весь этот «дыр-пыр» воспринимался бы на слух даже забавно, если бы не одно обстоятельство: через блистер вертолета вокруг не видишь ничего, что напоминало бы о присутствии человека. Заснеженное, покрытое льдом пространство. Вдоль речушек, местами совсем не промерзших, также извилисто тянутся урманные леса. Где их нет – озера, болота.
Как же люди тянули через всю эту мерзлую топь линию связи, с избами и землянками «станционных смотрителей»"? И уже за пределами человеческого понимания вопрос: как прокладывалась на этом же пути одноколейная магистраль Салехард-Игарка протяженностью (по проекту) 1263 километра?..
Смотришь вниз на нее, проклятую, одинокую и охолодевшую – другого определения и не подобрать, – и слышится тихий заунывный голос бывшей заключенной, поэта и музыканта Татьяны Лещенко-Сухомлиной:
Ты не согретая, мне тебя жаль,
Твоя мерзлота не растает.
Над тундрой стоит такая печаль,
Какой на земле не бывает...
Вехи «мертвой дороги»
Идея проложить трансконтинентальную железнодорожную магистраль по северу России – как бы дублера Северного морского пути – витала в государственных умах еще до семнадцатого года. Но царское правительство остановилось на более реальном проекте – Транссибе. С 1891 по 1905 год была построена гигантская одноколейная Транссибирская магистраль, протянувшаяся на 7416 километров от Челябинска до Владивостока. Что касается Северной железной дороги, при том уровне развития науки и техники, какой был в первые годы советской власти, ее могли проложить только зэки, работавшие за пайку хлеба и под дулами винтовок и автоматов. Не хочу повторять леденящие душу строки из солженицынского «Архипелага ГУЛАГ» о порядках в СевЖелДорЛаге – на участке от Котласа до реки Печоры, и в Печор-Лаге – на участке от реки Печоры до Воркуты... Остановлюсь лишь на проекте «мертвой дороги» Салехард – Игарка, о которой Александр Солженицын только упоминает.
4 февраля 1947 года Совет Министров обязал МВД и Главное управление Севморпути выбрать место для строительства морского порта в Обской губе, южнее мыса Каменного, а также железной дороги к нему. 17 февраля была создана Северная проектно-изыскательская экспедиция. 22 апреля Совмин поручает МВД строить железную дорогу Салехард – Чум. 1 мая развернулись изыскательские и строительные работы: железная дорога от Оби, в районе Лабытнанги, должна была повернуть к поселку Яр-Сале, затем на Новый порт и мыс Каменный. Но изыскатели определили, что морской, а значит, глубоководный порт построить в запланированном месте практически невозможно. Новое постановление Совета Министров о переносе порта на Енисей, в район Игарки, окончательно определило направление первого этапа трансполярной магистрали, прокладку которой поручили Главному управлению лагерного железнодорожного строительства – ведомству, возглавляемому Нафталием Френкелем: это он в свое время предложил Сталину изощренную концепцию построения социализма с использованием труда заключенных. При ГУЛДЖС незамедлительно создается Северное управление. В его состав вошли два крыла будущей магистрали: западное – 501-я стройка, от Салехарда до левого берега Пура, и восточное – 503-я стройка, от Игарки до правого берега Пура, как раз там, где сейчас стоит поселок Уренгой, с которого в конце шестидесятых началось освоение уникального газоконденсатного месторождения.
На новой одноколейной дороге предполагалось построить 28 станций, через каждые 40-60 километров. Для переправы через Обь и Енисей за границей заказали два парома. Далее доселе невиданная «стройка коммунизма» должна была пойти через Колыму и Чукотку, по долинам рек Нижняя Тунгуска, Вилюй, Алдан, Индигирка... А там и Берингов пролив не за горами...
О 501-й уже немало написано в последнее время. Так, тюменские и ямальские журналисты по возвращении из экспедиций опубликовали подробные отчеты об увиденном: они встречались с теми, кто работал на западном крыле дороги. А вот о 503-й стройке ямальцы знают меньше, потому что шла она, по сути дела, от Норильска, ведь ввод в строй железной дороги должен был обеспечить круглогодичный вывоз продукции с местного горно-металлургического комбината. Хотя не секрет, что пересыльный пункт был в поселке Тазовский. Через местный отдел ГПУ на баржах в верховья реки Таз отправляли тысячи политических заключенных, а заодно, чтобы у «изменников Родины» земля горела под ногами, с ними вели опасных рецидивистов-уголовников, приговоренных к 10-15 годам строгого режима. Так, с лета 1949-го там, где водным путем можно было доставить подневольный люд, минимум необходимого провианта, оборудование, включая рельсы и разукомплектованные паровозы, начались беспримерные каторжные работы...
На всем протяжении «мертвой дороги» от Пура до Таза нам редко попадались строения, хоть чем-то напоминавшие лагеря заключенных. Дело в том, что в 1953 году, после смерти Сталина, большие начальники решили не только законсервировать стройку, но и уничтожить все концлагеря Северного управления ГУЛДЖС. По всей видимости, боялись разоблачения. Да и как не бояться?..
Тысячи людей замерзли, погибли от истощения и непосильной работы на этой обозначенной лишь условным направлением трассе – тела их не просто хоронили без гробов, привязывая к ноге только бирку с номером личного дела... трупы едва присыпали землей.
Есть такое выражение – «пушечное мясо». В нашем случае строители полярной одноколейки были «дорожным мясом». И это «дорожное мясо» в послевоенное время поставлялось на великую стройку в неограниченном количестве.
За время Великой Отечественной большую часть трассы прошли советские изыскатели – по тому пути, который еще в прошлом столетии разведали сподвижники знаменитого купца, золотопромышленника, одного из видных деятелей Севера Михаила Сидорова (1823 – 1887). Первопроходцы искали дорогу, чтобы вывезти на оленях с Енисея – с курейских рудников Сидорова – в Печорский порт 20 тысяч пудов фа-фита. Еще 50 тысяч добытого минерала так до сих пор и лежат в тундре – царское правительство не проявило тогда интереса к осуществлению этого плана...
Технический проект железной дороги Салехард – Игарка изыскатели представили Северному управлению только в 1952 году, когда значительная часть одноколейки уже была проведена по зэковским костям – через 50-60-градусные морозы, кромешные метели, через гнус и торфяник, где шаг в сторону – пропал...

Трансполярка
Наш вертолет делает круг над темной лентой реки Таз. Река вдоль берегов уже покрылась кромкой хрупкого заснеженного льда. Полдень, 23 октября. Распогодилось так, что снег и лед на реке и повсюду заискрились алмазными бликами. На высоком правом берегу Таза наша экспедиция обнаружила несколько паровозов, вагонов, ангар с рухнувшей крышей (судя по всему, – бывшее паровозное депо); чуть дальше от реки, восточнее – небольшой заброшенный поселок Долгий – первая на нашем пути стоянка. Садимся. Земля как бы уходит из-под ног – иллюзия, созданная снежной круговертью от винтокрылой машины.
Через пять минут мы уже продираемся сквозь заросли тальника к заветным локомотивам и вагонам. Перед нами – один из участков законсервированной в 1953 году 503-й стройки. Время берет свое. Ржавчина покрыла когда-то блестевшие от смазки четыре товарных паровоза серии «Ов», в просторечьи «овечки». Такие паровозы, без будки машиниста, строились в России еще до революционных потрясений. Разрушенные временем и людьми товарные телячьи вагоны, в том числе немецкие, живо напомнили о том, кого перевозили в них по этапам – от лагеря к лагерю...
Поздновато посетили эти заповедные места представители Всероссийского общества охраны памятников культуры. После них на паровозах, осталось лишь выведенное белой масляной краской напоминание: «ПАМЯТНИК ИСТОРИИ ТЕХНИКИ ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ. ВООПИК 16.08.81». На вагонах тоже можно различить место их приписки: «КАПРЕМОНТ ПЕЧОРА. БАМ». А то просто – «ГУДДЖС».
А рельсы? Какие только ни шли в ход на прокладку этой дороги в никуда! Немецкие, чехословацкие, американские (из штата Иллинойс – видимо, по ленд-лизу) и царские (аж 1907 года!). В этой «рельсовой» мешанине мы убедились воочию. Здесь явно было не до стандартов. Поэтому и накладки – стыковые скрепления между рельсов – по большей части делались из лиственницы, ели, кедра...
Опять по кочкам и сквозь тальник, потом через протоку – и мы попадаем в заброшенный поселок Долгий, построенный зэками для вольнонаемных на месте старинного селения Таз. Шагаем от одного полуразрушенного домика к другому, от сарая к сараю, натыкаемся в снежном подворье то на потемневший от времени, прохудившийся таз, то на проржавевшую мятую «буржуйку», то на заваленный погреб или разваленную кирпичную стенку и понимаем, что для того времени люди здесь жили «неплохо». В одном из помещений, приоткрыв дверцу кухонного шкафа, я обнаружил листки отрывного календаря. Сердце екнуло. Но все было более чем прозаично: на календаре стоял 1977 год – шестидесятилетняя годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Значит, люди проживали тут относительно недавно, сохранили листочки с интересной информацией. Например, о «мертвой петле» Нестерова, молодых городах, воспитании детей и о многом другом. Что держало их здесь? Рыболовство, охота?.. А может, тут была метеорологическая станция?..
Сегодня нам трудно, точнее невозможно оценить, сколько средств было затрачено на строительство трансполярки, сколько жизней было загублено, сколько судеб исковеркано...
В радиусе пяти километров от Долгого, как объяснил наш проводник – краевед Константин Егоров, до сих пор сохранились остовы двух лагерей. Один – южнее, другой – восточнее правого берега реки Таз. Но дойти до них мы не были готовы – короткий световой день позвал нас дальше на восток, уже в Красноярский край, где в районе еще одного нежилого поселка, Ключ, экспедиция сделала посадку в нескольких метрах от другого спецлага...

Лагерь
Сначала, кроме подлеска из березы, ли и лиственницы, не замечаешь ничего. И вдруг, как на галографической картинке с третьим измерением, проступает ограждение из колючей проволоки. Оно как бы выходит на первый план из сравнительно молодой поросли и преграждает нам дорогу в мертвой тишине – словно дает понять: здесь вам делать нечего! Но мы не отступаем – находим в ограждении проем и проникаем в зону одного из лагерей, с которого начинался участок 503-й стройки от верховьев реки Большая Блудная (впадает в Турухан) до реки Таз (район поселка Долгий)...
Можно только предположить, с чего начинался этот заброшенный концентрационный лагерь. Не намного погрешу против истины, если скажу следующее. Зэков-строителей восточного крыла трансполярки во время навигации сотнями сплавляли в душных трюмах барж по Енисею до поселка Ермаково, где находилось управление ИТЛ и строительства объекта №503 ГУЛДЖС МВД СССР Тюменской области. Затем баржи шли до Турухана, притока Енисея. С Турухана по большой воде тащились в Большую и шли в ее верховья до тех пор, пока было возможно. Прибывали как раз к промозглому северному сентябрю.
Там, где заканчивался этап, ставили лагерь. Начинался он с рубки леса, очистки и разметки территории площадью 400 на 400 метров, возведения вышек по углам, от которых тянулось ограждение из колючей проволоки, – и все это венчали ворота. Они были не простыми, а обязательно с лозунгом на арке, типа:
«Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства...» Ваковское же жилье строилось уже после сооружения главной зоны...
Обнаружив то, что осталось от передних и единственных ворот лагеря, мы снова проникаем в него, идем по главной улице шириной метра три. Идем, как по просеке, – дорога, с обеих сторон которой тянутся едва заметные сточные канавы, еще не успела зарасти лесом, видимо, потому, что ее полотно было выложено речным песком, галькой и камнями. Справа от главной улицы стоит бывшая караульная.
Подошел ко входу, дернул за веревочку – дверь и открылась. Караульная обжита охотниками – и превратилась в добротную, хотя и запущенную, заимку. Можно печь истопить, есть кое-какая посуда, лежаки, валяется кусок войлока для пыжей, банки...
Целых бараков в лагере мы не видели – все завалены. Что хранится под этими склизкими бревнами, покрытыми снегом, – под этими жуткими обломками? Есть ли там тайники с записками и письмами заключенных? Ответить на эти вопросы нам пока не позволили ни время, ни наши ограниченные возможности.
Удручающее впечатление в левой стороне лагеря, за разрушенными бараками, оставила баня. Здания, как такового, нет – три стены и провалившаяся крыша. В центре – некое подобие печи с вмонтированным в нее котлом. В котле замерзшая дождевая вода. Зэки голыми, через весь двор, бежали сюда из своих бараков или из специального домика, где раздевались... а после одевались. Давали ли в этой бане по шайке горячей воды и время на помывку? Рассказать об этом может сегодня только случайно оставшийся в живых очевидец тех банных дней...
И, наконец, вышка. Единственная в левом заднем углу исправительно-трудового лагеря номер 1. Она – главный его символ, знак смерти. Не зря же для советского заключенного слово «вышка» («вышак») означает высшую меру наказания, расстрел. С вышки стреляли при попытке к бегству, при волнениях. Под вышку же ставили летом «на комара». Так, достоверно известно, что в лагерях на речке Таз провинившийся, с ног до головы облепленный и изъеденный гнусом, даже не смел шевельнуться – охранник стрелял без предупреждения!
Со временем наша лагерная вышка как бы осела – опустилась, состарилась, и от нее уже не веет страхом, но по-прежнему смотрит она своими пустыми окошками-бойницами и дверным проемом надменно, сверху вниз. По лестнице поднимаюсь в «скворечник». Был он когда-то основательно утеплен: между вертикально и горизонтально пришитыми досками проложены опилки, стекловолокно, в дальнем углу сверху остались следы от телефонной подставки, внизу – от сиденья для часового. Над верхним ближним углом вышки продолжает висеть кусок рельса – зэковский колокол, поднимавший людей на работу.
Вместо эпилога
За сорок с лишним лет на территории бывшего ИТЛ (где-то в десяти километрах от вышеупомянутого нежилого поселка Ключ) вырос молодой лес. Он разросся повсюду и поднялся выше уцелевших построек, выше самой ВЫШКИ. И когда мы покидали это зловещее место, мне показалось, что в каждой березе, ели, лиственнице, иве, проросшей здесь, возродились души людей, замученных на строительстве этого участка «мертвой дороги». Разных, как лес, людей – но всегда голодных, мокрых и замерзших. Нет, они не исчезли в никуда, а снова явились на свет – и встали плотной серо-зеленой стеной, чтобы сокрыть от взоров живущих страшный памятник своих мучений...
Виктор Мурзин / фото автора
Увлечения: Охотники за пароходами

Сидел я как-то в городском музее Рыбинска и читал письма от стариков, чью родину залили ненужным морем. На одной стене вижу – что бы вы думали? Дореволюционное расписание пароходных рейсов по Волге. От Рыбинска до самой Астрахани! Вот где они, родимые, старинные пароходы должны быть. Скорее на Волгу!
– Это ничего, что ты не рубишь, – говорит Леня. – У нас тоже такие есть. Не рубят, а кайф ловят. От колес красных, от дыма сладкого. От того даже, как встают спиной к насыпи, когда «парень» прет, и ощущают. А ты от чего? И случай расскажи. Случай-то был ведь?
...Тих и прекрасен этот вечер на Волге. Огромен матово-сизый разлив ее, поголубело небо, выбеленное за день; только ниже по плесу, где темнеет над излучиной долгий кряж, стелются облака, и цвет их один с рекою. Мерцаю! на склонах несколько огоньков, неспешно загораются другие, и тянется мимо них, повторяя луку по фарватеру, черный катерок, зажегший по борту зеленый фонарь, а на мачте золотистый. А с того берега пошел по чернильной глади другой: вильнув кормой, он пересекает дорожку от громадной мутно-белой луны и оставляет за собой серебристую извилину. Уже много огоньков мерцают на дальнем кряже; вспыхивает гирлянда и на длиннющем мосту, который ведет в милый город со странным названием Энгельс.
Толпы саратовцев высыпали сегодня на набережную; люди оживлены, деловито впитывают кожей первое летнее тепло. Иные, впрочем, оседают на скамейках, как, например, эти двое, что тянут пиво и беседуют. То гости города, охотники за пароходами, один из них – я. другой – Леня, паровозник из Общества любителей железных дорог (Журнал писал об этом обществе. См. «ВС» № 5/97, очерк А.Кузнецова «Паровоз, черный и прекрасный». – Прим. ред.), соблазненный в экспедицию миражами диковинных котлов и цилиндров. Два дня уже мы здесь, можно поделиться некоторыми наблюдениями. Леня выяснил, например, что компаньон его вовсе не сведущ в технике, и звучит чуть загадочная фраза, с которой я начал. «Парень» у них – это, конечно же, паровоз. А насчет пароходов немедленно объяснюсь.

Началось все лет семь назад. Прохаживаясь меж великих памятников древнего города Бухары, я взобрался на плоский холм, некогда занятый цитаделью, поглядел на ямы и кирпичи, а потом, незаметно для себя, перелез через дощатый забор и проник без билета в краеведческий музей, что был в сохранной части дворца эмира. Я оглядел каменный дворик и спустился на следующий, постоял здесь с одной экскурсией, а там – с другой, и, наконец, поднялся по деревянной лесенке на старую веранду – в музейный зал. Там-то оно и висело, пожелтелое и склеенное на сгибах, нелепое и чудесное – «Расписание срочных почтово-товарно-пассажирских рейсов по реке Аму-Дарье» между Чарджуем и Петро-Александровском (Сегодня это Чарджоу и Турткуль – Здесь и далее прим. автора.) на 1902 год.
Как же не вообразить было пароход «Царица», который «из Чарджуя отправляется ровно в 8 часов утра, из всех же остальных пунктов, где остается на ночлег, всегда с рассветом»? Белесая бездна неба и пароход, уткнувшийся в край пустыни? Из трубы валит черный дым, лязгает якорная цепь, лопасти взбивают воду. Судно отваливает, разворачивается, и увлечено уже на стремнину, на простор шоколадной реки, которая извивается хлестко меж зеленоватыми полосками тугаев и безжизненными желтыми кряжами и несет пароход с собою – верста за верстой, день за днем.
Словом, пароход, кусок прошлого, был рядом, но найти его оказалось непросто.
Среднеазиатское пароходство уже дышало на ладан, река мелела, и сколько ни чистили путейцы фарватер на перекатах, все было без толку. Но буксиры-колесники, раскиданные по затонам с зеленоватой водой, – сами желтые, пышнотелые, с неизменным тентом в носу, – были обещанием, даже ключом к будущим находкам.
А потом была командировка в Рыбинск. Сидел в городском музее и читал письма от стариков, чью родину залили ненужным морем. Ходил по залам, осматривал личные очки и личный пиджак Андропова. На одной стене вижу – что бы вы думали? Дореволюционное расписание пароходных рейсов по Волге. От Рыбинска до самой Астрахани!
...В портовом музее Саратова встретились охотники за пароходами, и хозяин, Чернышев Юрий Андреевич, постучал по чашкам свистка судового о трех тоннах, показал еще одно интересное расписание: «Вольск – колония Зельман (Колония Зельман – ныне село Ровное.) Республики немцев Поволжья», а затем подошел к одному из стендов и ткнул в фотографию: вот он, ребята. Сейчас от этой красы мало что осталось, но перед тем, как свезли, мастер залил маслом все механизмы. Из-за границы интересовались, звонили. Только как вам туда попасть? По воде ведь надо, а шторм сегодня, полметра высота волн, и на моторке с нами никто не выйдет.
Ладно, рисуем с лоции странный остров Сазанка, похожий на огромную изрезанную клешню, и под одним из зубьев ее ставим жирный крест.
Не сгодилась нам эта лоция, что толку, что наставлял нас сторож с безлюдной турбазы, у которого взяли лодку: входите в протоку, парни, гребите вдоль, будет прорезь вправо, и заплывайте, там озеро как бы, а под мыском он и есть. Километра полтора вам веслами махать.
Поменяла всю здешнюю топографию высокая вода. Во сколько прорезей уже повходили. Второй раз гребем мимо той трубы над кибиткой. Котельная какая-то дурацкая или... пароход! – догадывается Леня. Хватаюсь за бинокль. Так и есть – кожух колесный различаем, ржавое корыто корпуса. Подплываем еще с надеждой: не тот, может? Однако на кожухе следы букв. Итак, двухпалубный красавец, пароход «Первое мая», он же «Лев Троцкий», он же «Григорий» купцов братьев Каменских, построенный на сормовских заводах в 1909 году, нашел обычную смерть старого парохода – сгорел.

Мягок под ногами желтовато-салатный пепел, и не счесть в нем гвоздей; прогибаются ветхие листы палубы. Железные трубы отопления дыбятся еще уродливым целым, будто жгли здесь полотняный павильон, а сверху повалился огромный штурвал в два обхвата. Нерушимым рядом легли массивные стулья.
Машинное отделение залито водой, но в палубе есть смазочные отверстия: видим валы, сочленения тяг. Машина и впрямь целехонька, и горят глаза моего спутника: перенести бы ее куда-нибудь да запустить, и забегают штоки, заколеблются шатуны, завертятся колена валов, и все будет ходить разом, но каждая деталь по-своему, однако никому не мешая, а в унисон, и замечутся поршни в цилиндрах, погоняя пар. Чух-чух-чух.
Я ступаю в открытую дверь кожуха и перебираюсь на стальную лопасть, вогнутую и длинную, хоть ложись. Разглядываю хитрые рычаги системы Моргана, благодаря которой эта штука и входит в воду, как нож.
И счастлив, что приехал сюда. Пусть сгорела надстройка, а корпус гнилой затопило по самый верх, но «Григорий» – есть, сохранил себя. Труба гордо высится, те же кожухи, будто плечи, палуба широкой спиной. Как у буксира «Волга», год 1843, начало волжского пароходства. Как у Джозефа Конрада в «Сердце тьмы». Наползает зеленая чаша с дикого берега на одинокий, первобытный колесник.
Отчаливаем, ибо ждет нас новая встреча.
Он выплывает из леса, надвигается посуху, вклинивается меж деревьями, раздвигает их широкими бортами; навис уже над поляной балкон с козырьком, блестят огромные окна. Пара березок между нами и им, несколько метров всего...
И мы не спешим их пройти.
А пароход и с реки хорош: наполовину сокрытый деревьями, длинный и прямой, будто копье, словно бежит вдоль воды, раз уж нельзя по ней.
Сотворили чудо машины-землесосы. Намыли берег под старым судном, создали базу отдыха. Теперь она заброшена, и лазают люди через окно, выбитое в кормовой части. Мы тоже влезаем как люди.
Описать бы здесь внутреннее убранство, салоны, каюты, притвориться дореволюционным путешественником, да только лучше оставлю это на другой день. Переломаны интерьеры, замазаны краской следы пароходного прошлого. Безымянен теперь «Марксист», а некогда «Граф Лев Толстой», постройка сормовская, год 1890, один из знаменитых «писателей», какие общество «Самолет» пускало в рейсы из Нижнего в Астрахань.
Поэтому сразу рыщем по темному коридору нижней палубы, находим железную дверцу и шагаем в совершенно черную комнату, где вырисовывается квадратный люк. Вниз уходит железная лестница. Где наш фонарь? Дома, конечно. Ступенька, вторая, третья... и мокро. А мы-то рассчитывали увидеть здесь всю машину! Необычайная прибыль реки сыграла с нами злую шутку. Что ж, несем из кладовки рулоны старых обоев, поджигаем большими кусками и, словно на каком-то японском празднике, пускаем огненные кораблики.
В каютах сохранились оконные рамы – одна со стеклом, другая с сеткой металлической – и жалюзи деревянными планочками. Отвертываем на память по табличке: «Перед уходом из каюты закрывайте окна и двери».
На самой крыше – хлипкая дощатая хибара. Как еще только сохранилась эта рубка. И какое удовольствие – порулить! Виснешь на могучем штурвале, устремляешь в проем окна мужественный взор, а впереди бескрайняя кровля и... Леня, который тебя фотографирует.
Смеркается, пора возвращаться. Дорогу захватило разливом, так что снимаем сапоги, штаны и бредем по воде, нащупывая ногами выбоины асфальта, метров триста. А пассажиры «Нивы», которая остановилась перед лужей с другого края, наблюдают, как выходят при свете фар два молодца в трусах, будто дядьки Черноморы. Выскакивают водитель с товарищем.
– Да, да, ребята, – подтверждаем, – фары вам точно зальет. Но как мы – пройдете.
Одеваемся и шагаем под звездным небом обратно к Энгельсу.
Если мы – скромные охотники за пароходами, то Владимир Михайлович Цыбин охотится на целые пароходства. Идет по малейшему следу, и восстают из небытия бородатые мужи-акционеры саратовского «Купеческого» или печальный юноша, который держал пригородную линию в Рязани, а потом не выдержал и сгинул, то ли от невезухи, то ли на мировой войне: переписка юноши с родными обрывается.
Надо ли говорить, что уж большие-то, всем известные пароходные общества, как то: «Самолет», «По Волге», «Кавказ и Меркурий», а еще «Русь», фирма Зевека и другие, отслежены у Владимира Михайловича до последнего парохода. И есть огромный список, где на каждый указаны место и гол постройки, размеры корпуса и мощность машины, как, если название было царское, переименовали Временное правительство и большевики, как закончил свою биографию: напоролся на собственный якорь или погиб от взрыва мотоцикла на палубе, и каждого фотографии разложены по толстенным альбомам.

Громоздятся сейчас эти альбомы на столе и даже на пианино, и перелистываем их мы с Леней, пока хозяин стряпает на кухне окрошку с домашним квасом.
...То киношная «Волга-Волга»: ползет на нас весело, скрипя всеми своими деревянными балками и брусьями, зевекинская «Аляска»; задрана пара высоченных труб, а нос до того утиный, что сейчас бы прозвали такой пароход Микки-Маусом, а тогда прозывали козой. Тяжелой белой тушей уплывает другой заднеколесник, «Жемчужина», и вертятся на корме три круглые махины в ряд, кропят брызгами обрез надстройки, тесом шитой, что деревенский дом, и толпится на верхней палубе в галерее четвертого и единственного класса самый дешевый люд, артельный. Под горячим, каспийским солнцем торопится по протоке «Святитель Николай Чудотворец», урожденный буксир «Пират»: церковка у него выстроена в носу, а над рубкой – звонница; выбежит он на двенадцатифутовый рейд, прицепится к дебаркадеру – и услышат благовест на понтонах и суденышках, какими усеяна эта морская равнина, и вознесется над свистом ветра и криками чаек стройное пение матросов-монахов. Иные времена, с иной миссией поспешает «Граф Строганов», элегантный двухпалубник, который, в 24-м уже «Герцен», убегает от пристани, накренясь, потому что вся публика высыпала на одну сторону, а провожают его вместе с фотографом, наверное, Киса и Ося, нет их на соседнем снимке среди пассажиров – участников 4-го тиража Крестьянского займа.