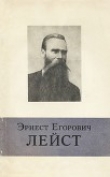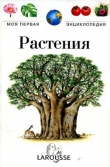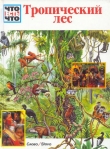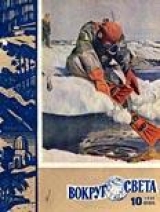
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №10 за 1960 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Касьянов овринг

Над ущельем стоял афганец – ветер, дующий с южных пустынь. Было очень жарко. Казалось, что раскаленная солнцем пыль, оседая, выжжет все живое вокруг. Старший лейтенант Морозов, начальник заставы, спешился и повел лошадь в поводу. Я последовал его примеру.
«Будь осторожен! – предупреждала высеченная на камне надпись. – Касьянов овринг (Овринг – участок горной тропы, который проходит по искусственным висячим карнизам, устроенным на неприступных склонах.).
– Пойдем верхней тропой, – сказал Морозов. – Она безопасней.
– Кстати, почему этот овринг называется Касьяновым? – спросил я. – Странное название для здешних мест...
– Служил у нас парень, Касьянов была его фамилия...
***
Н а «крыше мира» разгулялась непогода. За воротник гимнастерки Касьянову падает несколько дождевых капель. Бр-р! Холодные, словно лягушата. Сержант зябко ежится и набрасывает на голову капюшон. Скоро Волчья тропа, самый опасный участок пути... Он прислоняется к чинаре на минуту, самое большее на две – передохнуть и подождать отставшего товарища. Смотрит на светящийся циферблат часов. До смены наряда остается пять часов и двенадцать минут...
Отправляя его в наряд, старший лейтенант Морозов строгим глуховатым голосом сказал:
– Последний раз за время службы заступаете, Касьянов, на вахту мира по охране государственной границы.
Да, последний раз. Три года – как один день. Быстро бежит время.
Под утро, когда чуть забрезжит рассвет, он вернется на заставу, доложит, как обычно, старшему лейтенанту, что нарушения границы не обнаружено (последнего лазутчика здесь задержали одиннадцать лет назад), и сдаст старшине автомат.
Зашуршали камни. Из темноты вынырнул Кравчук. Служить на границу он прибыл недавно, и горы еще не привыкли к нему: угощали ночью ссадинами и шишками. Ходил он вперевалку, будто за плугом, говорил по-южному певуче, с тем особым лукавым добродушием, которое свойственно многим украинцам.
– В такую ночь только черти не спят, – проворчал он. – Неужто ворог через Пяндж переплыть сможет?
– Враг есть враг, – шепотом ответил Касьянов.
– А как же, – охотно согласился Кравчук, – его в двери ожидаешь, а он в окно.
Втайне Касьянов сожалел, что за три года службы не было случая отличиться, что ни разу не встретился он с врагом лицом к лицу, не зажал его мертвой хваткой своих тяжелых мускулистых рук. Что скажут те же односельчане, когда он вернется...
Они шагали по неровной мокрой тропе. Шли молча, налегая грудью на упругий ветер.
– Сейчас Волчья тропа. Не поскользнись, – предупредил Кравчука Касьянов. – Пойдешь верхней тропой, она безопаснее; я нижней, там немного... ползком надо.
Возле овринга тропа делилась надвое. Одна, узенькая, двоим не разойтись, виляла в густом кустарнике, прыгала с камня на камень, ломалась на крутых поворотах, тоненькой змейкой опоясывала отвесные стены скал, карабкалась на их гребни и осторожно, зигзагами спускалась вниз к самому Пянджу. Другая, пошире, была перекинута через гору коромыслом. Идти второй тропой было и легче и безопаснее. У кишлака тропы сплетались.
Кравчук продвигался медленно, цепляясь за выступы скал, опасаясь, как бы невзначай не разбить голову о камни. Касьянов бесшумно юркнул в кусты и пошел по узенькой тропке, которую пограничники называли «акробатическим канатом», пошел уверенно и легко.
Идти ночью по тропе в полшага шириной, зная, что рядом двухсотметровая пропасть, – занятие не из приятных. Особенно глубокой осенью или зимой, когда тропа покрывается слоем льда, а неистовый ветер швыряет в глаза слепящую, перемешанную с песком снежную пыль. Неверное движение, одна малейшая ошибка – и стремительный полет на выступающие из воды каменные клыки. Касьянов не был трусом, но когда ему приходилось идти Волчьей тропой, у него не раз замирало сердце. А когда «акробатический канат» оставался позади, оно радостно стучало, словно и правда после выполнения циркового номера.
Но он верил, что все обойдется и на этот раз. Во что бы то ни стало он пройдет и сейчас этот путь, будь тот даже в десять раз длиннее и опаснее. На протяжении трех лет Касьянов выходил победителем из этого безмолвного поединка с горами.
В самом крутом и узком месте пришлось ползти ящерицей. Окоченевшие пальцы отказывались сжимать автомат. Хотелось закурить, хотя бы раз-другой затянуться горьким махорочным дымом. И вдруг, точно почуяв беду, защемило сердце. Касьянов знал: в такие минуты, когда тобой овладевает беспричинная тревога, нельзя отдаваться нестройному течению мыслей. Если страх победит – считай, пропал! Горы не терпят трусов и наказывают их. Каждый твой шаг может оказаться последним. Нужно собрать всю волю, все мужество и решительным ударом отсечь разматывающийся клубок страха.
Внизу, скрытый туманом, гулко и протяжно клокотал Пяндж. Касьянов долго не мог привыкнуть к этой реке. Пяндж, словно необъезженный конь, дик и своенравен. Он пенится на подводных скалах, разбивается о каменные лбы, поднимает игривые фейерверки брызг и, споря с ущельем, бешено несется на простор долин, ворочая тонные глыбы. Могучая, суровая и красивая река. Она, как человек, сильно и жадно любит свободу. И горы, страшась ее дикой ярости, разжимают свои тиски, расступаются.
Увесистый обломок скалы, чиркнув рядом с головой и выбив сноп ярких искр, полетел вниз, а через несколько секунд раздался, как вздох, далекий глухой всплеск. Касьянов вздрогнул и насторожился. Зашуршали, осыпаясь, камешки. На верхней площадке, куда, поворачивая, взбегала тропа, по-видимому, кто-то был.
Своему здесь в это время делать нечего. Касьянов сжал автомат.
Может быть, ветер? Эта мысль немного рассеяла его подозрения.
Но тут он снова услышал шум падающего камня, уже ближе к спуску с площадки. Кто-то, торопясь, шел ему навстречу. Напрягая слух и всматриваясь в светлеющую муть тумана, Касьянов попятился к выступу скалы, который был от него в пяти-шести метрах и мог послужить удобным укрытием. Возможно, рассуждал он, это таджик, житель одного из местных кишлаков. Но почему он пошел не верхней, безопасной тропой, а избрал извилистый и крутой овринг? Зачем ему понадобилось в полутьме карабкаться по этим скалам и рисковать жизнью? И куда этот человек пойдет в такую рань?

Только сейчас Касьянов заметил, что небо над головой посерело. Близился рассвет. Неужели чужой? Тумак, оседая, стал нехотя отступать, цепляясь за кусты, росшие на почти отвесных стенах скал. Как из дыма, сначала неясно, огромным комом, потом рельефнее вырисовывалась фигура человека. За спиной незнакомца горбился рюкзак, в правой руке он держал толстую палку. Всем своим обликом он напоминал альпиниста или геолога. Высокий, стройный и, видно, физически сильный, он уверенно шел по узкому карнизу овринга. Незнакомец приблизился уже настолько, что Касьянов видел его лицо, совсем молодое, бронзово-смуглое и красивое.
– Стой! Кто идет? Пропуск! От неожиданности незнакомец выронил палку, и она упала в пропасть, а сам он как-то откинулся, точно его сильно толкнули в грудь.
– Свои, – ища глазами пограничника, выдавил он. И вдруг засмеялся:
– Вот дьявол! Как напугал! Из-за укрытия Касьянов видел, как беспокойно с камня на камень перебегали глаза «геолога». Левой рукой он вытер капельки пота на лбу и, все еще смеясь, исподлобья, настороженно смотрел на выступ скалы.
– Пропуск, – повторил Касьянов.
– Геолог я, заблудился. Такая ночь! Ни зги не видно.
И выругался длинно, грязно, проклиная погоду и местные дороги.
Что-то – Касьянов еще сам не знал что – в голосе «геолога» было неискренним, словно взятым напрокат. Это «что-то», нервный, срывающийся смех и бегающий взгляд «геолога» убеждали Касьянова, что перед ним не свой.
– Кругом! – скомандовал сержант и поднялся из-за укрытия.
С верхней площадки, из-за спины «геолога», хлестнуло несколько резких пистолетных выстрелов. Стреляли, видимо, из неудобного положения, и пули провизжали над головой Касьянова. Одна из них все же обожгла левую щеку.
Воспользовавшись тем, что пограничник низко пригнулся, «геолог» бросился на него, намереваясь выбить оружие. Но Касьянов почти в упор полоснул его короткой сухой очередью. Нарушитель подломился, судорожно схватил руками воздух и, потеряв равновесие, сорвался в пропасть.
Был еще второй, стрелявший из пистолета. Он следовал на некотором расстоянии за первым. Они рассчитывали, что наряд отправится верхней тропой, и столкновение было для них неожиданным. Надо найти второго!
Спустя несколько секунд рядовой Кравчук увидел, как над горами расцвел оранжевый букет ракеты. Это означало, что старший наряда ведет бой и зовет на помощь. Об этом Кравчук немедленно сообщил по телефону на заставу.
Вверху туман рассеялся. Остатки его упали в ущелье и пушистыми клочьями плыли над Пянджем. Обнажились скалы, и стала видна часть Волчьей тропы. Чтобы отрезать нарушителям отступление (Кравчуку казалось, что Касьянов завязал перестрелку с группой противника), рядовой побежал вперед. Если он не опередит врага и не займет выгодной позиции, которая запирала бы нижнюю тропу, враг ускользнет...
Треск автоматных очередей заставлял Кравчука напрягать последние силы. К своему удивлению, он бежал не спотыкаясь, ветки кустарника все время обдавали его росяным дождем. Добежав до моста, перекинутого через широкий кипящий поток, он, чуть не заплакав от досады, остановился. Мост был разрушен обвалом: обычное в непогоду явление. Переправиться через поток без веревки нельзя. Возвращаться назад и идти на помощь Касьянову нижней тропой бесполезно. На это уйдет больше часа.
Оставалось одно – взобраться повыше и попытаться найти место, с которого можно было бы простреливать тропу.
Взобравшись на скалу, Кравчук, к своей радости, увидел того» с кем вел поединок Касьянов. В пятистах метрах ниже, на площадке, возвышающейся на восемь-девять метров над нижней тропой, распластавшись, лежал нарушитель. Он отстреливался.
Кравчук прицелился. Но нарушитель, видимо для того, чтобы перезарядить пистолет, отполз ближе к скале. Пули взгрызли гранит на том месте, где он лежал секунду назад. Заметив, что площадка простреливается сверху, он, прячась за камни, стал отползать. Выстрелы прекратились. Первым умолк Касьянов. «Кончились патроны, – подумал Кравчук. – Нарушитель уйдет!»
И тут Касьянов неожиданно появился на площадке, выбежав из-за укрытия. Хлопнул выстрел.
Касьянов упал, а стрелявший, отшвырнув в сторону пистолет и взмахивая руками, стал спускаться с площадки на тропу. Сержант вскочил на ноги и бросился к нарушителю. Тот успел метнуть в сержанта камень, но промахнулся. Касьянов в два прыжка настиг противника. Повернувшись, тот ловко ударил сержанта в челюсть.
Упав, Касьянов почувствовал резкую боль в левой руке. Попробовал согнуть ее в локте – перед глазами пошли желтые круги. Понял, что ранен. Кусая губы, подполз к кромке площадки. Нарушитель, сбежав на тропу, торопливо шагал. «Сейчас мостики на овринге уничтожит, – мелькнуло в сознании сержанта, – и уйдет».
В жизни человека бывают критические минуты, когда он, видя опасность, казалось бы, не в состоянии предотвратить надвигающегося несчастья. Но мысль, как вспышка молнии, в сотую долю секунды осеняет его.
Тропа делала зигзаг, и нарушитель должен был пройти под самой площадкой. Улучив момент, Касьянов с высоты восьми метров прыгнул на него и тяжестью своего тела сбил врага под обрыв.
Поиски продолжались целый день. Но безуспешно. На вторые сутки в тридцати километрах от заставы, вниз по течению реки, нашли два изуродованных, разбитых о клыки Пянджа тела. Касьянова опознали по форме.
* * *
И полетела над Пянджем легенда о мужестве солдата, погибшего в схватке с врагом во время своего последнего за три года службы наряда. Ее услышишь во всех соседних с заставой кишлаках.
Придет время, исчезнут границы. На месте наших застав люди разных стран – сопредельных сторон, как принято говорить у пограничников, построят дворцы Дружбы. Многое изменится, и многое изменят люди. Но останется Пянджское ущелье и, как память о славных делах пограничников, скромное название «Касьянов овринг». Название, которого нет ни на одной географической карте.
Борис Поляков
Карликовый кашалот

Читатель нашего журнала товарищ Богданов К.Л. из Калуги просит рассказать о карликовом кашалоте. Выполняем его просьбу.
Давно уже люди находили в море или на берегу в полосе прибоя серые, с неприятным землистым запахом куски «морского воска» – амбры. На вид это вещество довольно невзрачно, но добавление его даже в незначительном количестве ко всякого рода парфюмерии имело неожиданный эффект. Запах духов, притираний, ароматических бальзамов становился благодаря амбре чрезвычайно стойким. Платок, смоченный такими духами, годами сохраняет запах. Самые невероятные предположения о природе этого странного вещества делали натуралисты.
Но раньше всех до сути дела добрались японские рыбаки. Они установили, что амбра образуется в кишечнике карликового кашалота (Современная наука считает, что амбра действительно образуется в кишечнике кашалотов (не только карликовых) в результате сложных химических превращений роговых клювов кальмаров и осьминогов, которыми эти киты питаются.).
В 1838 году знаменитому французскому натуралисту Бленвилю попали в руки несколько карликовых кашалотов, обнаруженных на французском побережье Атлантического океана. Они неосторожно подплыли во время отлива слишком близко к берегу и «сели на мель». Бленвиль сделал первое научное описание этого животного.
Он отметил, что карликовый кашалот окрашен в черный цвет с белой «отделкой» на брюхе, горле и нижней челюсти. Он представляет собой миниатюрную копию большого кашалота: обычная длина его всего 4 метра. Следовательно, карликовый кашалот меньше новорожденных детенышей своего большого собрата.
На «лбу» у младшего брата, как и у большого кашалота, расположены наполненные особым жиром и скрепленные сухожилиями спермацетовые мешки. Это своего рода гидравлический амортизатор, смягчающий давление воды на головной мозг во время путешествий кита за пищей в глубины океана. Там, на глубине нескольких сот метров, кашалот охотится за кальмарами и осьминогами. Добычу он хватает зубами, которые растут у него лишь в нижней челюсти.
Обитают карликовые кашалоты в тропических водах трех океанов: Индийского, Тихого и Атлантического. Но нередко они заплывают довольно далеко на север и юг. Их находили у берегов Японии, Калифорнии, Голландии, Тасмании. Но это были мертвые кашалоты – «севшие на мель». Еще ни один натуралист не видел в море живого кашалота.
Вот, собственно говоря, и все сведения об этих животных. Как видите, наши знания о карликовых кашалотах не намного обогатились за 120 лет, прошедших со времени их открытия.
И. Акимушкин
Изумруд Турфана
В 1957—1958 годах экспедиция советских киноработников совершила путешествие от столицы Казахстана Алма-Аты до китайского города Ланьчжоу. Автомобильный караван двигался через пустыни, оазисы и горы Центральной Азии. Совместно с кинематографистами Китая был снят большой цветной фильм «Под небом древних пустынь».
О том, что видели и встречали кинопутешественники на своем пути, режиссер-постановщик фильма Владимир Шнейдеров написал книгу. Мы печатаем несколько глав из нее в сокращенном варианте.

Виноградная долина
Солнце еще не выглянуло из-за вершин, а мы уже в пути. Сегодня в земледельческом кооперативе «Лэюань», что значит «Сад радости», начинается сбор винограда, и мы не хотим опоздать.
На горе стоят белые домики с яйцеобразными заостренными куполами – могильники-мазары. Из ущелья бежит река. Вокруг белеют пучками ваты плантации хлопка. Голые, без единой травинки, красные горы Хояныпань открывают вход в ущелье, забитое буйной зеленью садов и виноградников.
В садах тонут крыши домов и огражденные дувалами дворы.
Над зеленью возвышаются квадратные башни из сырого желто-серого кирпича. Кирпичи сложены так, что между ними остаются просветы, и ветер свободно продувает башни насквозь. Это сушильни для знаменитого турфанского винограда. Рассказывают, в свое время этот виноград поставлялся во дворец на стол самого императора.
Собранный виноград привозят в башни и подвешивают гроздьями на шестах от потолка до пола. Сухой горячий воздух, приносимый из раскаленной пустыни, продувает ажурные башни, впитывая всю влагу из винограда и превращая его в отличный изюм.
Всякий другой изюм, провяленный на солнце или в жарких печах, не может обладать такими качествами, как этот – высушенный пустыней. Он сохраняет блеск, вкус и аромат свежих ягод.
Издали Виноградная долина с торчащими башнями напоминает старые города в горах Южной Аравии. Но вблизи она представляет обычное среднеазиатское селение с важно шествующими по узким улочкам старцами-аксакалами в белых, под цвет бороды, аккуратно намотанных чалмах; с широким» арбами на высоких, утыканных гвоздями колесах; с нагруженными выше ушей ишаками и стайками шумливых ребятишек.

Но мусульманская патриархальность здесь только внешняя. Вопреки старым традициям нас встречает не древний аксакал, а средних лет женщина по имени Эйсин-хан. Беседуя с нами, она то и дело прерывает разговор, чтобы отдать распоряжение, подписать документ и приложить к нему печать кооператива.
Виноградную долину населяют более пяти тысяч уйгуров, ханьцев и дунган.
Они ведут наступление на пустыню, отвоевывая у нее новые массивы, превращая их в хлопковые плантации и виноградники.
Оставив машины под тенистым навесом около правления, мы следуем за Эйсин-хан по узким переулкам. Кроны деревьев, смыкаясь над головой, образуют тенистые зеленые коридоры.
За пределами селения склоны гор разделаны террасами. На их ступенях раскинулись сады. Здесь растут инжир, персики, гранаты, груши и абрикосы.
Тишину долины нарушают звонкие голоса. Это поют сборщицы винограда. Девушки – со множеством мелких косичек, замужние женщины – с парой толстых кос за плечами. Все они в ярких национальных костюмах: алые, зеленые и синие рубахи, бархатные жилеты, вышитые тюбетейки. Они знали, что мы приедем на съемку, и, наверное, специально принарядились.
Вооруженные ножницами сборщицы срезают спелые гроздья. Идет уборка поздних сортов. Через несколько дней все лозы будут подрезаны, уложены на землю и засыпаны песком, чтобы они могли перезимовать под этим теплым «одеялом».
Мы переходим с плантации на плантацию, и везде нас потчуют виноградом: очень сладким «бай-цзягань», кисловатым «хасаха» и мелким «сосок «Байцзягань» похож на лучшие сорта крымских «дамских пальчиков» – сочный, крупный, покрытый матовой нежной кожурой.
Юноши и бородатые мужчины, взяв у сборщиц наполненные корзины, идут легкой танцующей походкой, перенося их на коромыслах к дороге. Оттуда караваны ишаков увозят виноград в ажурные башни-сушильни.

...Грохот нескольких барабанов и пронзительный звук трубы, похожей на флейту с раструбом, возвещают, что рабочий день закончен. Радушные хозяева угощают нас виноградом и чаем в тени зеленой веранды, с крыши которой свешиваются огромные бутылочные тыквы.
Беседа идет о том, как крестьянам было трудно прежде, когда американцы завалили китайский рынок своим низкосортным дешевым изюмом. Виноград гнил, осыпаясь на землю. Крестьяне голодали. Их изюм никто не покупал, А сейчас они живут в полном достатке, планируют расширение посадок, мечтают о сооружении в Виноградной долине театра, асфальтированной дороги и своей гидроэлектростанции.
Со склонов Хояньшаня хорошо видно соленое озеро Боджанте. Оно находится в самой низменной части Турфанской впадины. Путь к озеру лежит через оазисы и бахчи.
Плантации хлопка и бахчи орошаются здесь только кяризной, подземной водой. Светлым неиссякающим потоком бежит она из зева пещеры. Это и есть «пасть дракона» – выход канала, проходящего под землей добрых десять километров от предгорий Тянь-Шаня.
Когда мы приехали на бахчи, сбор урожая был в полном разгаре. На земле возвышались горы продолговатых желтых дынь, прикрытые соломой на случай ночных заморозков. Выстроившись длинной цепочкой, крестьяне передавали друг другу тяжелые плоды и грузили их на арбы. Дыни были настолько велики, что ишак мог увезти в каждой из своих «бортовых» вьючных корзин лишь по паре. Турфанские дыни, как и виноград, известны на весь Китай.
Арбузы показались нам неправдоподобными. Весы засвидетельствовали это «неправдоподобие»: арбузы тянули по сорок килограммов!
Вереницы повозок движутся к Турфану. Они везут кипы белоснежного хлопка, горы спелых арбузов и дынь. Поедем и мы в Турфан.
Шумит базар
Бэй-лу – Северная трасса Великого шелкового пути – проходила прежде прямо через Турфан. Одна ее ветвь направлялась в Кашгарию, другая вела в Урумчи. Теперь новое шоссе пролегло севернее, ближе к горам, а город остался в стороне. Однако все едущее и идущее по дороге: машины, верблюды, ишаки – непременно сворачивает в Турфан.

Старый Турфан выглядывает длинной желтой полосой своих глинобитных стен из-за пыльной зелени высоких пирамидальных тополей. Это бывшая резиденция амбаня – губернатора – и его войска. Теперь цитадель пустует, крепостные ворота распахнуты настежь, а сложные защитные сооружения – лабиринты стен, рвы и башни – постепенно разрушаются.
Ворота старой крепости выходят на широкую площадь нового города. Ветер треплет на высоких шестах выкрашенную ядовито-зеленой краской сухую тыкву, похожую на пузатую бутылку с длинным горлом, и красную ленту, прикрепленную к доске с изображением расписного чайника. Это «позывные» мест, где можно отдохнуть, выпить чаю, закусить. Сюда на площадь и сворачивают верблюжьи и автомобильные караваны, следующие через Турфан.
От площади тянется на запад длинная и единственная улица нового города – главная базарная магистраль Турфана. Она почти сплошь состоит из кустарных мастерских, складов, магазинов, лавок, харчевен, ларьков и чайных. Затем улица расширяется, образуя вторую площадь. На ней стоит украшенный загнутыми кверху затейливыми кровлями буддийский храм – убежище полудиких голубей, и рядом – уйгурская мечеть с четырьмя игрушечными минаретами и сводчатыми входами.
Между храмами до поздней ночи гудит многокрасочный азиатский базар, где невозмутимо сосуществуют электрические фонари и старинные масляные коптилки, вычеканенные из гулкой меди древние уйгурские длинногорлые сосуды и украшенная пышными розами современная эмалированная посуда.
На востоке, за Старым городом, улица замыкается развалинами дворца бывшего властителя Турфана и его усыпальницей – величественной мечетью с высоким минаретом, Башней Сулеймана. Об этой башне сложено много легенд.
Город очень похож на старую Хиву. Самарканд или Бухару: те же слепые стены домов, плоские крыши, высокие глинобитные заборы-дувалы с глухими калитками. Как и в древних городах Средней Азии, по обочинам дороги тянутся арыки. О том, что мы в XX веке, сигнализирует ящичек репродуктора-громкоговорителя, передающего последние известия.
Базарная улица полна народу. Натужными гудками пробивают себе путь автомобили, груженные товарами, привезенными с востока. Раздвигая грудью толпу, мягко ступают важные, презрительно посматривающие на людей верблюды. Едут на ишаках правоверные аксакалы в белых чалмах. Медленно едут величественные старухи в белоснежных, покрывающих голову и плечи матерчатых капюшонах. Из круглых вырезов выглядывают их сморщенные лица, окрашенные солнцем в цвет бронзы.
Спелые дыни, вспоротые широкими, похожими на секиры ножами, испускают одуряющий аромат. Торговцы с затейливо выбритыми бородами громко расхваливают свои товары, продавая их по твердым ценам прейскуранта. Крестьянин-хлопкороб, могучий гигант в суконном черном халате, выбирает цветистый хотанский ковер. Это подлинное произведение искусства, разукрашенное вишневого цвета гранатами и нежно-розовыми цветками лотоса, среди которых задумчиво стоит на одной огненно-красной ноге аист.

Мимо базара проезжает свадьба: невеста – юная крестьянка с малиновым румянцем на щеках и вплетенными в волосы цветами; жених – в новом пиджаке и желтых ботинках на толстой подошве; бесчисленное количество родственников различных возрастов. Все едут в одной арбе, погружающей огромные, обитые гвоздями колеса в пушистую лессовую пыль.
Прилавки и широкие столы тесно заставлены эмалированными ведрами, чайниками и тазами – от игрушечных до огромных.
Старик примеряет китайскую шубу – тулуп с белой кожей; пионеры покупают школьные тетради и карандаши; домашняя хозяйка выбирает из мохнатой желто-зеленой горы длинный кочан китайской капусты.
Жизнь базара необычайно многоголоса. Из мечети доносится призыв муэдзина и тут же тонет в звуках веселой уйгурской песни, передаваемой по радио. У развешанных ковров примостился со своим походным мангалом шашлычник.
– Шашлык!.. Иах!.. Яхши шашлык!
Шашлык действительно хорош. Нанизанные на металлические прутки куски свежей баранины истекают салом. Размахивая веером, шашлычник продолжает истошно кричать:
– Шашлык! Яхши шашлык! Его бойко раскупают и едят, присев на землю или на застланную ковром скамью. В тени у мангала стоит мотоцикл, поблескивая никелем.
Какое удачное сочетание старого и нового: мотоцикл в древнем Турфане!
– Снимем?
– Давайте!
Оператор достает камеру. Но шашлычник не ждет. Товар распродан, железные палочки собраны. Хозяин закрывает свой мангал крышкой, надевает его на плечо, садится на мотоцикл и с ужасающим треском, неожиданным для такой маленькой машины, укатывает по пыльной улице. Оператор досадует:
– Моторизованный шашлычник!..
Ребятишки, обступив человека с крючковатым носом, похожего на разбойника с картины Верещагина, покупают книжки с картинками. Сквозь толпу пробирается дервиш – странствующий мусульманский монах в островерхом колпаке. Иногда он останавливается, подпрыгивает на месте и что-то выкрикивает. У него злые глаза, длинные, разбросанные по плечам сальные волосы. Внешность не из приятных. Может быть, это юродивый, пришедший сюда из Ирана? Но на монаха никто не обращает внимания, и он пробирается дальше.
Зато мы в самом центре внимания. Стоит только достать камеру, как вокруг нас смыкаются тесным кольцом люди, вполне доброжелательные, но невозможно любопытные. И нет никаких сил уговорить их дать нам возможность работать.
Приходится хитрить. Следующим утром на базарную площадь въезжает наша машина. Она останавливается, и шофер, заперев кабину, удаляется. Никто из находящихся на базаре и не подозревает, что в темноте душной закупоренной кабины спрятана камера и обливающийся потом оператор. Часами дежурит он у камеры, подлавливая живые сцены и картины уличной жизни.

Азиатская Помпея
Миновав базар и проехав через весь город, мы движемся вдоль невысоких, метров в 250—300, гор. Сворачиваем в ущелье и, так как никаких признаков дороги не обнаруживается, едем вверх по течению реки – прямо по покрытому галькой дну.
По обе стороны автомобиля, как из поливальной машины, распускаются веера сверкающих брызг. В них, словно на крыльях жар-птицы, вспыхивают переливающиеся радуги.
Радуги сразу же исчезают, как только мы попадаем в чрево узкого каньона, темного и мрачного. Но скоро снова вырываемся на залитый солнцем простор широкой долины. Два глубоких русла сухих рек охватывают земляной остров, похожий на корпус огромного корабля. Вершины высоких пирамидальных тополей едва достигают его «палубы». Острием ножа выступает нос «судна», отвесный, как стена, и с бортов он тоже неприступен. Так, наверное, выглядело горное плато, описанное Конан Дойлом в романе «Затерянный мир».
На ровной как стол поверхности плато можно различить руины большого города. Проводник утверждает, что это и есть развалины древней столицы уйгурского государства – города Яр-Хото.
Взобравшись на склоны ущелья, мы пытаемся разглядеть город сверху. Найти пути подхода к нему невозможно. Применить скалолазную технику тоже не удается: крюки в рыхлом лессе и песке не держатся.
Мы отчаялись попасть на остров, когда появился проводник, а с ним – чернобородый мужчина, который представился нам как хранитель этих мест. Он уселся в нашу машину и предложил ехать во двор окруженного невысоким дувалом хлопкоочистительного заводика. Заводик этот прилепился, как гнездо ласточки, у подножия острова.
Машина завернула за дувал и уткнулась в отвесную стену. И только тогда мы заметили, что в стене вырублен круто поднимающийся вверх узкий коридор. Наша машина втиснулась в него с трудом. Чиркая бортами по стенкам коридора, она медленно взбиралась вверх, окутанная облаком пыли, чихая и откашливаясь.
Выбравшись из щели, мы остановились на небольшой площадке. Перед нами лежала азиатская Помпея...

Мы оказались в мертвом городе Яр-Хото.
Он умер тысячу, а может быть, и более тысячи лет назад. Что стало причиной его смерти, неизвестно. Быть может, враги, опустошив его, увели за собой всех уцелевших жителей? А может быть, исчезла вода из рек, окружавших остров, и люди сами ушли, чтобы не погибнуть от жажды? Никто этого пока не знает.
Мы стоим под сводами огромного храма. Упавшие с потолка глыбы образовали подобие древнего жертвенного стола. Он обрызган еще теплой кровью растерзанного дикого голубя: войдя в храм, мы спугнули огромную хищную птицу. Взлетев с шумом вверх, она исчезла в широком проломе. Лучи солнца освещают храм. На стенах его сохранились едва заметные следы цветной росписи. Через арку главного входа открывается вид на вырубленную в толще земли прямую неширокую улицу, постепенно поднимающуюся вверх. Она выводит на просторную лестницу второго храма.
Крутые ступени лестниц ведут в боковые улицы, к остаткам домов и к мельнице, где можно найти обломки каменных жерновов и осколки глиняных сосудов для зерна, похожих на древнегреческие амфоры.
Печет солнце. Тихо. Мы бродим по лабиринту мертвых улиц, взбираемся на башни, снимаем еще никем и никогда не запечатленные на пленку кадры.
Почему был покинут людьми этот город, неизвестно. Но к началу X века он уже опустел, и столица Уйгурского княжества была перенесена на восток от современного Турфана.
(Окончание следует)
Владимир Шнейдеров