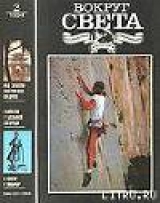
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №2 за 1994 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
– Эта прекрасная улица носит имя самой добродетельной женщины Итаки, – он сделал паузу, попытавшись томно закатить свои глазки. – Вы, конечно, догадываетесь, что я имею в виду Пенелопу, верную жену Одиссея. Любую женщину нельзя надолго оставлять одну, а Одиссей скитался на чужбине двадцать лет. Другая бы женщина двадцать раз вышла снова замуж, тем более до Пенелопы наверняка доходили слухи, что Одиссей проводил немало прекрасных дней в обществе веселой нимфы Калипсо.
Пока Ир без умолку болтал, я с любопытством оглядывал улицу преданной супруги Одиссея с чистенькими домиками, окруженными цветущими кустами. Тем временем наш гид вовсю разошелся и, усевшись на ступеньки симпатичного дома с кадками вечнозеленых растений, принялся в лицах изображать приход Одиссея в дом Пенелопы, словно в нем ожил подлинный Ир – свидетель давних событий. На нас повеяло гомеровскими мифами, и вот уже перед глазами возник Одиссей в рубище нищего, скромно сидящий у дверей пиршественного зала, где домогались руки Пенелопы многие знатные мужи Итаки, проводя в безделии и пьянстве свои дни под крышей его дома. И вдруг перед ними предстала добродетельная Пенелопа, а в руках у нее были лук и колчан, полный стрел, принадлежащие ее супругу, и сказала она женихам:
– Кто из вас натянет этот лук Одиссея и пустит стрелу так, чтобы она пролетела через двенадцать колец, за того я выйду замуж.
Вам известно, что никто из женихов не смог даже натянуть тетиву богатырского лука. А перед нами на фоне зеленых гор Итаки выросла могучая фигура Одиссея с поднятым в руках тугим луком, из которого со звоном полетела стрела в синюю даль неба.
Я смотрю вверх по улице Пенелопы и вижу на склоне холма строительную площадку, где возводятся новые дома. Возможно, здесь высился дом Пенелопы? Там на каменных террасах серебрятся шеренги оливковых деревьев. Только сейчас я почувствовал жар солнца, и все сильнее начинает мучить жажда. Около домиков не видно ни души, во двориках зелеными змеями лежат свернутые шланги, и нигде не слышно не только льющейся из крана воды, но даже стука ее падающих редких капель.
Безлюдные дворики, замкнутые решетки калиток, полная тишина, словом, сиеста.
Я бреду по раскаленному городу, взгляд – в поисках воды – обшаривает все вокруг и, о счастье, натыкается на дерево дикой груши. Поспешно карабкаюсь к ней по дорожному откосу, хватаясь за пересохшие стебли травы, выбираю в листве дерева груши пожелтее и, упав на жаркую, потрескавшуюся землю, жадно поедаю терпкие плоды, слегка утоляющие жажду и голод.
«Где те благословенные времена, когда ворота каждого греческого дома были гостеприимно распахнуты перед любым странником?» – сожалел я, сидя под хилым деревом, еле прикрывающим своей тенью мою бедную голову от солнца.
Но я явно недооценил широту греческой натуры. Навстречу мне поспешал наш давний знакомец Ир с радостной вестью: мэр дает для русских гостей банкет. Наконец-то хлебосольные граждане Итаки решили устроить достойную встречу северным одиссеям.
Переодевшись вечером в чистые, хотя и изрядно мятые майки, самые достойные из нас двинулись по набережной за командором Дмитриевым, он же председатель клуба «Полярный Одиссей», искать мэра. Мне показалось, что когда мэр заметил у маленького кафе на той же улице Пенелопы нашу довольно внушительную колонну, то слегка вздрогнул и побледнел. С большим трудом найдя свободные столики, мы сдвинули их в нетерпеливом ожидании угощения. Но две бутылки кисленького винца и тарелочки с помидорами и брынзой, щедро выставленные мэром, не могли удовлетворить разыгравшиеся аппетиты. Но что поделать, зато мы могли вкушать пищу духовную, созерцая замечательное празднество, устроенное на маленькой площади. Так уж получилось, что наше пребывание на Итаке совпало (некоторые пилигримы увидели в этом перст Зевса) с Днем Одиссея, участие в котором принимают все граждане Итаки, от мала до велика.
Прежде всего до нашего слуха донеслась щемящая мелодия сиртаки, с первыми звуками которой через площадь козликом проскакал мальчуган в расшитой золотой нитью распашонке, щегольских сапожках и круглой шапочке. Музыка грянула сильнее, взвизгнули скрипки, и я рассмотрел музыкантов на невысоком помосте. У одного из них была в руках волынка, у другого – лютня, третий выводил рулады на флейте, а толстый мужчина в пиджаке держал на коленях какой-то необычный инструмент. Потом я выяснил, что этот странный инструмент называется «бузуки», и до наших дней дошла традиция натягивать на него шелковые струны, придающие особое мелодичное звучание.
Тем временем на площадь вышла вереница танцоров, и под все убыстряющийся темп музыки закрутилось коло, которое возглавлял высокий парень в тунике и распашной безрукавке, богато расшитой орнаментом, кажется, из цветов и растений, а его голову венчал красный колпак со свисающим на плечо острым концом. Глядя, как этот ведущий хоровода выделывает замысловатые па, я почему-то вспомнил бравых гвардейцев, стоящих в карауле у афинского парламента. Они были одеты в белые рубахи с очень широкими рукавами, украшенные золотом красные куртки, рукава которых были закинуты за спину, и в широкие короткие хлопчатобумажные юбочки, а ноги были обтянуты узкими белыми штанами и обуты в туфли с загнутыми носами с большими помпонами. Подобную одежду носили не так давно жители центральных районов Пелопоннеса.
Музыка звучала все призывнее. Широкие юбки со множеством складок и оборок колесом ходили вокруг стройных ног танцовщиц, которые успевали стрелять глазками, кокетливо держась пальчиками за обшлага отороченных мехом жилеток.
Танцоры сменяли друг друга, и даже с набережной были видны их красочные цепочки и летящие огненными языками в ночи алые кушаки и красные косынки…
Я долго лежал на палубе, всматриваясь в близкие южные звезды, красивые и чужие, и думал, что если бы Одиссей оказался сейчас на Итаке, то вряд ли бы он узнал любимый остров и своих потомков. Мне казалось, что я лишь задремал, как уже первые солнечные лучи скользнули по спокойной воде гавани и с набережной раздался пронзительный голос нашего гида:
– Мэр нанял автобус – можно ехать в горы!
Кроме тех достоинств, которые мы уже обнаружили в Ире, он к тому же считал себя классным водителем. Спозаранку его мотоцикл с разбитой фарой дребезжал по улицам Вати, распугивая местных кошек и собак. Так же лихо он вел по неописуемо крутым горным дорогам старенький автобус, в открытые двери которого (иначе бы мы умерли от духоты) можно было созерцать восхитительные пейзажи, если хватало присутствия духа: повороты на краю пропасти были ничем не ограждены.
Внезапно замелькали посадки фруктовых деревьев, и наш автобус, подняв клубы пыли, затормозил на круглой площади провинциального поселка. Ставрос – так назывался поселок – был примечателен старым собором да памятником Одиссею. Раскланявшись со старичками в пиджаках, сидящих за столиками открытого кафе, мы не преминули полюбоваться собором, а затем гуськом направились к Одиссею.
Бюст отважного героя издали проглядывал сквозь зелень кустов. Аборигены с удивлением наблюдали из-под козырьков фуражек, как выгоревшие до белизны под их жарким солнцем северные люди трогательно припадают к постаменту самого главного гражданина Итаки. Первым сфотографировался у бюста Виктор Дмитриев, потом стали подходить другие ветераны клуба «Полярный Одиссей».
Только мудрый Одиссей был по-прежнему невозмутим и гордо озирал морскую даль, где претерпел столь удивительные приключения, что люди до сих пор рассказывают об этом легенды.
Палатка у Тибра, или счастливчик Петрос

У каждого моряка есть свой любимый порт, подобный гриновскому Зурбагану. Таким портом в этом плавании стал для меня Пирей.
В первый же вечер он покорил меня своей набережной, огни которой отражались в тихой воде гавани, так глубоко врезавшейся в город, что, казалось, мачты яхт касаются балконов домов. Я бы сказал, что набережной стала вся прилегающая к гавани часть Пирея: аллеи, садики, где за деревьями и цветущими кустами прятались уютные ресторанчики и большие открытые кафе со столиками под пластиковыми крышами, лавочки и фирменные магазины с огромными витринами, в которых было выставлено все, что могла пожелать душа заезжего человека. Набережная по вечерам сверкала и манила к себе, но мне милее всего были пирс и причалы яхт-клуба Турколимано, где стояли наши суда и откуда можно было в считанные минуты добежать до моря и искупаться, но главное – здесь действовал самый взаправдашний городской пляж с …бесплатным душем.
Вот под этим-то душем и произошла у меня встреча с эмигрантами.
Надо сказать, что в начале нашего путешествия я как-то не задумывался над проблемой эмиграции – хватало забот и без этого. Конечно, мы все знали о старой русской эмиграции, об их первой, второй волне и особенно о стремлении части наших граждан уехать за «бугор» в последние десятилетия. Но все же, все же… это было весьма далеко от моей повседневной жизни.
А тут, в Стамбуле, сходит с лодьи «Надежда» на причал тоненькая девушка Светочка в туфельках на шпильках, и не успели мы оглянуться, как ее белокурая головка скрывается в «опеле», за рулем которого вальяжно развалился какой-то плешивый турок. Через сутки-вторые она снова оказывается на том же причале со своим баульчиком и мечется в поисках судна, которое доставило бы ее на родину. А ее землячка, Ирочка, хорошая повариха и веселая деваха с большими карими глазами, собрала вещички в Пирее. Вышла прогуляться накануне по набережной, нашла кафе с заботливым хозяином-греком, и тот пообещал ей место судомойки. Ирочке повезло больше. По слухам, она лишь через год появилась снова в родном Петрозаводске, а вот что она вывезла из-за «бугра» – о том молва умалчивает, да и какой тут может быть спрос: виза-то была итальянская, да и та на двадцать дней.
Но под упомянутым душем на пляже, когда я попросил у приятеля мыло, меня окликнул самый настоящий эмигрант, понтийский грек, один из тех тысяч греков, проживавших на территории СССР, которые уехали на родину своих предков. Разговорились.
Семья Мефистоклюса прибыла в Пирей из Баку. Сам он окончил юридический факультет университета, а отец был заместителем генерального директора крупного завода.
– Трудно ли было с оформлением? Пожалуй, нет. Мы ведь появились на берегах Черного моря (отсюда и наше название «понтийские»), спасаясь от преследования турок, так что для репатриации препятствий не было. Дело тут в другом – мой новый знакомый, высокий парень, тряхнул кудрявой головой и улыбнулся. – В общем, что тут дипломатничать – нелегко нам здесь приходится. Жилья нет, живем в коммуналке с албанцами. Работы тоже нет: отец сидит дома (это с его-то опытом), а я хожу грузить кирпичи на стройку – двадцать пять долларов в день. Отцу пенсии не дают – между Грецией и Россией нет договора о пенсионном обеспечении. Нет также соглашения и о признании дипломов, поэтому нам, если мы хотим работать по специальности, приходится сдавать дополнительные, очень сложные экзамены. Хотя вряд ли потом ты найдешь себе место: кому нужен эмигрант с образованием? Придется, наверное, нашей семье подаваться на север.
– А там что, медом намазано? – усмехнулся я.
– Если наймешься на стройку, можно в кредит купить коттедж. – Мой понтийский грек покачал головой и добавил: – Но за это будешь вкалывать всю жизнь – расплачиваться за проклятый кредит. А что делать? На этот вопрос ответил другой грек, который познакомился со мной тоже… под душем, только это произошло уже в городе Превезе, в одном из его сквериков, где около памятника борцу за свободу местный поливальщик с удовольствием облил меня из шланга. В этот интересный момент кто-то за спиной произнес на чистейшем русском:
– Эй, друг, если ты так соскучился по русской бане, то наверняка приплыл на этих северных лодках, что у набережной?
Я обернулся и увидел высокого тощего незнакомца с маленькими, темными, как чернослив, глазками.
– Привет, Петрос, – поздоровался с ним мой благодетель
поливальщик, – опять гуляешь?
Петрос только засмеялся и, подхватив меня под руку, широко зашагал по улице. Казалось, что все его здесь знали и были рады встрече с таким веселым парнем, а он останавливался, с каждым здоровался за руку и говорил несколько слов. У первого же бара он пригласил меня зайти:
– Ну, что, земляк, тебе обязательно надо согреться после холодного душа, – весело сказал Петрос. – Я познакомлю тебя с хозяином этого заведения. Нас встретили у порога полный, приветливый грек и его симпатичная веселая жена, и через минуту мы уже сидели за круглым столиком, попивали кофе с лучшим греческим коньяком «Метаксой», и Петрос без остановки рассказывал о себе.
– Ты удивился, откуда я так хорошо знаю русский? Еще бы мне его не знать, когда Ташкент, в котором прожил чуть не сорок лет, считаю своим родным городом. Там у меня четырехкомнатная квартира, жена, дети и друзей не меньше, чем здесь. Ты спрашиваешь, почему я не с ними? Лучше, когда вернешься домой, узнай, когда моя семья приедет ко мне. Ладно, старшая дочь замужем, а моя жена не может жить без внуков. Но младшей-то я подобрал здесь жениха, послал вызов. Ну, что она там думает? Съезди к ней, она музыке детей учит в Загорске, и все ей объясни.

Петрос на минуту замолчал, вытер лоб платком, налил из бутылки коньяк в маленькие рюмочки и выпил свою одним махом, как у нас принято на родине.
Да, трудно ему тут без родных и друзей. Попав совсем зеленым пареньком в Союз – он был в партизанах, а потом ушел через горы в Албанию, оттуда к нам, он исколесил всю Среднюю Азию, был шофером, газовщиком, строителем.
– Я нигде не пропаду: в Превезе с утра вкалываю на стройке, потом подрабатываю ремонтом машин. Ты скажи, что видел: какой приятный город, как меня все уважают. Жаль, что завтра уплываешь, а то махнули бы в деревеньку к моей матери (отец-то погиб в горах, был пулеметчиком), гам у меня земля и сто оливковых деревьев. Скажи моим-то, какой я стал богатый.
Петрос смахнул платком слезинку и стукнул жилистым кулаком по столику:
– Передай мое последнее слово: не приедут – женюсь. Я еще не старый…
Обняв меня за плечи, словно родного, он дошел вместе со мной до набережной, а потом, круто развернувшись, зашагал к себе в комнатку с одной кроватью.
– Чего мне заводить хозяйство? Если б приехали мои – купил бы мебель…
Петрос Куцукис, хотя и считает себя удачливым, ждет свою семью, тоскует без жены и дочерей, поэтому и шляется по барам до поздней ночи, а потом нехотя тащится в свою конуру.
А вот другие эмигранты и слышать не хотят о своей «батьковщине», хотя… Они окликнули нас в порту Фьюмичино, что совсем недалеко от Рима, когда мы шли по набережной одного из рукавов Тибра.
– О, чи поляки, чи кто? – услышал я за спиной удивленный женский голос. – Глянь-ко, усе рыжие…
Я оборачиваюсь и с обидой отвечаю:
– Почему же поляки? Русские тоже бывают рыжие…
Перед нами стояли трое земляков: крепенькая, невысокая женщина в потрепанной соломенной шляпе, из-под которой настороженно выглядывали маленькие глазки, рядом с ней здоровенный парень с русым чубом, а к ним жался миловидный мальчуган лет семи.
– Михаил Середа, – протягивает руку высокий парень, добродушно улыбаясь, и, показывая на женщину, представляет:
– А это моя мать, Любовь Ивановна. Перекурим? – предлагает он, усаживаясь на парапет набережной, и добавляет: – Дениска, сгоняй за водой…
Мы беззаботно сидим на солнышке, попивая принесенную Дениской «фанту», а новые знакомые, перебивая друг друга, повествуют удивительную историю о своем бегстве из СССР.
Любовь Ивановна все больше поминает старые обиды от советской власти: отобрали магазины у отца в революцию, потом в колхоз загнали, а когда они с сыном создали кооператив «Мираж» («Ведь Мишка-то на все руки мастер, – говорит она, – и шофер, и строитель, и механик хороший…»), построили оранжерею, чтобы выращивать цветы, – местные власти захватили их кусок земли, бывшую свалку отходов, которую они очистили от всякого хлама.
– Разве есть справедливость на свете – взяли и ограбили! – горячо восклицает Любовь Ивановна, размахивая руками. – Вот и пришлось тикать.
Миша, перебивая мать, рассказывает, как он похитил Дениску от сбежавшей от него жены, как они втроем укатили по турпутевке в Югославию и там, разузнав заранее про один городок, где граница проходит прямо по улицам, махнули в Италию.
– Захватив лишь одну сумку, мы вышли нарочно в обеденное время, – с удовольствием вспоминает Середа, – выбрали момент, когда солдаты дремали, никто на нас не обращал внимания, да как дунем через холм… Говорите, могли застрелить? Почему же, могли, даже стрельнули пару раз, да ведь там же улицы, люди – побоялись сильно палить. Вот так мы и оказались в эмиграции… Хотите знать, как мы здесь живем?
– Лучше, чем дома, – поспешила ответить за сына Любовь Ивановна и добавила: – Да ведь это рукой подать! Поехали к нам в гости, кстати, глянете на лагерь «Каритас» – мы рядом с ним живем.
Выбив один билет на всю компанию, мы с удобствами и быстро домчались до нужной остановки. Высадились на обочине шоссе. Я с недоумением осмотрелся вокруг, ища признаков жилья семейства Середы. Только спустившись по откосу и пройдя сквозь кустарник, я наткнулся на палатку. Принадлежала она поляку, который всю жизнь скитался в поисках лучшей доли и вот осел теперь здесь.
– Живет он тут уже десять лет, по вечерам свое «капучино» у нас пьет, – весело прокомментировала житье-бытье соседа Любовь Ивановна, откидывая полог собственной большой палатки. – Видите, какой дом нам подарили? А маленькая рядом – это кухня: тут плита и холодильник стоят. Сейчас буду вас кормить обедом – вишь вы какие все тощие.
Пока она готовила индюшачьи ножки («Почти даром купила», – похвалилась Любовь Ивановна) с жареной картошкой, вкус которой мы уже позабыли, я пошел глянуть на соседний лагерь для бедных эмигрантов. Путь к длинным баракам тюремного типа преграждала колючая проволока.
– Чего там рассматривать, – сказал Миша, – живут тут одни проститутки и наркоманы да выжившие из ума бомжи. Мы в Риме попали в подобное заведение, но сбежали через несколько дней, несмотря на бесплатную еду – жуткая обстановка.
В правдивости слов Середы я убедился позже, когда в Риме заглянул в один такой приют для всех страждущих, тоже принадлежавший католическому обществу милосердия «Каритас». И даже прошел по коридору, стены которого, как в туалете, были выложены плиткой, но, услышав вопли калек и больных, выскочил моментально наружу, твердо решив, что лучше переночую на скамейке, тут же рядом у собора Св.Петра.
За обедом мы выпили пивца, щедро выставленного хозяевами, и уже собрались было уезжать, как вдруг Любовь Ивановна подхватилась и с чисто русской (или украинской – все равно) добротой принялась оделять всех подарками («Подобрала на свалке – хотели сжечь», – сказала она). Батюшку одели в светло-голубые джинсы, Леше Дмитриеву впору пришлась крепкая куртка, а мне достались летние штаны, которые, правда, сели после первой же стирки…
Мы уходили из палаток к перекрестку дорог, а три фигурки махали нам вслед и кричали, чтобы мы всем рассказали, как им хорошо здесь живется.
Наши за границей… Мне попадались отзывчивые эмигранты: и белоруска на Радио Ватикана, уступившая принесенный с собой завтрак, и Валя Малышев, приютивший меня на своей даче под Генуей и помогавший мне вернуться в Рим и добраться до Москвы, и многие другие, которых я помню и люблю. Только жаль, что они остались без родины, которая у нас одна…
В.Лебедев, участник плавания в Италию на лодьях «Вера», «Надежда», «Любовь»
Авантюры и происшествия:
Танцы на вертикале

Сегодня во Франции их уже более десятка – скалолазов-одиночек, чьи восхождения сродни сольным выступлениям танцовщиков. И нет ничего удивительного в том, что этих людей называют «солистами», однако подмостками им служат отвесные скалы, достигающие в высоту больше полукилометра…
А начало таким сольным выступлениям чуть более десятка лет назад положил молодой французский скалолаз Патрик Эдленже, ставший героем нашумевшего на весь мир документального триллера «Жизнь на кончиках пальцев» (отрывки из этого фильма российский зритель мог видеть в восьмидесятых годах в телевизионной передаче «Клуб путешественников»).
Что же заставило двадцатитрехлетнего Патрика Эдленже в свое время отказаться от традиционных приемов восхождения с обычной страховочной экипировкой и заняться тем, на что нельзя глядеть без содрогания, – одиночными подъемами на скалы, да еще при полном отсутствии какой бы то ни было страховки?
«Только одно, – признавался как-то отважный скалолаз своему другу и тезке журналисту Патрику Майе, – желание достичь полного совершенства, физического и психологического, и доказать, что крепкому телом и духом человеку по силам побороть не только страх, но и свернуть любые горы…»
Движения Патрика, когда он покоряет вертикаль, оставляя за собой страшные метры высоты, мягки, пластичны и безукоризненно точны: в таком деле недопустим даже мало-мальский просчет, ибо за ним незамедлительно следует срыв – падение в пропасть.
«Лично у меня, – вспоминает Патрик Майе, – когда я с замирающим от ужаса сердцем смотрел на трюки, которые он выписывал на головокружительных отвесах, всякий раз создавалось впечатление, будто я вижу некое фантасмагорическое зрелище, кошмар, от которого в жилах стынет кровь и по коже продирает мороз, а нервы настолько напряжены, что того и гляди лопнут…»
Фантасмагория или кошмар. Самому же Патрику Эдленже по душе иное сравнение – завораживающий виртуозный танец. Танец, который требует каждодневных многочасовых репетиций, где только и возможны осечки и промахи. На «сцене» же это исключено.
Свое редкостное мастерство – а оно и вправду сродни большому искусству – Патрик отшлифовывал на скалах, протянувшихся длинной грядой вдоль средиземноморского побережья Франции под Тулоном и обрывающихся прямо в море.
Именно на них он постигал высочайшее искусство танца на вертикали, учась умению сосредоточивать все свои мысли, чувства и силу мышц на каждом сантиметре скальной поверхности, на каждом движении тела, достигая при этом состояния, близкого к глубокой медитации, в котором страх как таковой вообще перестает ощущаться.

Экипировка, если можно так назвать то, с чем Патрик совершает восхождения, самая минимальная: на ногах – прочные тряпичные туфли с мягкими каучуковыми мысками на гибкой каучуковой подошве, а за спиной, на поясе, – мешочек, откуда он время от времени зачерпывает тальк и растирает им руки, чтобы улучшить сцепление пальцев с едва различимыми выступами на скале, на которой он исполняет свой смертельный танец.
«Наблюдая за ним снизу в бинокль, – вспоминает Патрик Майе, – с кем только я его не сравнивал: то с пауком, плавно и грациозно плывущим, а не ползущим, вверх по отвесу, то с птицей – потому как пальцы у него до того напряжены и скрючены, что напоминают скорее когти горного орла. В такие минуты я думал об одном: неужели он – человек, ведь то, что он проделывает, человеческое сознание просто отказывается воспринимать как явь».
Однако Патрик Эдленже – самый что ни на есть реальный человек, такой, как все. Единственное, что отличает его от других людей – это страсть к покорению вертикалей с помощью им же самим разработанного и отточенного до тонкости мастерства, благодаря которому он смог подняться на высоты, недоступные обычному скалолазу, и на те, что, бесспорно, отделяют танцора-солиста от всей танцевальной труппы.
Свой рекордный подъем, или, как его еще называли журналисты, «смертельный номер», Патрик Эдленже продемонстрировал однажды в Мали на одном из «пальцев» Руки Фатьмы – отвесной скалы, образованной пятью пиками высотой более девятисот метров, по виду напоминающими пальцы человеческой руки. Тогда за танцем Патрика, который он исполнял при жуткой жаре, затаив дыхание следили многие. То был действительно уникальный, незабываемый танец, достойный того, чтобы смотреть на него с изумлением, – из тех, что никогда не повторяются на «бис».
По материалам журнала «Grands Reportages» подготовил И.Алчеев








