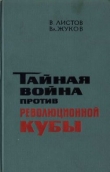Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №02 за 2009 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Коренной американец

Несколько лет назад я оказался в гостях в штате Коннектикут, в частном доме, походившем на хорошую старую дачу с цветниками, грядками и разными хозпостройками. Одна из них имела необычную архитектуру: нечто вроде собачьей конуры с запирающейся дверцей и на ножках-столбиках – необходимой защитой как для кур, так и для яиц от пронырливых енотов. Вечером того же дня я убедился в бесцеремонности этого зверька. Как только стемнело, он пришел на участок и бесстрашно заглянул внутрь дома, наверное, в надежде чем-нибудь поживиться. Но, увидев меня, махнул черно-белым хвостом и скрылся. Фото вверху: AGE/EAST NEWS
Зоосправка
Енот-полоскун – Procyon lotor
Тип – хордовые
Класс – млекопитающие
Отряд – хищные
Семейство – енотовые
Род – Еноты Животное с очень характерной внешностью: на морде – черная с белой оторочкой маска, на хвосте – 5—10 чередующихся черных и белых колец. На остальных частях тела мех коричневатосерый, густой. Длина тела 45—60 сантиметров, хвоста 20—25 сантиметров; масса 5—9 килограммов (накануне зимовки может достигать 20 килограммов). Телосложение плотное, коренастое. Лапы короткие, каждая с пятью очень хорошо развитыми пальцами. Исторический ареал – Северная и Центральная Америка. В ХХ веке был успешно акклиматизирован в Западной Европе (Франция, Германия, Нидерланды), Средней Азии, на Северном Кавказе и в Закавказье. Попытки акклиматизации на Дальнем Востоке успеха не имели. В местах акклиматизации наносит значительный ущерб местной фауне (особенно наземно гнездящимся птицам), не прошедшей совместно с ним эволюции. Охотно селится рядом с людьми (в парках, на садовых участках), поедает отбросы на помойках, забирается в дома и постройки. Невосприимчив ко многим инфекционным и инвазионным заболеваниям, малочувствителен к жалящим насекомым, агрессивно защищается от хищников. Основные враги в природе – волк, койот, рысь, илька (куница-рыболов), на юге ареала – аллигатор, для детенышей – змеи и крупные хищные птицы. Часто гибнет на дорогах. Служит объектом массовой промысловой (ради ценного меха) и спортивной охоты. Индейцы и многие белые американцы считают мясо енота деликатесом и охотно употребляют в пищу. Тем не менее благополучию вида ничто не угрожает. Легко приручается, но к хозяину не привязывается. Может выполнять несложные цирковые трюки. Продолжительность жизни – 12—16 (в неволе до 20) лет.

Лучший дом для енота – это дупло. Наиболее удобными зверьки пользуются много лет, полируя до блеска их края своим мехом. Фото: AGE/EAST NEWS
Семейство енотовых – не самое многочисленное в отряде современных хищных, но в нем все же насчитывается больше 20 видов. Из них семь относятся к роду, давшему имя всему семейству. Однако когда говорят просто «енот», можно не сомневаться, что имеется в виду вполне конкретный вид: енот-полоскун, он же обыкновенный, или американский.
В общем-то, для всех трех названий есть веские основания. Этот зверек действительно коренной американец: его родные места простираются от Панамского перешейка до южных провинций Канады и от Атлантического океана до Тихого. Он в самом деле обыкновенный, так как встречается почти повсюду на этом огромном пространстве. Хотя его основное местообитание – широколиственные леса умеренного пояса, он успешно обживает и другие ландшафты: от среднегорья до морских побережий, от непроходимых субтропических болот до садовых участков и городских парков. Пожалуй, единственное, чего он определенно избегает, так это местности, где нет ручьев, небольших озер, речных стариц или хотя бы непересыхающих луж.
Зоологическая систематика относит енота к хищным зверям, но, как и многие его собратья по отряду, в реальной жизни он всеяден. В его рацион входят: моллюски, ракообразные, насекомые (в том числе личинки ос и шмелей), черви, рыбы, пресмыкающиеся, птицы и их яйца, грызуны, ягоды, плоды, орехи, желуди, виноград, дыни, даже картошка и зерно – одним словом, все, для поедания чего не нужны ни особое мастерство настоящего хищника, ни высокотехнологичное пищеварение травоядных. Питаться такими кормами приятно и удобно, но и претендентов на них всегда много: примерно таков же спектр питания медведей, барсуков и ряда других куньих, ежей, многих врановых птиц... Однако еноту удается обойти всех своих конкурентов: когда в засушливый год в Закавказье случился неурожай диких фруктов и ягод, охотники зимой отмечали, что барсуки, медведи и кабаны необычайно тощие, а вот вселенцы-еноты такие же упитанные, как и в обычный год.
Успех енотам обеспечивает целый ряд уникальных ноу-хау. Прежде всего в длинном ряду всеядных собирателей енот чуть ли не единственный, промысловыми угодьями которому служат три среды. Он роется в лесной подстилке и траве, виртуозно лазает по деревьям, причем не только по стволам и толстым сучьям, но и веткам. Тем не менее чуть ли не самый любимый промысел енотов – ловля водной живности. Стоя по брюхо в воде и опираясь в основном на задние лапы, енот шарит передними по дну. Поймав рака, лягушку или рыбу, зверек энергично треплет добычу под водой. То же самое он нередко проделывает и с живностью, пойманной на суше, если неподалеку есть водоем. И даже в неволе еноты нередко полощут кусочки еды (в том числе столь малоподходящей для этого, как печенье или сахар), что и стало основой для их видового названия «полоскун» (по латыни – lotor, то есть буквально – «мойщик»).
Хотя эта черта поведения енотов известна очень давно, ученым до сих пор не удалось выяснить, зачем она им. Наиболее обоснованным выглядит предположение, что таким образом зверьки освобождают добытых моллюсков и земноводных от докучливой слизи (которая у многих амфибий еще и ядовита). Поскольку в дикой природе енотам не встречались бисквиты и куски рафинада, ополаскивание ничему не вредило, и эволюции оказалось легче закрепить желание мыть все подряд, нежели заставить всеядное существо каждый раз определять, нуждается ли данная добыча в мытье. Впрочем, трудно сказать, насколько это поведение – веление инстинкта, а насколько – забава. Во всяком случае, в неволе основательно проголодавшийся енот ест из кормушки, не отвлекаясь на всякие глупости. И только утолив первый голод, бежит с очередным куском к корыту с водой.

Выводки бывают очень большими, тем более что мамы-еноты могут усыновлять чужих осиротевших детенышей. Фото: AGE/EAST NEWS
Второе выдающееся «изобретение» енотов – это их лапы. Даже несведущего человека при первом же взгляде поражает их сходство с человеческими (точнее, обезьяньими) руками: длинные, гибкие, широко раздвинутые пальцы и мягкая ладошка. Специалист добавит, что это сходство не только внешнее. У большинства млекопитающих корковые нейроны управляют произвольными движениями через несколько промежуточных переключений в мозгу, что позволяет одной клетке коры приводить в действие множество мышечных волокон. И только у приматов и енотов кисть управляется через единственное переключение: корковые нейроны отдают команды прямо мотонейронам в спинном мозгу, а те – непосредственно мышцам. Это, конечно, требует гораздо большего числа клеток коры, но зато позволяет совершать тонкие и точные движения: ловить на ощупь проворную скользкую рыбу в потоке воды или открывать простенькие задвижки и шпингалеты на дверцах кладовок и мусорных ящиков. (Этим процессам содействуют также пучки чувствительных волосков между пальцами, на внутренней стороне конечностей, морде и брюхе.) Да и в кронах деревьев хваткие лапы очень помогают: когда ветка, по которой идет енот, становится слишком тонкой и гибкой для него, он, не выпуская ее из пальцев, переворачивается и продолжает движение спиной вниз – подобно ленивцу, но гораздо быстрее.
Задние лапы енота снабжены еще одной хитростью: его стопа может выворачиваться почти на 180 градусов. Благодаря этому енот не знает проблемы, знакомой всем кошкам (и их владельцам) – как спуститься оттуда, куда так легко было забраться. Кошка жалобно мяучит, прося, чтобы ее сняли, а если это не помогает, решается на отчаянный прыжок. Енот же разворачивается головой вниз и спокойно спускается: его надежно держат задние лапы, когти которых при спуске направлены вверх. Впрочем, в случае чего он может и прыгнуть, безопасно приземляясь даже с высоты 10—12 метров.
При таких верхолазных способностях любимым убежищем для енота становится дупло в толстом стволе. Его не смущает, если оно находится в 20—30 метрах от земли, главное, чтобы было достаточно вместительным. Если же подходящего жилища не находится, зверек использует нечто подобное: расщелину в камнях, нору барсука или крупного грызуна. Сам он нор не роет, ограничиваясь лишь минимальной «подгонкой» чужих логовищ под себя. Сноровистая лапа енота умеет многое, но для рытья земли малопригодна.
Между тем убежище – важный элемент в его жизни. Обычно зверек проводит в нем весь день, выходя лишь на вечерней заре. Выбравшись из дупла, он сидит рядом, умываясь и расчесывая свою роскошную шубу. И только в полной темноте пускается на промысел.

По точности и совершенству движений «руки» енотов соперничают с обезьяньими и намного превосходят лапы прочих млекопитающих
Хотя еноты при необходимости могут развивать скорость до 24 км/ч, обычно они двигаются медленно, сосредоточенно исследуя все, что попадется на пути. Поэтому зверек редко уходит дальше полутора километров от дома и на рассвете возвращается обратно. Впрочем, у енотов на участке часто есть еще несколько «павильонов» и «флигелей» – временных убежищ для одноразовой ночевки. При этом индивидуальные участки енотов могут сильно перекрываться: встречаясь на тропах, зверьки обычно мирно расходятся. Хотя при этом часто шипят, принимают угрожающие позы и всячески показывают, как хорошо они обошлись бы без этой встречи.
Однако совсем друг без друга раздельнополые существа обходиться не могут: в феврале – марте у енотов начинается гон. Самцы дерутся между собой и добиваются благосклонности самок. Но семейное счастье недолго. Они бросают своих подруг сразу же после наступления у них беременности. Примерно через девять недель после этого самки рожают (конечно, в дуплах и других убежищах) по 3—7 голых, слепых детенышей весом около 80 граммов каждый. На второй неделе жизни они обрастают шерсткой, к концу третьей – прозревают, а в 4—6 недель начинают выходить из гнезда. В три месяца мать перестает кормить их молоком, но они остаются с ней как минимум еще месяц-другой, а часто и до весны.
Если на юге ареала, в субтропиках и тропиках жизнь, енотов мало зависит от времени года (вплоть до того, что там может не быть определенного сезона размножения), то на севере США, в Канаде и странах, где енот был акклиматизирован, она подчинена календарю. Енот-полоскун – единственный из енотов, кто умеет впадать в спячку, и подходит к этому делу со всей ответственностью: накануне залегания он может весить вдвое больше обычного, а толщина слоя сала на его спине достигать почти трех сантиметров. Взрослые самцы зимуют обычно в одиночку, самки же – с подросшими детенышами. Иногда, если размеры логова позволяют, несколько семей зимуют вместе. Поэтому на одной зимовке можно обнаружить по полтора-два десятка зверьков. Впрочем, спячка у енотов неглубокая: дыхание и ритм сердца замедляются мало, температура не снижается. В оттепель они иногда просыпаются, бродят некоторое время вокруг гнезда, а потом засыпают снова.
После выхода с зимовки выводки распадаются. У молодых енотов наступает половая зрелость. Но если молодые самки вступают в размножение почти сразу, то енотам-юношам приходится ждать до следующей весны: в первый год взрослые самцы практически не оставляют им шанса на успех в любви.
Борис Жуков
Музей на набережной

Во Франции, более чем где-либо, судьбы искусства часто вершили политики. За примерами далеко ходить не надо. В 1960-е годы в центре Парижа вырос сомнительный архитектурный шедевр, коим увековечил свое имя президент Жорж Помпиду. Его преемнику Жискар д"Эстену пришла более счастливая идея – превратить в музей классического модерна находящийся под угрозой сноса вокзал д"Орсе. В начале XXI века достойным продолжателем этой традиции стал президент Жак Ширак: его стараниями на набережной Бранли открылся этнографический музей «нового поколения».
Если вы ориентируетесь в центре Парижа (к счастью, такое предположение сегодня уже не звучит издевательством), то представьте себе, что вы находитесь на левом берегу Сены и двигаетесь по набережной от центра в сторону Эйфелевой башни . Вы проходите упомянутый уже музей Орсе, затем площадь Инвалидов с ее помпезными монументами имперских эпох. Не доходя лишь метров двести до Эйфелевой башни, которая уже выглядывает из-за домов, отведите взор от неторопливых волн Сены и посмотрите налево. Глазам вашим предстанет удивительное зрелище: за стеклянной стеной прямо посреди города расположился изрядный участок джунглей.
Причем джунгли не прячутся внутрь, как пальмы в оранжерею, а так и норовят выбраться наружу: фасад рядом стоящего дома уже густо порос растениями. А там, за стеклянной стеной, среди цветов и деревьев призывно вьется тропинка...
Зрелище это производит впечатление странное и отрадное. Тем, чье детство прошло в компании героев Туве Янссон, на ум приходит приключение семейства Муми-троллей, когда из пары сухих листиков, оказавшихся в волшебной шляпе, вырастают целые джунгли. «Лианы проросли сквозь печную трубу, оплели крышу и окутали весь муми-дом пышным зеленым ковром». А в шкафу, как сейчас помню, Муми-мама нашла куст ежевики.
Примерно такие же, давно забытые, почти детские чувства, щекочущее предчувствие приключения вызывает первый взгляд на новейший репрезентативный объект парижского ландшафта: музей на набережной Бранли.
Таково официальное название. Но, конечно, все говорят просто «музей Бранли». При этом французский физик и пионер радиотехники Эдуард Бранли ни разу в жизни не бывал ни в Африке, ни в Азии, ни в Океании, ни в Северной или Южной Америке – словом, ни в одном из тех регионов, откуда родом 300 000 экспонатов коллекции. Возможно, правильнее было бы назвать музей, по аналогии с тем же центром Помпиду , именем Жака Ширака.
«Этот музей не роскошь, но необходимость», – провозгласил он в 1996 году, через год после своего избрания президентом. «Мы должны срочно улучшить отношения с неевропейским миром». За политическими резонами стояли плохо скрытые побуждения личного характера: еще в 1980-е годы Ширак, будучи мэром Парижа, начал собирать коллекцию азиатского искусства. В 1990-м он познакомился с Жаком Кершачем – большим знатоком неевропейского искусства. Свою страсть к «африканщине» и «азиатчине» Кершач умело конвертировал в звонкую монету, став влиятельнейшим парижским маршаном, то есть арт-дилером. Именно он ввел в свое время термин art premier, «первоначальное искусство», призванный, по его мнению, заменить неполиткорректное «примитивное искусство».
Жителям нашей столицы не надо рассказывать, что происходит, когда мэр – а тем более президент – оказывается под влиянием той или иной эстетики. По счастью, Жак Ширак не стал строить памятника Христофору Колумбу на стрелке Ситэ. Порождением его амбиций оказался музей заокеанского искусства.

18 гектаров (вместе с парком) в центре Парижа: стоимость этого участка земли многократно превосходит стоимость самого здания
Эстетика против этнографии
Проект музея рождался в муках. Сперва специальный раздел задумали создать в и без того переполненном Лувре . Лувр зароптал. Тогда решили основать новый музей, укомплектовав его экспозицию из неевропейских собраний Лувра и части гигантской коллекции Музея человека (Musee de l"Homme). Тут взбунтовались сотрудники Музея человека. При бурной поддержке профсоюзов и научной общественности они протестовали как против сокращения рабочих мест, так и против «кастрации» этнографических собраний по эстетическим критериям. А именно так предполагалось поделить экспонаты, отобрав «лакомое» и броское для Бранли и оставив «объекты, представляющие чисто научный интерес», в Музее человека.
Споры о том, насколько вообще корректно мерить объекты примитивного (или, если угодно, первоначального) искусства европейской эстетической меркой, не утихают до сих пор. Создателей музея упрекают в «колониализме нового образца»: неуважении к праву обитателей неевропейской части планеты на иную систему ценностей. К тому же для этнографа или археолога объект, вырванный из контекста, лишен смысла. Неудивительно, что в этой среде идея строительства нового музея была воспринята как дорогостоящая показуха и не вызвала дружного одобрения.
Дискуссия шла не один год. Консенсус стал результатом многоэтажной дипломатической эквилибристики. Всем что-нибудь пообещали: профсоюзам – создание новых рабочих мест, ученым – дополнительные инвестиции в научные проекты, обществу охраны памятников – бережное обращение с парижской стариной. Лишь после этого в квартале между Сеной и Трокадеро, в тени Эйфелевой башни, марокканские строители принялись выкорчевывать «не представляющие исторической ценности» здания османской эпохи, а в архитектурном бюро Жана Нувеля закипела работа над проектом музея.
Цикл от возникновения замысла до его реализации занял рекордные для современного Парижа 10 лет. В июне 2006 года в присутствии генсека ООН Кофи Анана и президента Жака Ширака состоялось торжественное открытие здания. Пресса широко обсуждала «музей, который построил Ширак», и пришла к выводу, что подобный культурный проект – все же самый благородный из всех известных способов растраты казенных средств.
Границы возможного
«Достичь границ возможного» в современной городской архитектуре – такую задачу поставил перед собой невротичный житель третьего округа, убежденный парижанин и гражданин мира Жан Нувель. При этом, однако, он обещал «не строить здание ради здания», но лишь «создать оболочку для уникальной коллекции». Кажущаяся дилемма была решена с блеском. Редко приходится видеть столь совершенное сочетание формы и содержания. На двух гектарах дорогой парижской земли, находившихся в его распоряжении, Жан Нувель ухитрился создать «мир в мире». Он начинается не внутри здания, а уже при первом шаге за двенадцатиметровый «щит» из волнистого стекла – зримо-незримую стену, отделяющую территорию музея от остального Парижа.
Здесь, за стеной, даже воздух другой – он влажнее, прохладнее и полон запахов растений, рассаженных на импровизированных холмах и в низинках. Садовники выбрали из блеклой европейской флоры такие цветы и деревья, которые отлично чувствуют себя в парижском климате и своим сочетанием создают иллюзию джунглей. Так, оказывается, что рябина, увитая плющом, выглядит куда экзотичнее, чем чахлые пальмы, вынужденные влачить свой век в кадках. Впрочем, экзотических растений тут тоже немало. Около двух сотен деревьев были высажены в землю, специально привезенную на берега Сены. Со стороны набережной растут ясени и дубы, со стороны Университетской улицы – магнолии и вишни. Пока деревья еще слишком молоды, но однажды они разрастутся и реализуют замысел архитектора: построить первое «общественное здание, которого не будет видно с улицы».
Несмотря на все усилия по созданию максимально неприхотливого тропического сада, держится это зеленое великолепие лишь благодаря неустанному уходу: в штат музея входит бригада садовников.
Как удалось сделать так, чтобы небольшой в сущности парк с его прудиками и мощеными тропинками производил ощущение «магического леса»? Это останется секретом его планировщика – ландшафтного дизайнера Жиля Клемана. В многочисленных интервью Клеман абстрактно рассуждает об идеальных пропорциях в сочетании возвышенностей и низин и скромно вспоминает гениев парковой архитектуры прошлого.

Административное здание музея визуально вписано в ландшафт
«Новая скромность»
Посреди зелени высится здание, которое, появись оно на пустыре, вряд ли сошло бы за шедевр современной архитектуры. Собственно музей Бранли представляет собой вытянутую коробку со слегка скошенными углами, длиной 220 метров. Коробка стоит на 26 бетонных «ногах», расположенных произвольно, как ноты в партитуре новой музыки. Этакий многоногий троянский конь современной цивилизации, пасущийся среди доверчивых тропических растений. Проникать в «коня», как и полагается, следует «с хвоста».
На уровне земли находится просторное фойе, из которого широкая лестница препровождает зрителей наверх. Она огибает стеклянный цилиндр многометрового диаметра, который наполнен некими таинственными темными предметами. Если внимательно присмотреться, они оказываются... барабанами, бубнами, тамтамами и прочими музыкальными инструментами, которых здесь около 9000. Невидимые динамики передают их тихий рокот. Они – «свидетели» мира таинственного и безбрежного.
О «сакральном сооружении для мистических объектов, носителей тайн, свидетелей древних и живых цивилизаций» говорил архитектор Нувель, представляя в 1999 году свой проект. К некой безбрежности готов и зритель, вступая в музей из «медитативного парка».
Первое впечатление от Бранли: он обозрим. Из 300 000 инвентаризированных объектов, которые заявлены в каталоге, в постоянную экспозицию включены лишь 3500. Это немного. К «прозрачности», незагруженности пространства стремится и внутренняя архитектура здания. Все без малого 5000 м2 выставочной площади (зал шириной от 20 до 35 метров и длиной около 200) сразу же открываются глазу. Здесь нет бесконечной анфилады, характерной для классических музеев. Стены почти отсутствуют, не считая так называемой змеи – обтянутого бежевой кожей извивающегося дивана-перегородки в центре зала. Его органическая, биоморфная форма – новость для традиционно холодной, геометричной интерьерной политики Нувеля.
На первый взгляд экспозиция предстает несколько бессистемной и даже в некотором роде легкомысленной. По крайней мере, она лишена дидактичности других этнографических музеев Европы. Множество разнокультурных и разновозрастных объектов сочетаются нарочито произвольно, по принципу свободной ассоциации – мол, тут изображение женщины с младенцем и здесь тоже. Кроме того, экспонаты намеренно лишены комментария. Чтобы прочитать табличку с описанием объекта, приходится долго и порой безрезультатно искать. Такова политика музея: не рассказывать, а показывать. Обращаться прежде к фантазии и подсознанию, а уже потом – к логическому мышлению.
При ближайшем рассмотрении некая система, конечно, обнаруживается: во-первых, по географическому принципу (экспонаты организованы в пять разделов, в каждом из которых пол выкрашен в свой цвет), во-вторых, по тематическому. И отчасти – хронологическому. Но ни один из принципов не является ни обязательным, ни сквозным. Очевидно, что музей делает ставку не на системный подход, а на эмоциональный шок. И этого результата он вполне достигает.

План древнего жилища. Надпись в центре выполнена шрифтом Брайля, так что слепые посетители тоже могут получать информацию об экспонате
«Силы потайные, силы великия»
Прав все-таки Кершач: не примитивным и уж тем более не наивным, а именно первоначальным и исконным стоит называть это искусство, возникшее как одна из немногих доступных человеку форм общения с миром нездешним.
Автор этих строк вообще неохотно пользуется словом «энергия». Но по-другому не опишешь воздействие этих вещей: недобро улыбающихся ритуальных масок, истыканных ржавыми иглами статуэток (и пусть каталог не рассказывает, что так африканцам под влиянием миссионеров виделся Христос), мощных каменных фаллосов. В этих вещах – энергия иного мира – мира, не смиренного Пришествием, не обузданного гуманизмом, не зажатого политкорректностью.
И, наверное, правильной была идея не грузить и без того загруженного зрителя навязчивыми комментариями. В конце концов, как постулировал этнограф Клод Леви-Стросс (кстати, большой сторонник идеи создания этого музея), «ни одно этнографическое собрание не может сегодня всерьез претендовать на то, чтобы представить правдивую картину той или иной культуры». Кроме того, при желании информацию все же можно обрести – из динамиков, ненавязчиво воркующих в каждом углу, или из книг и каталогов, продающихся по вполне доступным ценам.
И все равно: идеально отреставрированные, эффектно подсвеченные и упрятанные в стеклянные «сейфы», иные из объектов по своему воздействию непропорциональны даже этому музею. Их созерцание во все-таки «профанном» пространстве оставляет ощущение некоторого неудобства – так бывает слегка неловко за восторженных западноевропейских коллекционеров, украшающих стены своих гостиных асимметрично развешанными русскими иконами.
Кстати об иконах: странно, что в общий «неевропейский котел» с ритуальными масками экваториальной Aфрики и культовыми предметами исконных обитателей Америки угодило искусство Африки христианской. Фрески, снятые со стены коптской церкви в Эфиопии, смотрятся абсолютно чужеродным объектом в этом «языческом» музее. Впрочем, этот контраст лишь иллюстрирует ключевые вопросы, которые ставит Бранли: кто мы такие, в чем заключается наше отличие от других и есть ли оно сегодня?

Из мистической темноты навстречу зрителю выступают герои экспозиции
Взгляд на другого
Как уже говорилось, места в постоянной экспозиции хватает приблизительно для 1% коллекции, собранной за пять веков колониализма и полтора столетия этнографической науки. Безбрежные собрания фото-, аудио– и киноматериалов доступны публике в специально оборудованных медиатеках. Остальные объекты обещают показывать в рамках сменных выставок, распланированных на 12 лет вперед. Первая из них состоялась под программным названием «D"un regard l"autre» (что можно примерно перевести как «Взгляд на другого»).
С тех пор как в начале XVI века гениальный немецкий картограф Мартин Вальдзеемюллер нанес на глобус предполагаемый им, но еще никому не ведомый американский континент, воображение европейцев занято обитателями «иного мира». Сперва не более реальный, чем инопланетянин, в последующие века заокеанский житель «делает карьеру» от «кровожадной бестии», варвара и, конечно, каннибала до «благородного дикаря». На выставке можно было увидеть и идеализированные мраморные бюсты negri, выполненные в соответствии с иконографией Ренессанса, и стилизованные портреты «африканских послов» Джаспера Бекса: наряженные в камзолы и шелковые панталоны, в напудренных париках, кавалеры замерли в куртуазных позах, черный цвет их лиц кажется всего лишь данью карнавальной ночи.
«Может ли человек сильно отличаться от меня и при этом оставаться человеком?» – этот наивно-расистский вопрос впервые открыто задал в XVII веке еще один «участник» выставки – голландец Альберт Экхоуд. Во время восьмилетнего путешествия по Бразилии художник изображал свои модели на фоне тщательно прописанной тропической растительности. Еще более старательно выписаны экзотические украшения дикарей. В некотором смысле подход Экхоуда схож с тем, что практикуется и сегодня в этнографических музеях. Впрочем, вполне ли можно доверять этому «энциклопедисту»? Где он рисует реальность, а где обслуживает уже существующее представление о ней?
Особенно хорош «Портрет женщины из племени тапуйя»: миловидная обнаженная дикарка держит отрубленную человеческую руку, а из изящного узелка за спиной торчит чья-то нога. Похоже, мать семейства только что была на базаре...
«Череп Парижа»
Где оригинал, а где стилизация? Это еще один вопрос, который задает проект Бранли. Чуть ли не самый знаменитый предмет коллекции – так называемый «парижский череп». Высотой 11 сантиметров, весом 2,5 килограмма, он выточен из цельного куска горного хрусталя. В 1878 году череп был передан в дар этнографическому музею на Трокадеро (будущему Музею человека) коллекционером Альфонсом Пинаром – в качестве шедевра доколумбова искусства. Ацтекские черепа – своеобразные «яйца Фаберже» мира заокеанских древностей: на сегодняшний день известны 12 объектов такого рода. Один из них хранится в Британском музее, другой, самый крупный, принадлежит Смитсоновскому институту в Вашингтоне. Остальные разошлись по частным коллекциям и известны под фантастическими названиями вроде «Черепа Судьбы», «Макса» или «Синергии».
Сомнения относительно происхождения хрустального черепа появились уже в XIX веке. Хотя бы потому, что приобретен он был у антиквара Эжена Бобана – лихого путешественника и не слишком чистоплотного предпринимателя. Однако лишь в 2007 году в лаборатории Бранли были проведены трехмесячные исследования, окончательно разоблачившие легенду о черепе. Он был выточен при помощи алмазных резцов не раньше второй половины XIX столетия, скорее всего, в одной из ювелирных мастерских на юге Германии, где и сегодня специализируются на схожем способе обработки камня.
«Разоблаченный» череп был представлен публике в рамках специальной выставки, открывшейся в канун европейского старта фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Подобная смычка с шоу-бизнесом вызывает мысль о том, что если музеи строят… значит это кому-нибудь нужно.
Эта мысль усиливается и углубляется, если побродить по улочкам в окрестностях набережной Бранли. Здесь вы обнаружите не одну, и не две, и даже не дюжину галерей, специализирующихся на продаже африканских и азиатских древностей.

«Верстовые столбы», прежде отмечавшие зону господства племени, сегодня направляют посетителей музея
Цены на эти артефакты, ранее представлявшие интерес в основном для узкого круга любителей, за последние годы выросли многократно. Один мой знакомый адвокат, прежде собиравший экзотические маски и скульптуру исключительно ради собственного удовольствия, сейчас забросил надоевшую юридическую практику и переквалифицировался в дилера по «африканскому искусству». «Океанический рынок» пока не переживает того бума, какой имеет место в искусстве современном, но явно стремится к нему и, возможно, станет следующей площадкой финансовой карусели.
Тесная связь этих двух рынков не вызывает сомнений. Не случайно одним из первых в Бранли выставлялся звезда «контемпоральщины» Йинка Шонибаре. Родившийся в Лондоне нигериец сделал себе имя как раз на кокетстве с колониальным прошлым и его стилизации. Так, его самая известная инсталляция «Большое путешествие» представляет собой группу викторианских денди, свитых из пестрых африканских тканей. Денди совокупляются в самых затейливых позах с пышногрудыми дамами, также свитыми из тряпок. Все это – намек на гранд-тур, традиционное познавательное путешествие молодых аристократов по Средиземноморью.