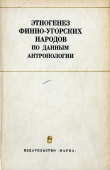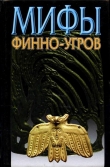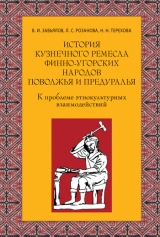
Текст книги "История кузнечного ремесла финно-угорских народов Поволжья и Предуралья: К проблеме этнокультурных взаимодействий"
Автор книги: Владимир Завьялов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Подводя итоги металлографическому исследованию коллекции железных предметов из памятников ананьинского времени с территории Среднего Прикамья, отметим ряд особенностей, характеризующих кузнечную продукцию.
Основная масса исследованных изделий изготовлена в простейших технологиях: из железа или малоуглеродистой сырцовой стали (36 экз. из 55 исследованных, или 65,5 %) без каких-либо приемов по улучшению рабочих качеств. Только пять предметов откованы из специально полученной стали путем цементации полос-заготовок; четыре из них подвергнуты термообработке. Причем во всех случаях это твердая закалка на мартенсит. Прием цементации готового изделия условно можно отнести лишь к одному предмету (ан. 6087). Четвертая часть поковок откована из пакетных заготовок, или металла вторичного использования. Использование пакетных заготовок фиксируется даже на миниатюрных изделиях (небольшие ножички, шилья). Повидимому, мастера не располагали большими объемами металла, с одной стороны, с другой – ценили и берегли его.
Мы уже говорили о том, что орудия из цементированной стали с последующей термообработкой происходят из памятников, датированных V–III вв. до н. э., т. е. относятся к среднему и позднему хронологическн. э.апам среднекамской группы ананьинских памятников. Единственное изделие – шило (ан. 6105), изготовленное, как показало исследование, из стали с последующей термообработкой, – относится как будто к раннему этапу (VII–VI вв. до н. э.). Во всяком случае, так автор раскопок С. Н. Коренюк датирует эту находку из Заюрчимского I поселения. Однако учитывая, что поселение это многослойное, т. е. там имеются слои V–III вв. до н. э. (Вечтомов 1967, с. 149), можно полагать, что изделие относится к более позднему времени. Технология его изготовления хорошо вписывается в технологическую характеристику материалов именно периода V–III вв. до н. э.
Оценивая в целом качество кузнечных операций, заметим, что довольно часто встречаются нарушения температурного режима: перегрев (крупнозернистая структура феррита, видманштеттная структура феррито-перлита), окончание ковки при низких температурах (вытянутость структурных составляющих).
Характеризуя используемое сырье, обратим внимание на то, что металл большинства изделий (34 экз.) отличается чистотой в отношении шлаковых включений, что свидетельствует о первичной качественной обработке сырьевого материала.
Наряду с изделиями из металла с низкими показателями микротвердости феррита (95,8—143 кг/мм2) и включениями нитридов железа, выделяется группа предметов, металл которых имеет средние показатели микротвердости феррита (160–206 кг/мм2).
На основании технико-технологической характеристики кузнечного инвентаря из памятников Среднего Прикамья ананьинского времени можно сделать вывод о том, что кузнечная техника находилась на начальных этапах самостоятельного развития. Об этом свидетельствуют использование простых технологиий, отсутствие в большинстве случаев приемов по упрочиванию рабочей части изделий, пакетирование заготовок, связанное с отсутствием достаточных объемов получаемого металла, незначительная доля специально полученной цементированной стали. Стальные термообработанные изделия появляются лишь на позднеананьинском этапе (IV–III вв. до н. э.).
Свидетельством того, что металл получали на месте, являются находки железных шлаков, криц[5]5
Мы не знаем насколько достоверны сведения о находке криц. К сожалению, очень часто полевые исследователи принимают за крицы шлаки. Сами же крицы являются чрезвычайно редкой находкой.
[Закрыть] и ям с отходами металлургического производства на таких городищах как Больше-Никольское I и 1-е Субботинское (Оборин 1960, с. 40). Можно полагать, что местные мастера начинают использовать болотные руды.
Возможно, первые изделия из железа и сама идея получения черного металла попадают в местную среду в связи с появлением здесь в конце VI в. до н. э. выходцев из Среднего Поволжья. На технологии же кузнечной обработки это не отразилось, она развивалась самостоятельно – от простого к сложному. Не исключено, что некоторые изменения, наблюдаемые нами на позднем этапе, связаны с появлением на Средней Каме караабызского населения (Пшеничнюк 1967, с. 156–169; Иванов 1978). Вопрос этот может быть решен после аналитического исследования материалов из памятников караабызской культуры.
В III–II в. до н. э. на огромной территории распространения ананьинской культурно-исторической общности начинается процесс формирования новых археологических культур: гляденовской в Верхнем и Среднем Прикамье, а также на средней и верхней Вычегде и в верховьях Печоры и пьяноборской – в нижнем Прикамье и в бассейне реки Вятки.
Гляденовские памятники обнаруживают генетическую преемственность с ананьинскими и продолжают непрерывную линию развития пермского этноса на Европейском Северо-Востоке (Голдина 1987, с. 11–12). В настоящее время известно более 200 памятников гляденовской культуры. Гляденовские городища имеют значительную площадь (до 12000 м2), укреплены в раннее время одним валом и рвом, а позднее – несколькими валами. Основная масса памятников – селища. Своеобразными памятниками гляденовской культуры являются костища. С их назначением связан один из спорных вопросов в изучении культуры. В свое время В. Ф. Генинг и В. А. Оборин высказали гипотезу о том, что эти памятники были «коллективными могильниками» с обрядом трупосожжения. Однако в настоящее время большинство исследователей считают костища жертвенными местами. Это мнение основано на анализе обнаруженных на костищах сооружений и расположения вещей на них. Кроме того, мнение В. Ф. Гении га и В. А. Оборина опровергается и открытием настоящих гляденовских могильников с трупоположениями (Поляков 1980, с. 12). Специфической чертой гляденовского погребального обряда является отсутствие в погребениях вещей. Гак. например, в 74 погребениях могильников Городок и Заосиновский найдено всего четыре ножа и бронзовая височная подвеска.
Для комплекса гляденовских древностей характерна чашевидная посуда, украшенная оттисками веревочки и, главным образом, резными насечками, образующими горизонтальные ряды и зигзаги.
Железный инвентарь культуры немногочислен и в категориальном, и в количественном отношении. Он охватывает предметы малых форм: наконечники стрел (трехлопастные, граненные, плоские), ножи, мотыгообразные орудия, стамески, шилья. Кроме того, на костищах часто встречаются миниатюрные железные предметы – проушные топоры, наконечники стрел, ножи, имевшие, по всей видимости, вотивное значение. Интересной представляется находка 20 миниатюрных проушных железных топориков, обнаруженных на Гляденовском костище (Бадер, Оборин 1958, с. 118, рис. 35, 1, 2). Эти артефакты говорят о знакомстве среднекамского населения с пролитым топором, хотя сами топоры и не были найдены.
Археологические исследования гляденовской культуры свидетельствуют, что местное население занималось производством железа – на ряде памятников (Черновское I, Горюхалихинское, Поздышкинское городища) были обнаружены производственные сооружения: «ямы для варки железа, углежогные ямы» (Поляков 1980, с. 12). Однако установить характер производства и уровень развития железодобычи на основании таких скудных данных не представляется возможным.
Для определения характерных черт железообрабатывающего производства населения гляденовской культуры проведено металлографическое исследование 27 предметов из пяти памятников (табл. 9). Наиболее представительную группу в исследованной коллекции составляют ножи. По форме их можно объединить в несколько грмш.
Ножи. Эти орудия являются наиболее многочисленной категорией. Большую часть составляют ножи с прямой спинкой и уступом при переходе от клинка к черенку со стороны лезвия. Длина ножей колеблется в пределах 9,5—11,5 см. Черенок составляет менее половины длины клинка.
Основным приемом изготовления исследованных ножей была формовка предмета свободной ручной ковкой. При этом использовались различные виды сырья. Три ножа откованы из кричного железа. Железо мелко– и среднезернистое с микротвердостыо 151–170 кг/мм2.
Заготовками для пяти орудий послужила сырцовая сталь (рис. 26). Содержание углерода на отдельных участках доходит до 0,4 %. На одном изделии отмечены следы резкой закалки (структура крупноигольчатого мартенсита). Но из-за низкого содержания углерода предмет приобрел незначительную для такой структуры микротвердость – 350 кг/мм2.
Таблица 9
Распределение исследованных предметов гляденовской культуры по памятникам

Еще четыре ножа откованы из пакетных заготовок. Сварные швы имеют вид белых полос шириной 0,008—0,02 мм и проходят вдоль плоскости клинка. Пакет набирался из полос сырцовой стали с содержанием углерода 0,2–0,3 %. Один из этих ножей прошел термообработку – резкую закалку. Микротвердость колеблется в пределах 383–464 кг/мм2 и лишь в одной точке (на острие) составляет 572 кг/ мм2.

Рис. 26. Гляденовская культура. Поселение Пожегдин П. Ан. 6816, нож: а – технологическая схема изготовления лезвия (целиком из сырцовой стали), фотография микроструктуры, х100 (феррито-перлит); б – технологическая схема черенка (сырцовая сталь), фотография микроструктуры, х100 (феррито-перлит)
И наконец, на одном ноже обнаружена структура, позволяющая говорить о применении сварной технологической конструкции. Определить характер схемы довольно сложно ввиду плохой сохранности лезвия: это либо косая наварка, либо вварка. Стальное лезвие составляет очень узкую полоску с содержанием углерода 0,3–0,4 %. На отдельных участках сохранились следы термообработки. Сварной шов очень тонкий, прослеживается не на всем протяжении и лишь при большом увеличении. Характер структуры дает возможность предполагать, что этот нож изготовлен высококвалифицированным мастером.
Долота. Исследованные орудия представлены миниатюрными инструментами длиной 5–8 см и шириной лезвия 0,5–0,6 см (рис. 27). Функциональное назначение таких миниатюрных предметов не вполне ясно. Основной операцией при их изготовлении была свободная ручная ковка из различного вида сырья. Одно долото отковано из сырцовой стали. Содержание углерода колеблется от 0,2 % до 0,4 %. Лезвия двух долот, откованных из кричного железа, были дополнительно процементированы. Содержание углерода на лезвии одного образца доходит до 0,6–0,7 %, но углеродистый слой незначителен и не превышает 1–1,5 мм. При изготовлении двух орудий применялись сварные технологические схемы. Лезвие у образца ан. 6775 (рис. 27) было наварено в торец (содержание углерода на лезвии около 0,6 %), у другого долота – боковой наваркой стальной пластины (содержание углерода 0,5–0,6 %). В обоих случаях сталь, наваренная на лезвие, имела неравномерное распределение углерода, что говорит о ее металлургическом происхождении. Сварка проводилась при повышенных температурах, на что указывает размытость сварных швов. Слишком высокая температура сварки привела к образованию структуры видманштетта в стальной полосе, в зоне сварного шва (рис. 27, ан. 6775).
Шилья. Из различных сортов металла отковывались и шилья. Орудие из поселения Пожегдин II (I–V вв. н. э.) отковано из кричного железа. Феррит среднезернистый с низкой микротвердостью (80—110 кг/мм2). При изготовлении шила из Гляденовского костища была использована стальная заготовка с равномерным распределением углерода (рис. 27, ан. 6777). Его содержание в металле составляет до 0,6 %. Еще один инструмент откован из пакетной заготовки, которая сварена из различных сортов стали с содержанием углерода от 0,3–0,5 % до 0,9–1,1 % (рис. 28). Сварные швы имеют вид широких белых полос (ширина около 0,04 мм), что свидетельствует о невысоком уровне сварки.

Рис. 27. Гляденовское костище. Ан. 6775, долото: А – образец с лезвия; а – место отбора образца; б – технологическая схема изготовления (наварка стального лезвия); в – фотография микроструктуры, х100 (феррито-перлит); Б – образец со стержня: г – место отбора образца; д – технологическая схема изготовления (из сырцовой стали); е – фотография микроструктуры, х100 (феррито-перлит). Ан. 6777: ж – шило; з – технологическая схема изготовления (целиком из сырцовой стали); и – фотография микроструктуры, х100 (феррито-перлит)
Наконечники стрел (рис. 29). Из исследованных наконечников стрел один относился к разряду втульчатых и пять – к черешковым. Втульчатый листовидный наконечник стрелы с линзовидным в сечении пером откован из кричного железа, сильно засоренного шлаковыми включениями. Черешковые наконечники стрел имели под-треугольное перо с линзовидным сечением. Их размеры колеблются от 5 до 10 см в длину, при этом перо составляло около половины длины наконечника стрелы. Один из черешковых наконечников откован из кричного железа, и еще один из сырцовой стали. Для трех экземпляров использована пакетная заготовка, сваренная из полос железа и сырцовой стали. Сварные швы довольно широкие, заполнены шлаками (рис. 29, ан. 6780, 6779, 6782). Образец 6779 дополнительно подвергнут резкой закалке.

Рис. 28. Гляденовское костище. Ан. 6776: а – шило; б – технологическая схема изготовления (наварка стального острия на пакетную основу); в – г – фотографии микроструктур, х100 – феррито-перлит (в), сварной шов (г)

Рис. 29. Гляденовское костище. Наконечники стрел. Ан. 6779: а – технологическая схема изготовления (из пакетированой заготовки); б – фотография микроструктуры, х100 (феррито-перлит, сварные швы). Ан. 6780: в – технологическая схема изготовления (из пакетированной заготовки); г – фотография микроструктуры, х100 (феррито-перлит). Ан. 6782: д – технологическая схема изготовления (вварка стального лезвия в пакетную заготовку); е – фотография микроструктуры, х100 (феррито-перлит, сварные швы)
Проведенные микроструктурные исследования позволяют сделать вывод, что в гляденовское время в Прикамье активно использовалось такое сырье как железо и сырцовая сталь (табл. 10). Целиком из цементированной стали откован один предмет, в двух случаях использован прием цементации готового предмета. Используются пакетные заготовки, что, возможно, косвенно свидетельствует о небольших размерах получаемых металлургами криц. В этой связи уместно вспомнить, что даже в одном из крупнейших металлургических центров первых веков н. э. в Центральной Европе – Свентокшисском комплексе вес криц не превышал 530 г. (Sedlar, Piaskowski 1961, s. 90–91). Сварка в гляденовское время уже выступает как технологический прием. Однако ее применение еще не активно, схемы орудий нечеткие, а само качество сварки невысокое. Незначительна доля термообработанных изделий (четыре из 27 исследованных), что связано с малым количеством стали, способной воспринять закалку.
Таблица 10
Распределение технологических схем по категориям исследованных предметов гляденовской культуры

В целом кузнечное производство гляденовских племен имеет много сходных черт с железообработкой ананьинского населения Среднего Прикамья (табл. 11; рис. 30). Это сходство проявляется в использовании в качестве основного кузнечного сырья железа и сырцовой стали, частом применении пакетных заготовок, отсутствии специальной цементированной стали, редком применении термообработки. На основе полученных данных представляется, что гляденовская железообработка развивалась самостоятельно, не получая явных импульсов новых приемов и технологий.
На основании археометаллографических данных, которыми мы располагаем на сегодняшний день, можно заключить, что процесс формирования технологического стереотипа в кузнечном ремесле финно-угров начинается со второй половины I тысячелетия до н. э. Этот процесс демонстрируют материалы из памятников V–II вв. до н. э. на Средней Каме. Процессы, отмеченные в ананьинских памятниках Среднего Прикамья, закрепляются в гляденовское время. Характерной чертой железообработки для периода V в. до н. э. – II в. н. э. является преобладание технологической группы I – предметы, откованные целиком из железа или сырцовой стали – доля которой составляет 59,7 % (рис. 31). При этом превалируют цельножелезные предметы (34,1 %). В технологической группе II наиболее значительную долю составляют предметы, откованные из пакетных заготовок (26,8 %). Редко используется искусственно полученная сталь (9,8 %). В гляденовское время появляются единичные предметы, изготовленные с использованием технологической сварки – первые опыты освоения новых приемов обработки черного металла.
Таблица 11
Технологические схемы изготовления железных орудий труда в Волго-Камском регионе в раннем железном веке


Рис. 30. Соотношение технологических схем изготовления железных изделий из прикамских памятников ананьинской и гляденовской культур

Рис. 31. Соотношение технологических групп изготовления железных изделий из ананьинских и гляденовских памятников Прикамья
1.2. Особенности техники кузнечной обработки изделий из памятников азелинской и мазунинской культурБурная эпоха Великого переселения народов оказала заметное влияние на финно-угорские племена, территория проживания которых была удалена от основной зоны этнических катаклизмов. Этот этап характеризуется сложением качественно новых археологических культур, формированием новых культурных и этнических связей, а также ускорением процесса экономического и социального развития финно-угорских народов (Иванов 1998, с. 26). В это время происходят серьезные изменения в развитии хозяйства, что выразилось, в частности, в возрастании роли железных орудий труда, увеличении числа их категорий. Сами орудия становятся массивнее: исчезают миниатюрные ножи гляденовского времени, появляются топоры весом в несколько сот граммов. Получают развитие специализированные поселки, население которых занимается добычей и обработкой металлов (Генинг, 1980).
В послеананьинское время район нижнего течения Камы несколько сотен лет оставался в запустении. Как свидетельствует П. И. Старостин, археологические исследования в течение тридцати полевых сезонов в этом регионе не дали положительных результатов в обнаружении памятников IV в. до н. э. – II в. н. э. (Старостин 1990, с. 144). Население появляется здесь лишь в III в. н. э. В это время здесь формируются памятники т. н. азелинской культуры, занимавшей в основном территорию Волго-Вятского междуречья, левобережье Вятки и низовья Камы (рис. 32). Культура представлена такими памятниками как городища, селища, а также кладами и находками отдельных вещей (Старостин 2001, с. 92).

Рис. 32. Карта памятников азелинской и мазунинской культур, материалы которых исследованы металлографически: 1 —могильник Тюм-Тюм; 2 – V Рождественский могильник; 3 – Усть-Брыскинский могильник; 4 – Гремячинский могильник; 5 – городище Казанка II; 6 – Буйское городище; 7 – Тураевский могильник
По мнению В. Ф. Генинга, азелинцы были прямыми потомками нижнекамских племен, образовавших после распада ананьинской общности пьяноборскую культуру (Генинг 1958, с. 17–20; 1962). Однако в работах Р. Д. Голдиной высказано сомнение в правомерности выделения самостоятельной азелинской культуры. Автор предложила рассматривать эти материалы как отражение позднего этапа пьяноборской культуры (Голдина 1987, с. 13–14; 1999, с. 242). Из вышесказанного видно, что в настоящее время в археологической литературе еще не устоялась единая точка зрения на памятники III–V вв. н. э. бассейна Вятки. Однако для нас важно, что никто из исследователей не отрицает генетическую преемственность памятников по линии ананьино – пьяноборье – азелино и, таким образом, азелинское население представляет линию развития финно-угорского этноса в Волго-Камье. В середине I тысячелетия н. э. население азелинской культуры (мы будем употреблять именно этот термин, поскольку точка зрения Р. Д. Голдиной не получила достаточного обоснования в литературе) в связи с проникновением на занимаемую им территорию племен именьковской культуры уходит в более северные лесные районы Волго-Вятского междуречья (Старостин 2001, с. 96). Есть мнение, что именьковское население появляется на территории азелинской культуры уже в IV в. н. э. (Генинг 1958, с. 21).
К потомкам пьяноборцев относят и население мазунинской культуры. В III–VI вв. мазунинские племена населяли бассейн р. Белой и прилегающие районы Среднего Прикамья (Останина 1997). Железный инвентарь из памятников мазунинской культуры по типам орудий и категориальному составу имеет много общих черт с инвентарем из азелинских памятников.
Среди вещевого материала из азелинских и мазунинских памятников обращает на себя внимание обилие и разнообразие изделий из черного металла. Они представлены ножами (рис. 33, ж), топорами-кельтами (рис. 34–35), проушными топорами, различными инструментами, мечами, кинжалами, наконечниками стрел и копий (рис. 36), удилами, кольчугами, шлемами, пряжками и т. п. На некоторых азелинских могильниках зафиксированы погребения кузнецов по черному металлу или мастеров-ювелиров, сопровождавшиеся набором металлообрабатывающего инструментария и готовых изделий. Наиболее полный набор таких инструментов происходит из погребения 1 Азелинского могильника (Генинг 1958, с. 31, табл. XXIV, 1–3; 1963). Он представлен наковальней, молотком, клещами, напильником. Кроме того, инвентарь этого погребения включал кольчугу, нож, резец, кочедык, шилья, т. и. «косу». Погребения кузнецов зафиксированы на Усть-Брыскинском и Гремячинском могильниках (Старостин 2001, с. 94). В погребении 45 могильника Тюм-Тюм обнаружены, как сообщает автор раскопок, миниатюрные наковальня, молоток, клещи, напильник, нож, топорик, скобель (Ошибкина 1979, с. 76). Однако, судя по рисунку и приведенному масштабу, все перечисленные предметы не столь миниатюрны и имели функциональное значение. Следует уточнить определения некоторых инструментов. Так, названный С. И. Ошибкиной топор в действительности является теслом, скобель – это предмет, который вошел в литературу по определению В. Ф. Генинга, как т. н. «коса». Сомнение вызывает и интерпретация предмета, изображенного на рис. 2, 7, как напильника (Ошибкина 1979).

Рис. 33. Орудия труда азелинской культуры: Ан. 1246, Гремячинский могильник, погр. 3: а – молоток; б – технологическая схема (сварка стальных и железных полос, закалка в холодной воде); в – фотография микроструктуры, х70 (крупноигольчатый мартенсит, феррит). Ан. 1805, могильник Тюм-Тюм: г – молоток; д – технологическая схема изготовления (целиком из неравномерно науглероженной стали); е – фотография микроструктуры, х70 (крупноигольчатый мартенсит). Ан. 1245, городище Казанка II: ж – нож; з – технологическая схема изготовления (целиком из железа); и – фотография микроструктуры, х70 (мелкозернистый феррит)

Рис. 34. Топоры-кельты азелинской культуры. Ан. 3680, Усть-Брыскинский могильник, погр. 224: а – топор-кельт; б – технологическая схема изготовления (поверхностная цементация железной заготовки, закалка); в – фотография микроструктуры, х70 (феррит, феррито-перлит, мартенсит). Ан. 1803, могильник Тюм-Тюм: г – топор-кельт; д – технологическая схема изготовления (сквозная цементация лезвия, закалка); е – фотография микроструктуры, х70 (мартенсит с трооститом)
Перечисленные погребения представляют большой интерес как наиболее ранние, которые можно связать с мастерами по обработке черного металла. В производстве железных предметов наблюдается определенная стандартизация.

Рис. 35. Топоры-кельты азелинской культуры. Ан. 3679, Пятый Рождественский могильник, погр. 25: а – топор-кельт; б – технологическая схема изготовления (пакетирование заготовки, сварка стальных полос, закалка); фотография микроструктуры, х70 (мартенсит, сварные швы). Ан. 1783, могильник Тюм-Тюм: г – топор-кельт; д – технологическая схема изготовления (пакетирование заготовки – сварка стальных и железных полос); фотография микроструктуры, х70 (феррито-перлит, феррит)
В этом контексте большой интерес представляют материалы Буйского городища. Памятник расположен на высоком мысу при впадении речки Кужинерки в Вятку. Площадка городища периодически заселялась в течение длительного времени, начиная с эпохи бронзы. Интересующие нас материалы относятся к переходному периоду от пьяно-борской казелинской культуре. Периодом II–III вв. н. э. Л. И. Ашихмина датирует раскопанный ею на Буйском городище клад железных предметов, состоящий из девяти наконечников копий и 186 мотыгообразных орудий.

Рис. 36. Могильник Тюм-Тюм. Ан. 1793: а – наконечник копья; б – технологическая схема изготовления (целиком из неравномерно науглероженной стали); в – фотография микроструктуры, х70 (феррит с перлитом, видманштетт)
Кроме того, в клад входило пять бронзовых гривен. Обращает на себя внимание стандартная форма и близкие параметры мотыгообразных орудий: их высота варьирует в пределах 12,7—15,7 см, ширина рабочего края от 3,8 до 5 см, диаметр втулки от 3,1 до 4 см. Клад был зарыт в юго-западной части поселения, непосредственно у вала. Вещи компактно уложены в яму, вырытую в золистом слое и присыпанную этим же слоем. Мотыгообразные орудия представляют собой изделия с несомкнутой втулкой и симметричным лезвием. Автор раскопок считает, что вещи клада изготовлены одним мастером и предназначались для продажи (Ашихмина 1987, с. 117).
Аналитическое исследование прошли практически все категории железного инвентаря, встречающегося на памятниках азелинской культуры (табл. 12)[6]6
Аналитические материалы уже введены в научный оборот, поэтому мы не приводим результаты конкретных анализов (Терехова и др., 1997, с. 134–144; Шадрин, 2001)
[Закрыть]. Это изделия как местного, финно-угорского происхождения, так и предметы, принадлежавшие пришлому населению. Они происходят из Буйского городища, городища Казанка II, могильников Тюм-Тюм, V Рождественский, Усть-Брыскинский, Гремячинский (рис. 32).
Начнем с технологической характеристики изделий, традиционно относимых к материальной культуре финно-угров.
Как установлено, предметы, изготовленные местными финно-угорскими кузнецами, были откованы из железа, из сырцовой стали и из пакетных заготовок (рис. 33). Прием цементации используется крайне редко. Причем цементации подвергалось готовое изделие (цементация заготовки не применялась). Термическая обработка присутствует только в варианте резкой закалки.
Небольшой коллекцией (12 образцов) металлографически исследованных предметов представлены материалы мазунинской культуры. Они происходят из грунтовой части Тураевского могильника (Кондрашин 2002). Исследование прошли три наконечника копий, два топора, два ножа, пряжка, удила, кольцо, обломок колчанного крючка и наконечник стрелы. Технологические характеристики исследованных предметов мазунинской культуры не отличаются от известных нам по материалам азелинской культуры: изделия откованы целиком из железа или сырцовой стали, или из пакетных заготовок. К сожалению, на сегодняшний день этой небольшой коллекцией ограничивается технологическая характеристка кузнечных изделий из памятников мазунинской культуры.
Таблица 12
Азединская культура. Распределение технологических схем по исследованным предметам и памятникам

Итак, на основании металлографического изучения коллекции кузнечных изделий из памятников азелинской и мазунинской археологических культур можно заключить, что в большинстве случаев изделия изготовлены простейшими способами – ковкой целиком из железа (20 %) или сырцовой, т. е. полученной металлургическим путем, стали (36,6 %). Нередко использовалась кузнечная сварка нескольких полос металла – железных и стальных полос, при этом стальная полоса выходила на рабочую часть (30 %). Приемы цементации зафиксированы в восьми случаях (13,4 %).
Сравнение технологических характеристик по отдельным памятникам азелинской и мазунинской культур показывает, что локальных особенностей в технике и технологии кузнечной обработки не наблюдается (табл. 13).
Судя по обилию и разнообразию железного инвентаря, наличию погребений кузнецов с инструментарием, железо-производство играло большую роль в жизни азелинского и мазунинского населения. Исходя из косвенных характеристик, полученных при изучении структуры металла (микротвердость феррита), можно полагать, что в рассматриваемое время использовались болотные или луговые руды.
Таблица 13
Распределение технологических схем изготовления железных предметов по культурам

В III–V вв. н. э. в железообработке финно-угорских племен Волго-Камья закрепляется технико-технологический стереотип, который, как мы показали, складывается в ананьинское-гляденовское время на территории Среднего Прикамья (рис. 37–38). Этот стереотип характеризуется следующими показателями: формовка изделий целиком из железа и сырцовой стали, использование пакетных заготовок, применение твердой закалки. Превалируют изделия, относящиеся к технологической группе I. В технологической группе II доминируют изделия, изготовленные из пакетных заготовок. Доля изделий из специально полученной стали (с применением цементации) невелика – 9,8 % на среднеекамских памятниках и 13,4 % в азелинской и мазунинской культурах.

Рис. 37. Соотношение технологических схем изготовления железных изделий из памятников азелинской и мазунинской культур

Рис. 38. Соотношение технологических групп изготовления железных изделий из памятников азелинской и мазунинской культур