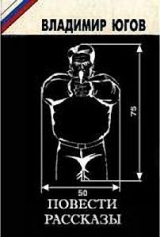
Текст книги "Трижды приговоренный к "вышке""
Автор книги: Владимир Югов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
Романов только что вернулся с завода. Он был торжественно приподнят: в парткоме ему сказали, что надо прощаться, Романова отзывают в институт. Он думал, что Гордий тогда лгал, как-то подтолкнуть его хотел, используя в своих целях.
– Проходи. – Романов хмурился. – И приступай сразу, зачем пришел?
– Сразу, так сразу…
Боярский уже говорил насчет скрипача Володи Доренкова. Так вот Иваненко была влюблена именно в Доренкова, а не в твоего брата. В твоего брата была влюблена его теперешняя жена. Доренков всегда завидовал твоему брату. Он ему даже как-то грозил: напишет на него!
– Новая версия? – Романов был ироничен, хорошее настроение постепенно таяло в нем.
– Это верная версия!
– Ты проходил по какой-либо версии?
– Не надо! – крикнул в гневе Боярский. – Не надо!
– Я тебя спрашиваю: ты проходил по какой-либо версии? – Романов накалялся злом, лицо его из интеллигентного превращалось в тупое, мстительно-допрашивающее. Глаза были колючими, отталкивающими все возможные возражения.
– Твой брат сидит. Ты на воле. Не пошевелил пальцем.
– Я шевелил всей душой на суде.
– Но ты же ему подыгрывал. Ты и виноват! Если бы ты ему не подыгрывал, выплыл бы настоящий виновник – Доренков.
– Ты это утверждаешь?
– А почему не он?
– А почему не ты?
– Я?! С какой стати?
– Ты же с пеной у рта защищаешь! Что-то тут есть!
Боярский вдруг стал отступать к порогу, он тащил за собой свой плащ:
– Ты слышишь! Ты понимаешь, что говоришь?! Гадина! Трусливая мышь! Если бы меня они взяли, – будь спокоен! Я бы не подыгрывал!
– И пошел бы к стенке. Ты же не был на следствии ребят, которые пошли к стенке! Но они-то были ни при чем! Ты это своей башкой уразумел?! Перед нами были они, турок!
– Все равно ты подонок! Дрянь!
– Он бы держался! Это так тебе кажется!
– Не кажется, нет. Они меня обволакивали. Я твердил одно: нет! Твой брат – не убийца. Он трус. И ты трус. Больше чем он!
– Но он же не хочет! Сам не хочет!
– В том и дело, что мы должны хотеть!
– Тебя обработал адвокат?
– Дурак! Дурак! Дурак!
Хлопнула дверь. Боярский всегда расправлялся с дверьми, калитками, вроде они были в чем-то виноваты. Бах!
Романов медленно подходит к окну. Боярский бежит быстрыми-быстрыми шагами. Удаляется в сторону трамвайной остановки. Боярский обиделся, думает Романов. – Но почему? Зачем хлопать дверью? Ты там, где я, был? Ты все это видел? Ты шел рядом с моим братом? То-то!
Кажется, успокоенно отошел от окна. Но вдруг опять к дверям, к окну пошел такими же быстрыми, как Боярский, шагами! «Ты был там!.. Ты там, где я, был!» Но это же чепуха, Романов! – крикнул сам себе. – Что же происходит на белом свете, если я так говорю сам себе? Это же плохо, что я говорю сам себе такое…
Еще недавняя радость не показалась Романову уже радостью. Она была сама горечь. Враз, в секунду, радость превратилась в ничто! Вдруг он с этой щемящей горечью спросил себя: завтра ты придешь в институт? А дальше? Пойдешь в институт опять и опять… Да, да, буду ходить! Со временем даже защищусь. Все станет на свои места. Будут у меня новые дети. Через восемь лет я с ними пойду встречать двоюродного брата. Его выпустят в старом поношенном костюмчике. Да дело не в этом! Как я посмотрю в его глаза? Что же я? Кто я? Что за человек, если на мне лежит неправда? Я – ничто. Порошок. Мертвое лицо, мертвый мозг, мертвая рука, которая станет жать руку брата. Я ему скажу: «Я напугался за твою шкуру. Ты же просил!» А напугался я на самом деле за собственную шкуру. «Ах, товарищ Романов! Все позади! Давайте, дерзайте!»
Он долго, загнанно ходил по комнате, на дворе слякоть, дождь. Страшно одиноко, пусто. Докторская. Кандидатская. Кафедра. Не мило! Глупо, что не мило. Но не мило. Этот старикан счастливее во сто раз меня! Он ищет. Живет. Кривляется, но выясняет. Ездит, шумит, наверное, плачет. И дядя, наверное, плачет. Живут люди совестью, – скажет дядя, – мыслю так. Как проповедник. Но люди действительно живут мыслью, и страдания у них общие. Не мое ли это тоже страдание – брата горе! Как он попал в горе? Почему выпал билет на его долю?
Так он долго, шажками-шажками скорыми, ходил по комнате, бегал, думал, ругая все. И ругал себя. Спал он плохо. Снилось ему, как брата бьют подонки. Их там много. Романов вскакивал, кричал. В комнате он был один: мама, слава богу, была на дежурстве в своей больнице. Не расстроится! Сегодня он пришел в родительский дом поработать над диссертацией. Поработал!
Благодарю, – сказал он кому-то под утро, – за все благодарю! За то, что я такой… Такая сволочь!
Не понял! – возразил кто-то в нем.
И не надо. А я благодарю. За все. В общем – за все. А конкретно благодарю этого адвоката, маму, всю жизнь. И в частности всех за… За новую службу? За премии? За высокую зарплату? За новую мебель? Нет, Боярский, ты сам дурак. Дурак. Ты вот доктор наук. Легко тебе кричать, бить в грудь. Ты там был всякий раз свидетелем!
Гордий не сдержал слова – обещал Романову больше не приходить. Вновь явился. Желтое, болезненное его лицо еще больше, кажется, пожелтело. Сам он высох, стал меньше. Будет теребить душу. Заговорит о Боярском. Конечно, знает, что Боярский был тут. У этих адвокатов нюх собачий. Боярский, не добившись от Романова ничего, побежал к адвокату. А куда ему еще бежать? Он признался, что адвокат, которого терпеть не мог, в общем ничего.
О Боярском и завел разговор Гордий. Боярский в единственном числе желает брату Романова счастья. Остальные друзья – вроде их и не существовало.
– Спасая друга, подставляет иного? – ухмыльнулся Романов. – Может, Доренков в отличии от Дмитриевского устоит перед новым Меломедовым, верно?
– Неверно. Не надо паясничать. Боярский тут ни при чем. На Доренкова он показывает лишь потому, что это опровергает виновность вашего брата.
– Топи ближнего!
– Я был у вашего брата…
– Я догадался, – перебил Романов. – И как? Успешно?
– Нет, не успешно.
– Вот видите!
– Брат вас считает самым мужественным и храбрым. Вы брали на себя он это помнит – его вину. Тянули на бытовую драму. Он забыл, что вы на суде перестали ему подыгрывать. Он считает, что вы самый мужественный человек, которого он встречал. «Не побоялся назвать меня трусом, а брата своего самым мужественным», – сказал мне недавно один человек. Это их бригадир.
– Вы, конечно, иного мнения?
– Да, иного.
– Я по-вашему трус?
– Отъявленный.
– Со слов Боярского?
– Почему вы так считаете? У меня собственное заключение.
– Я не иду на уговор брата?
– Да.
– А вы шли на смерть за кого-то?
Гордий тихо произнес:
– Ну, конечно же, шел.
– Это было, естественно, в войну?
– Да, в войну, Романов. Я шел за вас, за Меломедова, за Дмитриевского. Идя за вас, я шел за правду, за великое дело освобождения людей…
– Мы не оправдали ваших надежд? И я, и мой двоюродный брат Дмитриевский?
– Да, вы оказались слабыми, очень слабыми.
– Но вы знаете, почему?
– Знаю. Вас воспитывали мамы. Любящие, занятые. И у вас, и у брата погибли отцы на войне…
– А Меломедов? Он…
– Он самый из вас отъявленный трус. Факты и фактики сами лезли. Вдруг сбежалось: «Он, Дмитриевский!» Он это продвигал. Увидев ложь, он трусливо спрятался, боясь ее признать. Из вас он самый страшный. Хотя, хотя… Погодите! А вы-то? Вы-то, что же, не дрались на улице? Не защищали себя? Вы, что же, давали себя положить на лопатки?
Романов положил голову на ладони, закачал головой.
– Смешно, смешно! Кто вы? Человек! Выбили мне будущее. Я, Иван Семенович, уже работаю. Ну пусть отсижу еще. Они же все против нас будут. А он, брат? Он опять струсит?
Романов заплакал.
– Самое ужасное, наверное, во всем этом, – тихо добавил, захлебываясь, как мальчишка, слезами, – это любящие нас женщины. Матери и настоящие жены! Вы понимаете меня?
Гордий кивнул головой:
– Только не самое ужасное, – поправил он, – а самое прекрасное.
Через два дня они вдвоем посетили Дмитриевского. Гордий правильно рассчитал: только этот человек, всю дорогу беспокойно ерзавший на скамейке электрички, может спасти его подзащитного.
12
– Гордий говорит, алло! Меломедов?
– Да, это я.
– Меломедов, как дела?
– Вы – как официальное лицо спрашиваете? Или как сочувствующий? Если как сочувствующий, то, по правде говоря, неважные мои дела.
– Вы этих, Долгова и Сурова, отпустили?
– Неважные мои дела. Вернулся только что из района. Убрал могилку… Что еще? После вашего отъезда чуть не запил, Иван Семенович. Я понял, что вы поняли…
– Ты что, меня не расслышал?
– Слышимость раздолье… От чего, спросите, чуть не запил? От… бесконечной радости! А радость откуда? От вашего друга Басманова! Под его неусыпным надзором, под непрерывным его бдением я подумал-подумал, взвесил все еще разок, взвесил и отпустил, Иван Семенович, этих заробитчан. Так у вас на Украине говорят?
– Так, Игорь, так… Ну и что?
– Они не виноваты, это ясно.
– Говори, говори дальше! Что не ясно?
– Не ясно – что? Представляете, Иван Семенович, никто не виноват! Ни заробитчане, ни те, ни эти. Все живут, все что-то не так желают, а – не виноваты. Даже виноватые становятся не виноватыми!
– Ты обо мне говоришь?
– О вас говорю! Мне тут Басманов лез в душу, в самую душу! Чтобы я покаялся перед вами. Я тогда посадил Дмитриевского! Вы не могли защитить! А я теперь кайся!
– Зачем! – Ирония прозвучала в слове этом. – Зачем каяться? Ты его, Дмитриевского, от вышки увел!
– Да! – закричал Меломедов. – Да! Я увел его, так как был один вариант – или вышка, или признание! Я – что? Один вел этого вашего подозреваемого? Или была еще общественность, которая требовала быстро раскрыть дело? Или не свидетели у меня были?
– Это ты так, выходит, каешься? Ты его спас от вышки! Эх, Игорь! А если бы ты вел его по истинной тропе? Разве ты был бы хуже?
– Я мог бы убить его! Своей этой истиной! Разве она у нас есть, спрошу вас и вашего Басманова?
– Есть, Игорь. Есть. Иначе нельзя жить.
– Вы хотите сказать: если бы я был более тонким следователем, то тогда бы выявил настоящих убийц и была бы у меня Наташа Светличная! Но это моя боль, вы слышите! Я и теперь не думаю, что ошибался!
– Игорь Васильевич! Вам бы надо было…
– Ничего мне не надо! Гузий тоже был свидетелем поначалу… И Дмитриевский был поначалу свидетелем! Не убийцей, а свидетелем. Мы тогда метались, искали. Требовали от нас: «Быстрее, быстрее!» Это же было после того, как ребят, подведенных под расстрел, отпустили… И, повторяю… Общественность волновалась…
– А сейчас она не волнуется…
– Не надо, Иван Семенович! Не надо! Вы еще ничего не доказали.
– Я докажу, я обещал вам, когда уезжал из Малой Тунгуски.
– Конечно, меня на суде не будет. Вашего Дмитриевского каждый, всякий повернет – куда захочет… Повернет против меня. Я буду биться!
– Человека у нас нельзя поворачивать…
– Ай, не надо, Иван Семенович. Дальше Тунгуски не пошлют, меньше лопату не дадут…
– И все-таки, Игорь Васильевич, надо бы вам…
– По собственному желанию уйти? Так хотите вы?
– Не совсем понимаете, что я хочу сказать.
– По собственному желанию – из следователей. Вот что вы хотите сказать. Но поздно предупреждаете. Я как только отпустил этих мерзавцев-заробитчан так и подал по собственному.
– Почувствовали свое бессилие? Заробитчане, как вы их называете, признались вам: они подозревали Гузия в чем-то неправедном… Вы решили: вот бы я им задал! Подозревали, а молчали! Под ноготок их! У вас ведь это просто! Все что-то не так делают, а не виноваты! Даже виноватые становятся невиноватыми! Всех подряд, значит, жми! Кто-то да сознается!
– Опять вы о Дмитриевском! Да рубят – значит, и летят! Это же все жизнь! Не так? Вот я их, этих заробитчан, отпустил! Но хотя бы за то, что они жили с той мразью, дышали с ними одним воздухом и при этом никому ни гу-гу… Их бы за это уже…
– За это – страшно, Игорь Васильевич. Тогда действительно всех держи на мушке, всех готовь к этапу…
– Не всех. Есть и люди.
– Вы пошли к Ледневу? – вдруг переменил разговор Гордий.
– Откуда вы узнали?
– Так. Мое личное предположение. Мужик он хороший, справедливый. Да вы с ним тоже были разумны. Вы же не подумали, что это он? От ревности?
– Я вам об этом говорил.
– И все-таки о Дмитриевском. Черкнули бы.
– Нет. Берите из леспромхоза, если докажете… Только, Иван Семенович, не надорвитесь. Вы же старик уже, здоровье не то. Нас-то сколько!
– Не так уж и много, Игорь Васильевич. По пальцам можно сосчитать.
– Ой ли!..
Через полтора года Верховный суд по протесту его председателя рассмотрел в порядке надзора дело Дмитриевского и его двоюродного брата Романова. Дмитриевский был полностью реабилитирован, так же, как и его брат. Прямо причастные к судебной ошибке люди были приговорены к различным срокам лишения свободы. Среди них работники милиции Сухаренко, Мыскин, Петров и Сайко, прокурор района, в котором судили Дмитриевского, получил два года исправительных работ, Меломедов, как и предрекал адвокат Гордий, тоже был осужден, теперь он находится в местах заключения. Судья Васильев и его коллеги-заседатели Букреев и Топчий понесли менее суровое наказание, так же как и заместитель прокурора республики. До сих пор в разные инстанции идут жалобы на эту мягкость закона…
День, когда выпустили Дмитриевского, был какой-то уж очень счастливый, радостный, безоблачный. Земля покоилась в нежных красках, на каждом шагу кричало прекрасное и незаметное с виду бытие: то накрапывал обыкновенный дождь, то лилась откуда-то волна теплого южного ветра, то счастливо и беззаботно кричали птицы. Никто не осмелился бы сказать, что так обременительна вся эта земная красота даже в несчастье. Другое дело, как тяжело расставаться с ней даже тем, кто уже пожил, у кого за плечами седые годы. Так применительно к Гордию была несправедлива в этот день судьба, потому что он глядел на мир, может, последние часы, находясь в небольшой районной больничке, куда его доставила неотложка. Он и теперь не смирялся со смертью, выкарабкивался мощно, однако силы его были на исходе, они ему изменяли. Вокруг него бегали милые люди в белых халатах, они суетились, помогали друг другу, и он был рад, что всю жизнь защищал вот таких хороших людей… Они пытались задержать его здесь, перед порогом вечности.
В эти часы как раз Дмитриевскому дописывались и подписывались последние бумаги. Кажется, его отпускали на волю. Дмитриевский со страхом оглядывался. Он страшился теперь всего: громкого голоса рядом, крика, даже смеха. Втянув голову в плечи, он дрожащей рукой взял тюремные бумаги, но выходить из маленького прокисшего и прокуренного помещения казенки боялся, хотя на дворе его ждали.








