Возвращение Чорба. Стихи
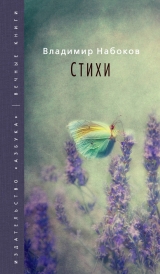
Текст книги "Возвращение Чорба. Стихи"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
ИЗ СБОРНИКА “ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА”[1]1
В. Сирин. Возвращение Чорба (Рассказы и стихи). Берлин: “Слово”, 1930
[Закрыть]
(1924 – 1928)
ОТ СЧАСТИЯ ВЛЮБЛЕННОМУ НЕ СПИТСЯ
От счастия влюбленному не спится;
стучат часы, купцу седому снится
в червонном небе вычерченный кран,
спускающийся медленно над трюмом;
мерещится изгнанникам угрюмым
в цвет юности окрашенный туман.
В волненье повседневности прекрасной,
где б ни был я, одним я обуян,
одно зовет и мучит ежечасно:
на освещенном острове стола
граненый мрак чернильницы открытой,
и белый лист, и лампы свет, забытый
под куполом зеленого стекла.
И поперек листа полупустого
мое перо, как черная стрела,
и недописанное слово.
1928
Берлин
ТИХИЙ ШУМ
Когда в приморском городке,
средь ночи пасмурной, со скуки
окно откроешь, вдалеке
прольются шепчущие звуки.
Прислушайся и различи
шум моря, дышащий на сушу,
оберегающий в ночи
ему внимающую душу.
Весь день невнятен шум морской,
но вот проходит день незваный,
позванивая, как пустой
стакан на полочке стеклянной.
И вновь в бессонной тишине
открой окно свое пошире,
и с морем ты наедине
в огромном и спокойном мире.
Не моря шум – в тиши ночной
иное слышно мне гуденье:
шум тихий родины моей,
ее дыханье и биенье.
В нем все оттенки голосов
мне милых, прерванных так скоро,
и пенье пушкинских стихов,
и ропот памятного бора.
Отдохновенье, счастье в нем,
благословенье над изгнаньем.
Но тихий шум не слышен нам
за суетой и дребезжаньем.
Зато в полночной тишине
внимает долго слух неспящий
стране родной, ее шумящей,
ее бессмертной глубине.
1929
Ле Булю
КИРПИЧИ
Ища сокровищ позабытых
и фараоновых мощей,
ученый в тайниках разрытых
набрел на груду кирпичей,
среди которых был десяток
совсем особенных: они
хранили беглый отпечаток
босой младенческой ступни,
собачьей лапы и копытца
газели. Многое из них
лихому времени простится —
безрукий мрамор, темный стих,
обезображенные фрески…
Как это было? В синем блеске
я вижу красоту песков.
Жара. Полуденное время.
Еще одиннадцать веков
до звездной ночи в Вифлееме.
Кирпичик спит, пока лучи
пекут, работают беззвучно.
Он спит, пока благополучно
на солнце сохнут кирпичи.
Но вот по ним дитя ступает,
отцовский позабыв запрет,
то скачет, то перебегает,
невольный вдавливая след,
меж тем как, вкруг него играя,
собака и газель ручная
пускаются вперегонки.
Внезапно – окрик, тень руки:
конец летучему веселью.
Дитя с собакой и газелью
скрывается. Все горячей
синеет небо. Сохнут чинно
ряды лиловых кирпичей.
Улыбка вечности невинна.
Мир для слепцов необъясним,
но зрячим все понятно в мире,
и ни одна звезда в эфире,
быть может, не сравнится с ним.
1928
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Когда весеннее мечтанье
влечет в синеющую мглу,
мне назначается свиданье
под тем каштаном на углу.
Его цветущая громада
туманно звездами сквозит.
Под нею – черная ограда,
и ящик спереди прибит.
Я приникаю к самой щели,
ловлю волнующийся гам,
как будто звучно закипели
все письма, спрятанные там.
Еще листов не развернули,
еще никто их не прочел…
Гуди, гуди, железный улей,
почтовый ящик, полный пчел.
Над этим трепетом и звоном
каштан раскидывает кров,
и сладко в сумраке зеленом
сияют факелы цветов.
1925
ПРЕЛЕСТНАЯ ПОРА
В осенний день, блистая как стекло,
потрескивая крыльями, стрекозы
над лугом вьются. В Оредежь глядится
сосновый лес, и тот, что отражен, —
яснее настоящего. Опавшим
листом шурша, брожу я по тропам,
где быстрым, шелковистым поцелуем
луч паутины по лицу пройдет
и вспыхнет радугой. А небо – небо
сплошь синее, насыщенное светом,
и нежит землю, и земли не видит.
Задумчивый, в усадьбу возвращаюсь.
В гостиной печь затоплена, и в вазах
мясистые теснятся георгины.
Пишу стихи, валяясь на диване,
и все слова без цвета и без веса —
не те слова, что в будущем найдет
воспоминанье. В комнате соседней
играют в бикс: прерывисто, по капле,
по капельке сбегает тонкий звон.
Как перед тем, чтоб на зиму уехать,
в гербарий, на шершавую страницу
кладешь очаровательно-увядший
кленовый лист, полоскою бумаги
приклеиваешь стебель, пишешь дату,
чтоб вновь раскрыть альбом благоуханный
да вспомнить деревенский сад, найдя
багряный лист, оранжевый по краю, —
так, некогда, осенний ясный день
я сохранил и ныне им любуюсь.
1926
СНИМОК
На пляже в полдень лиловатый,
в морском каникульном раю
снимал купальщик полосатый
свою счастливую семью.
И замирает мальчик голый,
и улыбается жена,
в горячий свет, в песок веселый,
как в серебро, погружена.
И полосатым человеком
направлен в солнечный песок,
мигнул и щелкнул черным веком
фотографический глазок.
Запечатлела эта пленка
все, что могла она поймать:
оцепеневшего ребенка,
его сияющую мать,
и ведерцо, и две лопаты,
и в стороне песчаный скат.
И я, случайный соглядатай,
на заднем плане тоже снят.
Зимой в неведомом мне доме
покажут бабушке альбом,
и будет снимок в том альбоме,
и буду я на снимке том:
мой облик меж людьми чужими,
один мой августовский день,
моя не знаемая ими,
вотще украденная тень.
1927
Бинц
АЭРОПЛАН
Как поет он, как нежданно
вспыхнул искрою стеклянной,
вспыхнул и поет,
там, над крышами, в глубоком
небе, где блестящим боком
облако встает.
В этот мирный день воскресный
чуден гул его небесный,
бархат громовой.
И у парковой решетки,
на обычном месте, кроткий
слушает слепой:
губы слушают и плечи —
тихий сумрак человечий,
обращенный в слух.
Неземные реют звуки.
Рядом пес его со скуки
щелкает на мух.
И прохожий, деньги вынув,
замер, голову закинув,
смотрит, как скользят
крылья сизые, сквозные
по лазури, где большие
облака блестят.
1926
КРУШЕНИЕ
В поля, под сумеречным сводом,
сквозь опрокинувшийся дым
прошли вагоны полным ходом
за паровозом огневым:
багажный – запертый, зловещий,
где сундуки на сундуках,
где обезумевшие вещи,
проснувшись, бухают впотьмах —
и четырех вагонов спальных
фанерой выложенный ряд,
и окна в молниях зеркальных
чредою беглою горят.
Там штору кожаную спустит
дремота, рано подоспев,
и чутко в стукотне и хрусте
отыщет правильный напев.
И кто не спит, тот глаз не сводит
с туманных впадин потолка,
где под сквозящей лампой ходит
кисть задвижного колпака.
Такая малость – винт некрепкий,
и вдруг под самой головой
чугун бегущий, обод цепкий
соскочит с рельсы роковой.
И вот по всей ночной равнине
стучит, как сердце, телеграф,
и люди мчатся на дрезине,
во мраке факелы подняв.
Такая жалость: ночь росиста,
а тут – обломки, пламя, стон…
Недаром дочке машиниста
приснилась насыпь, страшный сон:
там, завывая на изгибе,
стремилось сонмище колес,
и двое ангелов на гибель
громадный гнали паровоз.
И первый наблюдал за паром,
смеясь, переставлял рычаг,
сияя перистым пожаром,
в летучий вглядывался мрак.
Второй же, кочегар крылатый,
стальною чешуей блистал,
и уголь черною лопатой
он в жар без устали метал.
1925
СВЯТКИ
Под окнами полозья
пропели, – и воскрес
на святочном морозе
серебряный мой лес.
Средь лунного тумана
я залу отыскал.
Зажги, моя Светлана,
свечу между зеркал.
Заплавает по тазу
дрожащий огонек.
Причаливает сразу
ореховый челнок.
И в зале, где блистает
под люстрою паркет,
пускай нам погадает
наш старенький сосед.
Все траурные пики
накладывает он
на лаковые лики
оранжевых бубен.
Ну что ж, моя Светлана?
Туманится твой взгляд…
Прелестного обмана
нам карты не сулят.
Сам худо я колдую,
а дедушка в гробу,
и нечего седую
допрашивать судьбу.
В смеркающемся блеске
все уплывает вдаль —
хрустальные подвески
и белая рояль.
И огонек плавучий
потух, и ты исчез
за сумрачные тучи,
серебряный мой лес.
РАССТРЕЛ
Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать,
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.
Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.
Закрыв руками грудь и шею, —
вот-вот сейчас пальнет в меня —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.
Оцепенелого сознанья
коснется тиканье часов,
бл
...
конец ознакомительного фрагмента






