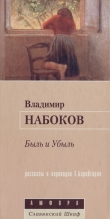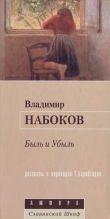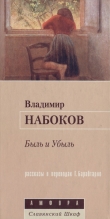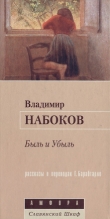Текст книги "Что как-то раз в Алеппо…"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Владимир Набоков
ЧТО КАК-ТО РАЗ В АЛЕППО…
Дорогой В., помимо прочего, пишу тебе, чтобы сообщить, что я наконец здесь, в стране, куда столько закатов вело. Один из первых, кого я встретил, был старый наш приятель Глеб Александрович Гекко, угрюмо пересекавший проспект Колумба в поисках petit café du coin [1]1
Маленькой кофейни на углу (фр.)
[Закрыть], где никому из нас троих уж больше не сиживать. Он, кажется, считает, что ты каким-то образом изменяешь отечественной литературе, и дал мне твой адрес неодобрительно покачивая седой головой, как если бы ты не заслуживал удовольствия получить от меня письмо.
У меня для тебя история. Это мне напоминает, т. е. эти мои слова напоминают мне те дни, когда мы писали парные, еще пенившиеся стихи, и все на свете, будь то роза, или лужа, или освещенное окно, кричало нам: «Я рифма! I'm a rhyme!» Да, вселенная эта полна возможностей. Играем, умираем; ig-rhyme, umi-rhyme. И звучная душа русских глаголов придает смысл буйной жестикуляции деревьев или какому-нибудь брошенному газетному листу, который скользит, останавливается, и снова шаркает безсильными всплесками, безкрылыми рывками, по безконечной, обметаемой ветром набережной. Но теперь я не поэт. Я пришел к тебе как та экспансивная чеховская дама, которой до смерти хотелось, чтобы ее описали.
Я женился через месяц, что-ли, после того как ты покинул Францию, и за несколько недель до того, как благодушные немцы с ревом ворвались в Париж. Хоть я могу представить документальные доказательства моего брака, я теперь совершенно убежден в том, что никакой жены у меня не было. Ее имя тебе может быть известно из другого источника, но это не имеет значения: это имя призрака. А посему я могу говорить о ней столь же безучастно, как говорил бы о герое рассказа (точнее, одного из твоих рассказов).
Это была любовь скорее с первого прикосновения, чем с первого взгляда, потому что я встречал ее несколько раз и прежде, ничего особенного при этом не испытывая; но как-то вечером я провожал ее домой, и что-то забавное, сказанное ею, заставило меня со смехом нагнуться и легонько поцеловать ее волосы. И кому же не знаком этот ослепительный взрыв, вызванный всего-навсего тем, что с пола подобрал небольшую куклу в доме, который тщательно нашпиговали прежде чем его покинуть: оказавшийся здесь солдат ничего не слышит; для него это всего лишь восторженное, беззвучное и безграничное распространение того, что всегда было точкой света в темном центре его бытия. Да и то сказать, мы думаем о смерти в райских терминах оттого, что видимая твердь, особенно ночью (над нашим затемненным Парижем с сухопарыми арками бульвара Эксельманс и безпрестанным альпийским звучанием пустынных писсуаров), кажется самым точным и вечно присутствующим символом этого огромного беззвучного взрыва.
Но разглядеть ее я не могу. Она остается такой же смутной, как и лучшее мое стихотворение – то самое, которое ты так язвительно высмеял в Литературных Записках.Когда хочу изобразить ее, я принужден мысленно держаться за маленькое родимое пятнышко на ее опушённой руке, как, бывает, сосредоточиваешься на знаке препинания в неразборчиво написанной фразе. Быть может, если бы она употребляла больше грима или употребляла его постоянно, я мог бы сегодня вообразить ее лицо или хотя бы тонкие поперечные бороздки на сухих, горячих, накрашенных губах; но нет, не могу, не могу – хоть я еще иногда ощущаю их уклончивое прикосновение, как бы в жмурки играющее с моими чувствами в одном из тех щемящих снов, в которых она и я неуклюже хватаемся друг за друга в душераздирающем тумане, и я не могу разглядеть цвета ее глаз из-за пустого блеска накипающих слез, застилающих их райки.
Она была гораздо моложе меня – не настолько, насколько Натали с ее прелестными обнаженными плечами и длинными серьгами была моложе смуглолицего Пушкина; но все-таки этой разницы было довольно для такого рода ретроспективной романтики, которая находит удовольствие в подражании судьбе неповторимого гения (вплоть до ревности, вплоть до грязи, вплоть до укола, когда замечаешь, что ее миндалевидные глаза обращены из-за павлиньего веера на ее белокурого Кассио), даже если стихам его подражать не можешь. Мои ей, впрочем, нравились, и она вряд ли стала бы зевать, как это имела обыкновение делать та, другая, когда стихотворение ее мужа длиною превышало сонет. Да, она осталась для меня привидением, но ведь может быть и я был для нее тем же: думаю, что ее привлекала разве что непонятность моих стихов; потом она прорвала дыру в их покрове и увидела в прорехе чужое, нелюбимое лицо.
Как ты знаешь, я уже давно собирался последовать примеру твоего удачного бегства. Она описала мне своего дядю, который, по ее словам, жил в Нью-Йорке: сначала он преподавал верховую езду в каком-то южном учебном заведении, а кончил тем, что женился на богатой американке; у них была маленькая дочь, глухая от рождения. Она сказала, что давно потеряла их адрес, но несколько дней спустя он чудесным образом отыскался, и мы написали ему драматическое письмо, на которое никакого ответа не воспоследовало. Оно и не имело большого значения, потому что у меня уже было солидное поручительство от профессора Ломченки из Чикаго; но к началу оккупации очень мало еще было сделано для получения нужных бумаг, а между тем я предвидел, что если мы останемся в Париже, то какой-нибудь доброжелательный соотечественник рано или поздно укажет заинтересованным лицам некоторые места в одной из моих книг, где я утверждаю, что, несмотря на множество своих черных грехов, Германия навсегда останется посмешищем для всего мира.
Итак, мы пустились в наше злосчастное свадебное путешествие. В давке и толчее апокалиптического исхода; в ожидании поездов вне расписанья, шедших по неизвестному назначению; пешком проходя через затасканные декорации абстрактных городов; живя в вечных сумерках физического изнеможения, – мы бежали, и чем дальше мы бежали, тем становилось яснее, что то, что гнало нас, было неизмеримо крупнее болвана в солдатских сапогах и ремнях, с его набором железной дребедени, швыряемой разными способами, – нечто, чего он сам был только знаком, нечто чудовищное и неосязаемое, безвременная и безликая масса незапамятного ужаса, который все еще наваливается на меня сзади даже здесь, на зеленом раздолье Центрального Парка.
О, она-то переносила все это довольно мужественно, с какой-то ошеломленной бодростью. Но однажды, совершенно неожиданно, она разрыдалась посреди переполненного сочувствием железнодорожного вагона. «Собака, говорила она, собака, которую мы оставили. Не могу забыть бедной собаки». Искренность ее горя поразила меня, ибо у нас никогда не было никакой собаки. «Я знаю, сказала она, но я попыталась представить себе, что мы все-таки купили этого сеттера. И только подумай, он бы теперь скулил за запертой дверью». Никогда не было и речи о покупке сеттера.
Не забыть бы еще ту часть пути, где мы видели семью беженцев (две женщины с ребенком), у которых в дороге умер не то старик-отец, не то дед. На небе безпорядочно громоздились облака черного и телесного цвета, с безобразным ореолом, брызнувшим из-за затененного холма, а мертвец лежал на спине под пыльным платаном. Палкой и руками женщины попытались было вырыть у дороги могилу, но земля была слишком твердая; они сдались и теперь сидели рядом, среди худосочных маков, чуть в стороне от тела с торчавшей кверху бородой. А мальчик все царапал и скреб и дергал, покуда не выворотил плоский камушек, и тогда забыл о мрачной цели своего труда, и, сидя на корточках (причем его тонкая выразительная шея выставляла напоказ палачу все свои позвонки), с удивлением и удовольствием глядел на тысячи крошечных коричневых мурашек, кишевших, сновавших туда-сюда, разбегавшихся, направлявшихся в безопасные места в департаменты Гар, и Од, и Дром, и Вар, и в Нижние Пиринеи – мы же остановились только в По.
В Испанию было не пробраться, и мы решили ехать дальше, в Ниццу. В городишке именуемом Фожер (десятиминутная остановка) я с трудом протискался из поезда, чтобы купить провизии. Когда минуты через две я вернулся, поезд ушел, и безтолковый старик, повинный в той жуткой пустоте, которая открылась передо мной (угольная пыль, блестевшая на солнцепеке меж равнодушных голых рельс, да одинокая апельсинная корка), грубо заявил мне, что ни в каком случае я не имел права выходить из вагона.
В лучшем мире я мог бы устроить так, чтобы мою жену разыскали и сообщили ей, что делать (у меня были оба билета и большая часть денег); на деле же моя бредовая борьба с телефоном ни к чему не привела, так что я, разом оборвав нить карликовых голосов, лаявших на меня издалека, послал две или три телеграммы, которые, должно быть, только теперь отправляются в путь, и поздно вечером сел на первый местный поезд в Монпелье, дальше которого ее поезду плестись не полагалось. Не найдя ее там, я должен был выбрать один из двух возможных вариантов: продолжать путь, потому что она могла сесть на марсельский поезд, который только что ушел на моих глазах, или ехать обратно, потому что она могла вернуться в Фожер. Не помню теперь, какой клубок разсуждений привел меня в Марсель и Ниццу.
Если не считать таких элементарных мер как разсылка неверных сведений в несколько малообещающих мест, полиция ничего не сделала, чтобы мне помочь; один полицейский чин наорал на меня за то что надоедаю; другой отклонил запрос, усомнившись в подлинности моего брачного свидетельства из-за того, что штемпель, по его мнению, был поставлен не с той стороны; третий, толстый commissaire с маслянистыми карими глазами, признался мне, что в свободное время пописывает стишки. Я обошел разных знакомых среди множества русских, живших или застрявших в Ницце. Те из них, у кого была еврейская кровь, говорили о своих обреченных родных, битком набитых в поезда адского следования; и в сравнении с этим моя собственная беда приобрела характер какой-то нереальной повседневности, когда я сидел в переполненном кафе, глядя на млечно-голубое море, а позади глухой, как из морской раковины, голос без конца бормотал про избиения и бедствия, про серый рай за океаном, про повадки и прихоти безсердечных консулов.
Через неделю после моего приезда ко мне зашел вялый сыщик и провел меня по кривой и вонючей улице к вымазанному сажей дому с надписью «Отель», почти что стертой грязью и временем; там, по его словам, отыскалась моя жена. Предъявленная мне девушка оказалась, разумеется, совершенно мне незнакомой, но мой участливый Шерлок Хольмс в продолжение некоторого времени пытался заставить нас сознаться в том, что мы женаты, между тем как ее молчаливый и мускулистый сожитель стоял тут же и слушал, скрестив на полосатой груди голые руки.
Когда я, наконец, избавился от них всех и добрался до своего квартала, мне случилось пройти мимо плотной очереди, ожидавшей открытия съестной лавки; и там, в самом конце ее, была моя жена, на цыпочках силившаяся разглядеть, что продавали. Если не ошибаюсь, первое, что она мне сказала, было что она надеется, что продают апельсины. Ее разсказ показался мне чуть-чуть туманным, но вполне банальным. Она вернулась в Фожер и пошла прямо в полицейский участок, вместо того, чтобы справиться на вокзале, где я оставил для нее записку. Какие-то беженцы предложили ей присоединиться к ним; она провела ночь в велосипедном магазине, где не было велосипедов, на полу, вместе с тремя пожилыми женщинами, лежавшими, по ее словам, в ряд, как три полена. На другой день она сообразила, что ей не хватит денег добраться до Ниццы. В конце-концов она заняла у одной из этих поленоподобных женщин. Но она ошиблась поездом и заехала в город, названья которого она не могла вспомнить. Приехала в Ниццу два дня тому назад и в русской церкви нашла каких-то знакомых. Те ей сказали, что я где-то поблизости и разыскиваю ее и, конечно, скоро объявлюсь.
Немного погодя, когда я сидел на краешке единственного на моем чердаке стула и сжимал ее стройные юные бедра (она расчесывала свои мягкие волосы и с каждым взмахом откидывала голову назад), ее разсеянная улыбка вдруг превратилась в странную губную дрожь, и она положила одну руку мне на плечо, глядя на меня сверху вниз, словно я был отражением в пруду, которое она впервые заметила.
– Я солгала, мой милый, сказала она. Я лгунья. Я провела несколько ночей в Монпелье с чудовищем, с которым познакомилась в поезде. Я совсем не хотела этого. Он торгует вежеталем.
Время, место, род пытки. Ее веер, перчатки, и маска.Я провел эту ночь и множество других вытягивая из нее все по кусочкам, но всего так и не вытянул. У меня была странная фантазия, что прежде всего я должен выяснить каждую подробность, возстановить каждую минуту, и только тогда решить, могу я это перенести или нет. Но предел нужного знания был недостижим, да и как я мог даже приблизительно представить себе ту черту, за которой я мог бы считать себя удовлетворенным, когда знаменатель каждой дроби узнанного потенциально был, разумеется, столь же безконечен, как и количество интервалов между этими дробями.
В первый раз она была слишком усталой, чтобы противиться, а в следующий не противилась, потому что была уверена, что я ее бросил, и она по-видимому думала, что ее объяснения должны были быть каким-то утешительным призом для меня, а не вздором и пыткой, как оно было на самом деле. И это продолжалось без конца, причем она время от времени не выдерживала, но скоро опять овладевала собой и отвечала на мои непечатные вопросы шепотом, затаив дыхание, или пытаясь с жалостной улыбкой ускользнуть в полубезопасность не относящихся к делу комментариев, а я все давил на обезумевший коренной зуб до тех пор, пока челюсть едва не разрывалась от муки, огненной муки, которая казалась все же лучше унылой, ноющей боли терпеливого смирения.
И заметь, что в перерывах этого дознания мы пытались добыть у неуступчивых властей нужные документы, которые в свою очередь позволили бы подать законным порядком формальное прошение на получение бумаг третьего рода, а те дали бы их обладателю право обратиться еще за другими бумагами, которые могли бы дать или не дать ему возможность узнать как и почему это случилось. Ведь если я даже и мог вообразить эту проклятую, все повторявшуюся сцену, мне никак не удавалось связать ее остроугольные гротескные тени со смутными очертаниями конечностей моей жены, которая тряслась и потрескивала в моих яростных объятиях.
И вот ничего больше не оставалось как терзать друг друга, проводить часы в префектуре, заполнять формуляры, совещаться с друзьями, уже испытавшими на себе соприкосновение с сокровеннейшими внутренностями всевозможных виз, препираться с секретарями, снова заполнять формуляры, в результате чего ее похотливый и изобретательный коммивояжер отвратительно смешался с крысоусыми рычащими чиновниками, с полуистлевшими связками устарелых ведомостей и вонью лиловых чернил, со взятками, подсовываемыми под гангренозные клякспапиры, с жирными мухами, щекочущими потные шеи быстрыми, холодными, как бы войлоком подбитыми лапками, с только что вылупившимися неказистыми, вогнутыми фотографиями шести ваших двойников, с трагическими глазами и терпеливой учтивостью просителей родом из Слуцка, Стародуба, или Бобруйска, с раструбами и дыбами Инквизиции, с ужасной улыбкой лысого человечка в очках, которому сказали, что его паспорта найти не удалось.
Признаюсь, однажды вечером, после особенно гнусного дня, я опустился на каменную скамью, рыдая и проклиная шутовской мир, в котором липкие клешни консулов и комиссаров жонглируют миллионами жизней. Я заметил, что и она плакала, и сказал ей, что все это не имело бы такого значения, какое имеет теперь, если бы она не сделала того, что сделала.
– Можешь думать, что я сошла с ума, сказала она с возбуждением, которое на миг чуть не сделало ее настоящей, только ничего этого не было, ничего, клянусь тебе. Может быть, я одновременно живу несколькими жизнями. Может быть, я хотела испытать тебя. Может быть, эта скамья мне снится, а на самом деле мы живем в Саратове или на какой-нибудь звезде.
Было бы скучно разбирать различные стадии, через которые я прошел покуда не принял, наконец, первую версию ее исчезновения. Я не разговаривал с нею и много времени проводил один. Она, бывало, мелькнет и пропадет, и появится опять с каким-нибудь пустяком, который, как ей казалось, должен был мне понравиться – то с фунтиком вишен, то с тремя драгоценными папиросами и тому подобное – обращаясь со мной с невозмутимой немногословной приветливостью сестры милосердия, которая ухаживает за трудно-выздоравливающим больным. Я перестал посещать большинство наших общих знакомых, потому что они потеряли всякий интерес к моим паспортным делам и, казалось, начали обнаруживать легкую враждебность. Я сочинил несколько стихотворений. Я выпивал столько вина, сколько мог достать. Потом был день, когда я прижал ее как-то к своей ноющей груди, и мы уехали на неделю в Кабуль, где лежали на круглой розовой гальке узкого пляжа. Как это ни странно, чем счастливей казались наши новые отношения, тем сильнее я чувствовал тайную струю острой тоски, но я все уговаривал себя, что это неотъемлемая черта всякого подлинного счастья.
Между тем, что-то там переместилось в изменчивом узоре наших судеб, и, наконец, я вышел из какой-то темной, душной канцелярии с двумя пухлыми visas de sortie [2]2
Выездными визами (фр.)
[Закрыть]в дрожащих руках. В них была надлежащим образом впрыснута сыворотка США, и я кинулся в Марсель, где мне удалось достать билеты на ближайший пароход. Я вернулся и протопал к себе наверх. Увидел розу в стакане на столе – сахарную розовость ее очевидной красоты, пузырьки воздуха, прилепившиеся как паразиты к стеблю. Оба ее платья исчезли, исчез гребень, исчезло клетчатое пальто вместе с лиловой лентой и лиловым же бантом, служившими ей шляпой. К подушке не было приколото записки, не было ничего в комнате, что могло бы навести меня на след, ибо роза была, конечно, всего лишь тем, что французские рифмачи называют une cheville [3]3
«Затычка» (пустое слово в строке, поставленное ради размера) (фр.)
[Закрыть].
Я пошел к Веретенниковым, которые ничего не могли мне сообщить; к Гельманам, которые отказались разговаривать со мной; к Елагиным, которые не знали, сказать или нет. Наконец, старуха Елагина – а ты знаешь, какой Анна Владимировна может быть в критические минуты – велела подать себе свою палку с резиновым наконечником, тяжело, но энергично поднялась всем своим грузным телом из любимого кресла и повела меня в сад. Там она мне сообщила, что, будучи вдвое старше меня, она имеет право сказать мне, что я негодяй и чудовище.
Ты только представь себе эту сцену: крохотный, гравием посыпанный садик с синим кувшином из Тысячи и Одной Ночи и одиноким кипарисом; разтрескавшаяся терраса, где, бывало, любил подремать с плэдом на коленях ее отец, когда ушел в отставку со своего новгородского губернаторства, чтобы провести остаток вечеров в Ницце: бледнозеленое небо; в сгущающихся сумерках чуть веет ванилью; цикады издают свою металлическую трель на две октавы выше среднего до; и Анна Владимировна, у которой складки кожи на щеках свисают и трясутся, осыпающая меня оскорблениями по-матерински, но совершенно незаслуженно.
В продолжение последних нескольких недель, дорогой мой В., всякий раз, что она без меня посещала те три или четыре семейства, с которыми мы оба были знакомы, моя призрачная жена наполняла сочувственно отверстые уши всех этих добрых людей необычайным разсказом. Именно: что она безумно влюблена в молодого француза, который мог бы доставить ей замок с башнями и имя с гербом; что она умоляла меня дать ей развод, но что я отказал; что я даже сказал ей, что скорее застрелю и ее и себя, чем поплыву в Нью-Йорк один; что она сказала, что ее отец в сходных обстоятельствах поступил как джентльмен; что я отвечал, что мне дела нет до ее cocu de рère [4]4
Папаши-рогоносца (фр.)
[Закрыть].
Было еще множество нелепых подробностей в таком же духе – но они были замечательно подобраны, и не удивительно, что старуха Елагина заставила меня поклясться, что я не стану преследовать любовников с заряженным пистолетом. Они уехали, сказала она, в шато в Лозере. Я спросил, видела ли она хоть раз этого человека. Нет, но ей была показана его фотография. Я уже собрался уходить, когда Анна Владимировна, которая отошла было и даже дала мне поцеловать свои пять пальцев, вдруг опять вспыхнула, стукнула палкой по гравию и сказала своим сильным грудным голосом: «Но чего я вам никогда не прощу, так это ее собаки, бедного пса, которого вы своими руками повесили перед отъездом из Парижа».
Превратился ли «состоятельный господин» в коммивояжера, или произошла обратная метаморфоза, или может быть он был ни то, ни другое, а просто какой-нибудь неудобосказуемый русский эмигрант, волочившийся за ней еще прежде того, как мы поженились – все это было несущественно. Она ушла. Стало быть, конец. Надо было быть сумасшедшим, чтобы, как в кошмарном сне, заново приниматься за розыски и ждать.
На четвертое утро долгого и унылого морского путешествия я встретил на палубе церемонного, но симпатичного пожилого доктора, с которым игрывал в шахматы в Париже. Он спросил меня, как моя жена переносит качку. Я отвечал, что еду один; он был явно огорошен и сказал, что видел ее дня за два до отплытия, в Марселе, где она, как ему показалось, довольно безцельно брела по набережной. Она сказала, что я вот-вот приду с багажом и билетами.
Это, я думаю, и есть главный пункт всей истории – хотя если ты напишешь ее, лучше не делай его доктором, потому что это уж очень избитый прием. В ту минуту мне стало ясно, что ее вообще никогда не было. И я тебе еще вот что скажу. Как только я добрался до места, то поспешил удовлетворить какому-то болезненному любопытству и отправился по адресу, который она мне однажды дала: он оказался адресом безымянного пустыря меж двух конторских зданий. Я поискал фамилью ее дядюшки в телефонной книге; ее там не было; я навел кой-какие справки, и Гекко, который знает всех, сказал мне, что и человек этот, и его лошадница-жена существуют на свете, но что они переехали в Сан-Франциско после смерти своей глухой дочери.
Глядя на прошлое отвлеченно, я вижу наш исковерканный роман на дне глубокого, туманом наполненного ущелья меж двух прозаических утесов: жизнь была настоящей прежде, она и впредь будет настоящей, надеюсь. Не завтра, однако. Может быть, послезавтра. Ты, счастливый смертный, со своей чудесной семьей (как Инесса? что близнецы?) и разносторонними трудами (как поживают твои лишайники?), ты вряд ли сможешь разобраться в моей беде в смысле человеческих отношений, но ты можешь кое-что объяснить мне, пропустив все это сквозь призму своего искусства.
Но какая все же жалость.К чорту твое искусство, я ужасно нещастлив. Она все бродит да бродит туда-сюда, там где бурые сети растянуты для просушки на горячих каменных плитах и крапчатый отблеск воды играет на боку зашвартованной рыбацкой лодки. Я совершил, неизвестно где и как, какую-то роковую ошибку. В бурых ячейках невода там и сям поблескивают белесые пластинки обломанной рыбьей чешуи. Если не буду осторожен, все это может кончиться в Алеппо.Помилосердствуй, В., ведь ты бросишь на эту историю тень непереносимой двусмысленности, если возьмешь это слово в заглавие.
Бостон, 1943 г.