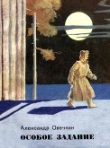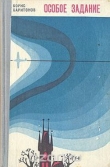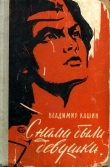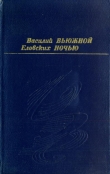Текст книги "Особое задание"
Автор книги: Владимир Возовиков
Соавторы: Владимир Крохмалюк
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Этот бой длился почти полчаса и был на редкость ожесточенным. Растянувшись редкой цепью, рота упорно сдерживала превосходящие силы «противника», сосредоточенным огнем пресекала его отчаянные попытки обойти её фланги, во что бы то ни стало прорваться за ближний гребень. За центр и правый фланг Кучкин был спокоен – там находились капитан Солопов и старший лейтенант Довбий. Он взял на себя левый фланг, где оборонялся взвод под командованием малоопытного командира. Прячась за камнями и выветренными скальными обломками, где ползком, где перебежками Кучкин добирался от одной огневой точки к другой, от отделения к отделению, помогал молодым командирам организовать огонь, направить его на самые опасные цели, при этом автомат в его руках не бездействовал. Когда же вдали, на склоне горы возникли боевые машины батальона, когда там развернулась атакующая цепь и «противник» смешался, пытаясь организовать круговую оборону, Кучкин первым поднялся в рост.
– За мной – в атаку!..
После боя командир батальона приказал построить мотострелков и объявил благодарность за инициативу и решительность в бою. Распорядился: тех, кто особо отличился, представить к поощрениям отдельно. После построения Виктор Солопов подошел к заместителю командира батальона по политчасти.
– Спасибо, Геннадий Павлович. Спасибо, что сегодня вы были с нами.
– Не за что. – Кучкин улыбнулся. – Я был лишь на своём месте.
И всё-таки, есть ли награда более дорогая для политработника, чем такое спасибо!
Когда-то Сибирь испытывала характер Геннадия Кучкина и его подчиненных таежными снегами, свирепыми степными буранами, сырой хлябью осенних распутиц, лютой стужей, когда обнаженные руки мгновенно примерзают к броне, а ветер, свистящий над люком идущей машины, сдирает кожу с лица. Афганистан испытал жестоким зноем и жаждой, пыльными бурями и огнем душманских засад на дорогах, по которым приходилось сопровождать мирные грузы для афганских селений и городов.
Много было тех огненных дорог, но особенно помнится одна из первых. Колонна была довольно протяженной, и бандиты на долгом пути не раз пытались рассечь её, уничтожить хотя бы часть машин с грузами, необходимыми молодой республике, как воздух. Кучкин тогда выбрал для себя самое ответственное и опасное место – в замыкающем подразделении, которым командовал старший лейтенант Евгений Чемезов. Враг чаще всего бил по хвосту, но останавливаться колонна не могла. Отражали нападения, боевыми машинами вытаскивали застрявшие грузовики, прикрывая их огнем и броней. Не потеряли ни единой машины, ни одного человека. Вот где послужили ему и личный пример, и умение расставить актив, собрать людей в сжатый кулак…
Однажды у скрещения горных дорог бронетранспортер, в котором ехал капитан Кучкнн, встретился с подразделением афганской армии. Кучкин сразу приметил встревоженные лица друзей. Через переводчика ему объяснили: подразделение получило задачу отрезать дорогу опасной банде душманов. Срок выхода на указанный рубеж истекает, а двигаться нельзя: дорога впереди заминирована. Обойти опасный участок не позволяют горы, саперы действуют на другом маршруте и прибудут не скоро. Не может ли советский офицер чем-нибудь помочь?
В экипаже Кучкина саперов тоже не было. Значит, банда уйдет и снова будет литься кровь невинных людей, будут подрываться машины на дорогах, гореть школы, склады, рушиться мосты… Кучкин обвел взглядом лица афганцев. Молодой командир, совсем молодые бойцы. Он понимал их растерянность перед столь серьезным препятствием, но как помочь в таком положении?
Советский человек, коммунист, политработник, капитан Кучкин не отделял своего интернационального долга от долга воинского. Он подошел к своей машине, положил руки на её теплую, такую надежную и родную броню, встретился взглядом с водителем, как будто повторил сказанное в учебной атаке: «Твое слово, товарищ Михайлов». Водитель не отвел глаз. Коммунист и комсомолец, они понимали друг друга без слов, особенно в минуты, когда проверяется их мужество и решимость. И оба они верили в свой опыт.
На глазах изумленных афганцев советский бронетранспортер обошел их колонну и двинулся по дороге. Пройдено сто метров, сто пятьдесят, двести… На лицах людей уже читалось облегчение, когда прогремел взрыв. У обочины крутилось оторванное колесо, а машина, пошатываясь, шла вперед. И тогда над стоящей колонной пронеслась отрывистая команда. Афганское подразделение устремилось вперед, догнало и обошло поврежденную советскую машину. Ещё один взрыв прогремел на дороге, а колонна, не останавливаясь, набирала скорость…
Позже Кучкин узнал: из всей банды, перехваченной на пути отступления афганскими воинами, не ушел ни один душман… Героя Советского Союза майора Геннадия Кучкина товарищи часто просят рассказать о службе в Афганистане, и почти всякий раз задается вопрос о самом трудном случае, который довелось ему пережить. Отвечает он серьезно и просто:
– Самый трудный случай, по-моему, тот, когда идешь на ответственное задание плохо подготовленным, без твердой веры в себя и в своих товарищей. У меня, к счастью, такого не случалось.
Когда слышишь такой ответ, становится особенно понятным, чем привлекла Геннадия Кучкина профессия политработника. Возлагая на офицера особую ответственность за людей, товарищей по оружию, она дает ему право быть впереди, там, где совершается главное, где всего нужнее личный пример и одушевляющее слово коммуниста.
Прохоровское поле
О старшине батареи прапорщике Волощуке поговаривали, что он, наверное, занедужит от расстройства, если приметит солдата, не занятого никаким делом. Доля истины в этом была. Даже в час личного времени при его появлении в казарме каждый спешил чем-нибудь заняться – раскрыть книгу, подсесть к шахматному столику или схватиться за спортивную гирю, потому что в противном случае Волощук сразу подзывал к себе «бездельника» и находил ему какую-нибудь не очень приятную хозяйственную работу. Впрочем, даже лентяи, если таковые ещё сохранились в батарее, не осмеливались громко ворчать на своего старшину, потому что за внутренний порядок подразделение постоянно хвалили, наряд то и дело получал благодарности от дежурного по части, а в ленинской комнате появлялись новые грамоты и призы. «Артиллериста создает труд и порядок» – то была любимая присказка старшины.
В то субботнее утро, построив солдат и сержантов, отправляющихся в городское увольнение, Волощук придирчиво осмотрел их внешний вид и вдруг спросил:
– Есть желающие поехать со мной и провести выходной день с пользой?
Все тут же решили, что старшина затевает какую-нибудь новую работенку, ибо слово «польза» в его устах воспринималось однозначно, и все же нашелся решительный.
– Возьмите меня, товарищ старшина, – попросил сержант Юрий Клыков. – Надо ж хоть раз со старшиной побывать в увольнении – будет что рассказывать детишкам.
В строю, не выдержав, засмеялись. Волощук невозмутимо ответил:
– Добро, Клыков. Ещё бы троих – и как раз по расчету.
Однако новых добровольцев не находилось.
– Значит, нет больше смелых? – сожалеюще спросил прапорщик. – А я-то хотел поощрить увольняемых. Ведь всё равно станете маяться в городе без дела.
Старшина был недалек от истины. Когда нет у солдата в городе родных и знакомых, долгожданное увольнение чаще всего превращается в пустое и нудное времяпровождение. А тут городок небольшой, все его достопримечательности посмотрели на экскурсиях, кино есть и в части. Опытный сержант Клыков не случайно отважился принять приглашение старшины.
– Значит, всё-таки нет смелых? Что ж, возьму других.
– А какая работа будет, товарищ прапорщик?
– Хорошая работа, – так же невозмутимо ответил Волощук. – Ума набираться.
В некоторых глазах появился интерес, и всё же к сержанту никто не присоединился.
– Ладно. Ты, Клыков, выбери в каждом расчете толкового парня, пусть наденут выходное обмундирование, и веди их на КПП. Через сорок минут выезжаем на Прохоровское поле. Там будет встреча с участниками Курской битвы. Остальные – свободны.
Уволенные в город окружили старшину.
– Товарищ прапорщик, так же нечестно! Что же вы сразу-то не сказали?
– Возьмите меня!
– И меня!..
– И меня!..
Волощук раздумчиво медлил, качая головой, потом назидательно заговорил:
– Я ж вас испытывал. Эх, пушкари, – работы забоялись!
– Так выходной же, товарищ прапорщик! И увольнение не каждый день дают. Не грешно и отдохнуть.
– Отдыхать, ребята, надо трудясь. Безделье – то не отдых, а сплошная мука. Что рождает артиллериста?
– Порядок и труд, товарищ прапорщик!
– Верно. Вот послушайте, что вам еще фронтовики скажут.
– Значит, берете нас с собой?!
– Беру. Для вашей пользы…
Потом была долгая дорога среди перелесков и созревающих хлебов, и вот оно, наконец, широкое, чуть всхолмленное поле под Прохоровкой – то самое знаменитое поле, которое горячим и грозным летом сорок третьего года стало могилой для целой танковой армии гитлеровских захватчиков.
Летний день выдался ясным, и на краю хлебной нивы собралось много местных жителей. Парни сразу обступили солдат, и за оживленным разговором даже не услышали, как подошли машины из Белгорода. Вдруг раздались аплодисменты, солдаты разом обернулись и увидели выходящих из автобуса дорогих гостей. Где-нибудь в городской толчее эти немолодые люди с простоватыми открытыми лицами и седыми висками, вероятно, показались бы малоприметными, но сейчас по цветным орденским планкам на пиджаках и кителях собравшиеся сразу угадали в них участников одной из величайших битв минувшей войны – тех бесстрашных рядовых, сержантов, лейтенантов, что насмерть стояли здесь, на рубежах бывшей Огненной дуги, истребляя ударные войска фашистов, которые Гитлер бросил на Курск. К солдатам подошел среднего роста полковник с Золотой Звездой на кителе. Прапорщик отдал честь, остальные замерли по стойке «смирно», полковник улыбнулся:
– Вольно, товарищи, вольно. Артиллеристы?
– Так точно, артиллеристы.
– Я тоже тогда служил артиллеристом, в противотанковом дивизионе.
– И мы – противотанкисты.
– Вот как! Значит, товарищи по оружию. И погоны я тогда носил такие же, как у вас, сержантские. – Полковник остановился перед Клыковым, спросил – Командир расчета?
– Командир.
– А я был комсоргом дивизиона. Так что в бою случалось во всех лицах выступать – и подносчиком, и заряжающим, и наводчиком, и командиром, – словом, становился туда, где сию минуту руки требовались. Как-то случилось даже батареей командовать. Ну, а чаще приходилось, конечно, показывать личный пример на позициях – лопатой орудовать, пушки ворочать, ящики таскать. У нас, противотанкистов, сами знаете, как у пахаря: все успехи – в мозолях. Сумел как следует зарыться, укрепиться, наладить боепитание, изучил назубок ориентиры, пристрелял рубежи, – значит, и врага одолел, и сам уцелел. Дал себе поблажку – кровью заплатишь. В общем, кто больше трудился, тот и побеждал.
Прапорщик Волощук торжествующе поднял палец.
– Слыхали, пушкари? А я что твержу вам с утра до вечера!
Полковник понятливо улыбнулся.
– Однако мы отстали, пойдемте со всеми вместе на поле…
Вслед за ветераном артиллеристы приблизились к самому краю золотившихся хлебов. Наверное, оттого, что небо было пронзительно-синим, с редкими белоснежными облаками, казалось, хлебное поле излучает горячий золотистый свет. Волнами набегал ветерок, и тогда налитые колосья, тихо шелестя, кланялись пожилым людям, молча и недвижно стоящим с непокрытыми головами впереди молодых спутников. Глаза полковника словно бы с недоверием оглядывали июльский простор, что-то искали в нем и не находили.
– Неужто это то самое Прохоровское поле? – спросил он негромко.
– А тогда оно тоже было засеяно? – так же тихо спросил сержант Клыков.
– Засеяно?.. – Полковник, словно очнувшись, глянул на сержанта. – Да, сынок, было засеяно… Только не одним зерном. И не одними колосьями оно тогда прорастало…
На огромном пространстве – серая пелена, застлавшая горизонт. Тучи пыли, взметенной разрывами бомб и снарядов, тысячами гусениц и колес; тучи дыма, чада и копоти от работающих моторов, от горящих танков, самолетов и автомобилей; в полдень – мглистые, грозные сумерки, в полночь – кровавые сполохи на тучах от горящих селений. И гул – грозовой, давящий душу гул, не смолкающий ни ночью, ни днем… Таким оно запомнилось ему на всю жизнь, Прохоровское поле…
Полковник наклонился, взял горсть земли – её запах помнился ему с того времени, когда, контуженный и оглушенный, падал в черную бездну и земля обняла его, прикрыла собой от рваной стали, хлеставшей по артиллерийской позиции. Это длилось, может быть, минуту, может быть, пять или одно мгновение – до конца очередного авиационного налета. Горячий, терпкий запах земли был первым ощущением, когда пришел в себя и, напрягая силы, встал во весь рост над краем огромной воронки с единственной мыслью: цела ли его пушка, последняя на батарее?
Сейчас земля пахла тоже терпко и горячо, но то был мирный, с детства знакомый запах родной степи. Полковник растер сухой чернозем, и пальцы его ощутили зазубренный кусочек железа. Он взял другую горсть земли, и снова в ней нашелся осколок. Взял третью – в ней оказалась потемневшая от времени винтовочная пуля.
Тогда солдаты, а с ними и приехавшие фронтовики стали растирать в ладонях землю, и почти каждый находил в ней ржавый металл войны.
Да, это было оно – Прохоровское поле.
Кто-то негромко спросил:
– Как же вы тут устояли? Железные, что ли, были? Или заговоренные.
Полковник окинул взглядом молодые солдатские лица, глуховато сказал:
– Обыкновенные наши ребята стояли тут. Обыкновенные. Только очень гордые, смертно ненавидящие врага, готовые умереть, но не пропустить его. И, конечно, хорошо подготовившиеся к самому тяжелому испытанию.
Он замолк, словно прислушивался к каким-то голосам в своей памяти, и тогда один из ветеранов попросил:
– Михаил Федорович, почитайте нам свои стихи. – Потом обернулся к толпе и представил полковника: – Товарищи, здесь с нами участник сражения на этом поле Герой Советского Союза Михаил Борисов. Он – известный поэт, пишет стихи о войне.
Полковник смутился, но тут раздались хлопки, и он встретил устремленные на него глаза солдат, стоящих вокруг.
– Пожалуйста, почитайте и расскажите, как было…
Собравшиеся затихли, гость снова оглядел поле и глубоко вздохнул. Негромкий голос его постепенно набирал силу:
…И снова, как будто воочью,
Услышав, как трубы трубят,
Увижу за черною ночью
В бессмертье идущих ребят…
Ночь с десятого на одиннадцатое июля сорок третьего года помнится ему в подробностях – она действительно была черной, и ни одна звезда не проглядывала сквозь дымную мглу, застлавшую небо. Ночами гигантская битва не прекращалась, она лишь приутихала, словно набиралась сил, чтобы во всей ярости разгореться с рассветом. Уже много дней их дивизион стоял в лесах неподалеку от Прохоровки, и шесть суток с юга медленно, неотвратимо наползала гроза. И вот пришел час, когда им самим предстояло пойти ей навстречу.
Артиллеристы уже знали: на северном фасе Курской дуги враг встречен мощным контрударом и отброшен. С юга он ещё продолжал свое отчаянное наступление на Курск, захлебываясь в собственной крови, безжалостно бросая в огонь последние резервы. Наученные страшным опытом Сталинграда, фашистские главари, видимо, уже достаточно ясно понимали, что для них проиграть Курскую битву – значит навсегда потерять стратегическую инициативу в войне и прийти к неизбежному поражению.
Уже тысячи советских бойцов – таких же бесстрашных, мужественных и искусных в бою, как танкист Вольдемар Шаландин, – совершили свои подвиги на Огненной дуге, чтобы наконец и здесь, на южном ее фасе, на подступах к Обояни, напрягающий последние силы враг уперся в железную стену. Артиллеристы дивизиона, в котором служил Михаил Борисов, накануне заметили, что битва вдруг стала смещаться на юго-восток, прямо в их сторону. Но они ещё не знали, что враг предпринимает последнее, отчаянное усилие прорваться к Курску в обход Обояни – через Прохоровку. Здесь, на узкой полосе между речкой Псел и железной дорогой, он сосредоточил до семисот танков, из которых более ста – «тигры». Однако и враг не ведал, что планы его разгаданы. Сюда, прикрытая непроницаемым воздушным щитом, уже выдвигалась 5-я гвардейская танковая армия под командованием генерала П. А. Ротмистрова. Двенадцатого июля здесь произойдет величайшее в истории танковое сражение, в котором, по красноречивому признанию германского историка, «последние способные к наступлению соединения догорали и превращались в шлак», была сломана шея немецким бронетанковым силам. Но произойдет это двенадцатого, значит, ещё сутки надо было устоять под Прохоровкой, не позволяя ударной танковой группировке врага вырваться на оперативный простор.
Комсоргу артиллерийского дивизиона сержанту Борисову едва исполнилось девятнадцать, а воевал он уже два года. В дни Курской битвы ему всё время вспоминалось трагическое лето сорок второго года в донской степи. Вцепившись в высокий берег реки, под свирепыми бомбежками, из последних сил отбивали они танковые атаки врага. И случалось, в бессонные ночи, в изматывающих бросках с одного конца плацдарма в другой – навстречу новому бою, шатаясь от смертной усталости, он шел, бережно неся панораму от разбитой сорокапятки, – верил, что ещё приладит этот дорогой прибор к новому орудию и поквитается с кровавым врагом за погибших товарищей, за всё горе и всю боль родной земли… Теперь у них в дивизионе не маломощные сорокапятки – новые семидесятишестимиллиметровые противотанковые пушки, о которых минувшим летом, будучи артиллерийским наводчиком, Борисов так мечтал…
И вот снова лето, снова враг наступает. И танки у него теперь много мощнее тех, с которыми приходилось иметь дело год назад…
Сержант Борисов, товарищи его думали об одном: чтобы их позиция стала последним рубежом, до которого дополз враг…
В летних густых сумерках Борисов шел из штаба дивизиона на третью батарею – накануне вероятного боя надо было хотя бы накоротке провести собрания комсомольцев. Прислушиваясь к далекому громыханию, он старался задавить в душе тревогу, но она росла. Борисов достаточно хорошо знал врага, и в одном он не сомневался: предстоящий бой будет предельно жестоким. Как поведут себя молодые бойцы, не дрогнут ли душевно в столкновении с «тиграми» и «пантерами», о которых тогда много говорилось на фронте? Массовое появление новых фашистских танков в битве на Курской дуге вовсе не явилось для наших воинов ошеломляющей неожиданностью, как рассчитывал враг. Ещё зимой сорок третьего, при попытке деблокировать окруженную в Сталинграде группировку фашистских войск генерал-фельдмаршал Манштейн применял «тигры», но, как известно, они ему не помогли. Несколько позже, на Южном фронте, советские бойцы буквально из-под носа у гитлеровцев утащили «тигр», присланный на фронт для боевых испытаний и застрявший в степи. Так что наши воины хорошо знали уязвимые места вражеской техники, отрабатывали способы борьбы с нею. Но и другое знали: новые вражеские танки оснащены не только повышенной броневой защитой – на них установлены мощные дальнобойные пушки и самая совершенная для того времени оптика, позволяющая точно поражать цели даже на предельных дистанциях. Враг был исключительно силён и опасен; чтобы его остановить, необходимы предельное мужество, полная самоотдача в бою и, конечно же, вера в себя, в свое оружие, уверенность в товарище, который не дрогнет, выстоит на своем месте до конца, а при нужде придет на помощь, выручит из беды.
…В темном капонире под маскировочной сетью вспыхнул огонек самокрутки, комсорг замедлил шаг, намереваясь по-своему пропесочить неосторожного артиллериста, и вдруг остановился, пораженный забытым видением, которое с невероятной отчетливостью всплыло перед глазами. Может быть, это запах вскопанного чернозема, особенно сильный ночью, напомнил такую же темную и теплую июльскую ночь в родной лесостепи… Отец тогда остался у рыбацкого костра над протокой за починкой сети, а он, двенадцатилетний подросток Мишка Борисов, с увесистой холщовой сумкой, в которой ещё трепыхались холодные красноперые окуни и язи, побежал домой через ночное поле. На середине пути в сумраке забелели стволы сухих берез на краю диковатого степного колка, и мальчишку словно толкнули в грудь: в глубине зарослей кто-то внезапно зажег два странных зелено-фиолетовых огня. Филин?.. Лиса?.. Два первых огонька ещё не погасли, когда ближе вспыхнула вторая пара глаз, а чуть в стороне – третья. Из-за деревьев за ним настороженно следило волчье семейство – это он сообразил сразу, потому что лисы не ходят стаями на охоту и ещё потому, что отец недавно показывал ему следы волков недалеко от того места…
Трудно назвать страхом то, что в первый миг пережил двенадцатилетний подросток, – жуткое, темное, неодолимое желание бросить сумку с рыбой и бежать, бежать… Но юный сибиряк много раз слышал, что от волков бежать нельзя. И в следующий миг над его страхом поднялась злая, недетская решимость, а с нею – необъяснимое упрямство, может быть, ещё неосознанная гордость. Бежать как трусу?.. Да лучше умереть на этом месте!..
Ещё не отдавая себе отчета, не чуя земли – будто по досточке над бездонным провалом, – он двинулся вперед, через колок, стараясь лишь не потерять в темноте тропинку. Он шел, насвистывая какую-то лихую песенку, и даже не заметил, когда и куда скрылись зелено-фиолетовые огоньки волчьих глаз. Он ни разу не оглянулся, и до самого дома чудился ему за спиной вкрадчивый шорох звериных лап. Однако, отдав матери рыбу, наскоро проглотив ужин и захватив еду для отца, не мешкая, побежал обратно, хотя отец ждал его утром. То же непонятное гордое упрямство – доказать себе, что не боится никаких волков, – погнало его в ночь. Снова чудились в черном поле и березовых зарослях алчно горящие глаза голодных зверей, но он убеждался, что теперь их рисует страх – тот самый противный и ненавистный страх, который он, Мишка Борисов, старался растоптать в себе раз и навсегда. Лишь дня через два рассказал отцу о ночном происшествии. Тот, выслушав, пристально посмотрел, спокойно сказал: «Ну и правильно, сынок, что не побоялся серых. Мы ж люди, а человеку бегать от зверья – грешно и стыдно. – Озорно усмехнувшись, добавил: – А волки, между прочим, за людьми не охотятся. Чего бы про них ни рассказывали – не верь. – Снова построжав, ткнул в газету, где сообщалось о жестоких расправах германских фашистов над коммунистами и демократами, о концентрационных лагерях в гитлеровской Германии, в которых томились десятки тысяч людей: – Вот эти двуногие твари, фашисты, – они-то как раз и охотятся на человека. Глядишь, нам ещё придется иметь с ними дело – и то будет дело страшное. А волк что – дикая собака…»
Знал бы отец, сколь пророческими окажутся его слова!..
И вот в ночь перед новой встречей с железным фашистским зверьём короткое воспоминание о том, как ещё мальчишкой сумел перешагнуть собственный страх, отодвинуло душевную тревогу.
Собрание в третьей батарее было недолгим. Постановили: «В бою драться насмерть. Погибнуть, но без приказа позицию не оставлять». Когда проголосовали за решение, кто-то попросил:
– Миша, прочти нам стихи напоследок.
Борисов знал, что бойцы любят его чтение, но время ли для стихов?.. Оглядев знакомые лица, комсорг встал. Он читал «Бородино». Может быть, оттого, что близко гремела жесточайшая битва, знакомые лермонтовские строчки словно взрывались в душе, зажигая необычайным волнением, и волнение его передавалось слушателям. Когда он с силой произнес: «…Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою!» – увидел, как заблестели широко открытые темные глаза молодого наводчика Ахтама Ходжаева, сжались в камни лежащие на коленях руки другого наводчика – Георгия Сидорова, как подались вперед все бойцы. Словно встали рядом герои бородинских редутов, а с ними – те, кого сержант Борисов и товарищи его потеряли на военных дорогах, встали с одним вопросом: «Ну как вы тут, братья?..» В такие минуты бойцы отчетливо понимают: то, что им выпало, не сделает никто другой.
Потом комсорг проводил собрания в других батареях, заканчивая каждое лермонтовским стихотворением, и всякий раз видел, как товарищи благодарны ему. Через сто с лишним лет после того, как были написаны простые и проникновенные слова поэта-воина о солдатской готовности умереть за Родину, о солдатской чести, гордости и верности долгу до последнего вздоха сохраняли необычайную силу воздействия на людские сердца в час грозного испытания. Не тогда ли Михаил Борисов дал себе слово: если вернется с войны, непременно напишет стихи о том, как дрались за Советскую Родину, как умирали и побеждали его друзья…
Угрюмое утро застало их среди просторного поля, тогда-то и прокатилась по колонне резкая, как выстрел, команда:
– Танки с фронта!.. К бою!
На полном ходу тормозили машины, бойцы бросались к пушкам, выхватывали из кузовов снарядные ящики. От расчета к расчету вполголоса неслось: «Тигры»… Из степи, задернутой то ли туманом, то ли оседающим чадом и пылью, наползал характерный скрежет танковых траков. Терпко пахло землей, горелым порохом и бензином… Командир третьей батареи старший лейтенант Павел Ажиппо, пробегая мимо Борисова, окликнул:
– С нами, комсорг?
– С вами, товарищ старший лейтенант.
– Спасибо, комсорг. Помоги Красноносову.
Борисов и сам понимал, что место его в огневом взводе старшего лейтенанта Красноносова, потому что там много необстрелянных бойцов, а позиция взвода – ключевая в батарее. Он стал в расчет рядом с наводчиком – помогал развернуть пушку, сложить боеприпасы. Сейчас всего нужнее были его опытные руки, к тому же пример спокойной работы в боевой обстановке действует на молодежь неотразимо – это он проверил на себе.
Серые угловатые танки двигались неровной линией, волоча за собой косые полосы пыли, они уже отчетливо проглядывали сквозь дымку. Да, наблюдатели не ошиблись – Борисов сразу опознал вражеские машины, хотя «живыми» видел их впервые. Так вот как довелось повстречаться с «тиграми» – в чистом поле, на неподготовленных позициях!
Враг упрямо держался тактики, избранной им с начала Курской битвы: впереди шли новые тяжелые танки, выставляя мощные лбы, за ними, наращивая фланги вширь, во втором эшелоне наступали в боевых порядках знакомые артиллеристам средние машины. Только пехоты на бронетранспортерах и автомобилях уже не было в середине «танкового колокола». Советские артиллеристы и танкисты успели отучить гитлеровских пехотинцев от наглых атак на колесах и гусеницах под прикрытием танков. К тому же у врага не хватало людей. Десятки тысяч фашистов лежали сейчас от верховьев Ворсклы до Прохоровского поля, уткнувшись в потоптанные травы. Отсутствие вражеской пехоты было большой удачей для артиллеристов, потому что мотострелки их бригады отстали…
На поле хлынул давящий гул – волна за волной выплывали из-за горизонта «юнкерсы», направляясь в сторону узловой станции Прохоровка. Казалось, они не замечают советскую батарею или оставляют её без внимания, как вдруг замыкающая группа бомбардировщиков свернула с курса… И почти одновременно часть ближних танков сделала поворот, нацеливаясь на артиллеристов. Вероятно, фашисты рассчитывали одним ударом с ходу раздавить наш небольшой заслон, который угрожал флангу их наступающих порядков, – ведь и малая заноза может здорово досадить, если вопьется в пятку. Не разворачиваясь и не снижаясь, «юнкерсы» широким ковром сыпанули бомбы на расположение батареи – словно огнем и сталью стелили дорожку для своих танков…
Через тридцать лет в поэме «Дорога к звездам» Михаил Борисов скупо напишет о завязке того боя:
За пять минут распахан холм,
Дотла повыжжен лес
И вот рванули напролом
Дивизии СС…
О том, что 4-й танковой армии гитлеровцев, нацеленной на Прохоровку, были приданы три эсэсовские танковые дивизии, он узнал много позже, но черепа и кости на броне «тигров» разглядел в самом начале боя, когда самолеты, оглушив поле грохотом бомб, скрылись и танки оказались неожиданно близко. Они то и дело окутывались слепящими вспышками выстрелов и облаками сухой пыли, снаряды с коротким, надсадным ревом вздымали столбы огня и земли то впереди, то позади батареи, воздух наполнился отвратительным смрадом и визгом осколков, утреннее поле заволакивала грязная серая мгла, и, если бы не усиливающийся ветерок, артиллеристы могли потерять из виду наступающие на них танки. Очевидно, враг, получивший целеуказание от своих летчиков, ещё не разглядел как следует позицию батареи. Но он уже знал, что советские артиллеристы, танкисты и пехотинцы безбоязненно подпускают его тяжелые танки поближе и бьют наверняка. Экипажи «тигров» явно провоцировали на ответный огонь, надеясь издали по вспышкам выстрелов засечь наши орудия и расстрелять их. «Боятся, – вдруг догадался Борисов по нервной стрельбе вражеских танкистов. – Они нас боятся, трусят самым пошлым образом. Вот тебе и хваленые „тигры“!» Невероятно, но от этой догадки ему на миг стало весело. И такое злое спокойствие охватило его, такое ощущение собственной силы, что он стал мысленно поторапливать медленно ползущие неуклюжие танки врага.
То ли соседей подвел глазомер, то ли у кого-то не выдержали нервы – слева громыхнули пушки, и Борисов увидел, как над широкими тупыми башнями танков выросли громадные столбы искр. «Горят!..» – обожгла радостная мысль, но «тигры» – все до единого – по-прежнему наползали. Длинные стволы их орудий медленно поворачивались туда, откуда по ним ударили выстрелы. Скоро там забушевал настоящий смерч, и сквозь оглушительный грохот артиллеристы расчета едва расслышали команду. Передавая снаряд заряжающему, Борисов вдруг увидел, как наводчик Ходжаев лихорадочно крутит механизмы наводки и не может поймать перекрестием панорамы пляшущую в прицеле громаду танка. В одно мгновение понял комсорг состояние необстрелянного солдата, только что видевшего своими глазами, как бронебойные снаряды отскакивают от стальной шкуры «тигров». Он шагнул к наводчику.
– Спокойно, Ахтам! Не спеши, цель под самую башню. Они боятся нас – видишь, у них огневая истерика…
То ли Ходжаев оказался метким, то ли сосед его младший сержант Сидоров, но, ещё ослепленный выстрелом своей пушки, Борисов услышал чей-то крик:
– Горит! Проглотил, гад, пилюлю!
Из всех щелей «тигра» бешено рванулось коптящее пламя. Ни один вражеский танкист не покинул машину – взорвавшиеся боеприпасы превратили ее в огненную могилу.
Теперь опытный артиллерист Борисов разглядел, что пресловутый «тигр» при всей мощи брони – отличная мишень. Фашистским конструкторам не хватило то ли таланта и искусства, то ли времени, чтобы создать новую машину наподобие нашей тридцатьчетверки, чья скошенная броня отражала даже сверхмощные болванки. «Тигр» был подобен коробке, снаряд легко «закусывал» его вертикальную броню, и, если даже она выдерживала, вся страшная сила удара приходилась на танк, оглушала экипаж и ранила кусками окалины. Не оттого ли так нервничали в бою вражеские танкисты и так часто мазали даже на близком расстоянии, несмотря на отличные телескопические прицелы?