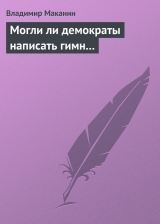
Текст книги "Могли ли демократы написать гимн..."
Автор книги: Владимир Маканин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Владимир Маканин
Могли ли демократы написать гимн...
рассказ
Я спросил – можно, я закурю. В постели. Чтобы мне не высовываться, не вывешиваться по пояс в окно... Знал, что улика и что здесь бы курить не надо. Но до чего же приятно чувствовать бездонную женскую уступчивость. (Приятно продолжать чувствовать. Это процесс. Женщина тает... Как снег... Уступка за уступкой.)
– Одну сигарету.
– Здесь?
– Да... Только одну. Лень вылезать из тепла... Из пригретого места.
Она тихо смеется:
– Понравилось?
Мы сколько-то лежим... Я дважды тянусь к брюкам за куревом. Но каждый раз одумываюсь и обратным движением руки натыкаюсь вместо сигарет на ее плечо. Касаюсь ее плеча. Она тихо ахает... (Это наше начало. Так и не покурил.)
Ее аханье раззадоривает (особенно самый первый, взрывной ах). И так сразу провоцируют картинные круглые ее плечи. И, конечно, грудь... Но боюсь я только ее живота. Небольшой и смуглый. Пружинящий. Подо мной гуляют упругие, нервные волны. Я их все чувствую. Я их все узнаю. Их три, иногда четыре. Они прокатываются. Они живые. Как собственный медлительный спазм... Это потрясает! Я даже не успею вскрикнуть. Это прикончит наверняка. Чтобы продержаться подольше, мне надо уклоняться... Мне надо избегать. Любая поза, но не живот к животу. Лиля Сергеевна уже знает. Мы оба знаем, и мы все время группируемся, извиваемся, мы гнемся так и этак, чтобы не дать нашим животам сойтись. (Разделяем их, как ненасытных влюбленных. Остыньте!) И только когда апогей, когда оба вот-вот взорвемся, Лиля Сергеевна честно поворачивается ко мне всем телом... Всей дрожью... Всей гладью живота... Как воин, идущий умирать с открытым забралом, она шепчет: «Ну?.. Ну?..»
Щедрая, млеющая от ласк женщина... Она и подводит мужчину. Хотя бы и такого старого, тертого крота, как я. Невероятно! Тебя отключают. Ты в гипнозе. Куда-то делся весь разум. Весь вопрос: куда?.. Я вдруг расслабился в ноль. (А Лиля как Лиля.) Даже курить не хотел. Я забыл, где я... Забыл, кто я. Только бы не живот к животу. (А Лиля как Лиля.) Говорят же, небеса ревнивы! В такие подсмотренные минуты небеса нам, придуркам, остро завидуют. Небеса еще и нехорошо посмеиваются: давайте, давайте, милые... резвитесь... млейте... и пусть, мол, вас накроют сейчас же. Пусть-ка вас тепленьких! горяченьких!..
Так и было. Даже шум мотора не дал нам знать. Муж был здесь, был совсем близко – он уже загнал машину в их дачный гараж. (Классная тихо-тихо рокочущая машина.)
И только тут я услышал. Крепкий мужчина, стоя в дверях, чертыхнулся и шумно сбросил ботинки. Или это сапоги... Мужчина с ходу, сразу же поднимался к нам с Лилей. На второй, спальный, этаж. Уже по лестнице... Ножищами. Так и пер вверх. (Почему бы и нет? Мужик был у себя дома. Шел к своей женке в спальню.)
– Лёлька! Что у тебя там?
Он решил, что наши сбивчивые голоса – телевизор.
Сделав лестницей три-четыре шага, он все-таки остановился. Не стал подниматься. Развернулся. И сошел вниз, бухая по деревянным ступенькам босыми ногами (или это шлепанцы?).
Он шумно топтался теперь там, внизу. Он, мол, сейчас перекусит. Он, мол, надумал поесть... Но что именно?
– А мясо? Лёльк!.. Мясо, что с обеда оставалось?.. В кастрюле?
– Должно быть в кастрюле, – откликнулась Лиля, все еще обмирая от страха.
Он хлопал дверцами холодильников (там у них два). Гремел тарелками-кастрюльками... Нашел... Затем решил не торопиться: неспешно жевал холодное мясо – и одним глазом смотрел телевизор. Дубль вечерних удовольствий.
– По какой ты смотришь? – кричал он, жуя.
– А?
– По какой программе? У тебя там что-то интересное – я же слышал.
И опять он затопал! Чего ж не топать на даче в час ночи!.. Туда-сюда... В медвежьих шлепанцах.
Ее муж Н. – человек более или менее известный. Частенько по телевизору... Мелькает! Но мужик симпатичный, не дерьмо. И лицо как лицо. К нему (на экране) я как-то пригляделся. Лицо достаточно выразительное. Уже он под пятьдесят... Однако без брюшка. Плечистый и сильный.
– Лёльк!.. Лёльк! – Этот его оклик и командорский топот его ног гонят к нам (прямо вверх по лестнице) очередную волну страха.
Но если честно, мне уже плевать. Я (в темноте) смотрю подруге в самые глаза – смотрю зрачки в зрачки. Я возмущен! Как такое можно!.. Я же спрашивал: могу ли я остаться на ночь?.. Как хочешь, сказала. Что за ответ! О чем она думала!.. И как теперь?.. Хочу ли я теперь остаться на ночь? Что скажешь, дорогая?.. Смотрю, далеко ли мои брюки... И перевожу глаза на часы, что на столике. На фосфорные цифирьки, повисшие во тьме, – ну да! Все правильно. Первый час ночи!.. Почему бы мужу и не вернуться домой?
– Может быть, он... Он... Он... Может быть, не подымется сюда, – шепчет она. Ее всю трясет.
– Правда?.. Но может быть, и подымется, – шепчу я ей в ответ.
Я взбешен! Какая, к черту, ирония... Нельзя быть такой. Млеющая от ласк женщина ответственна! Растекающаяся от ласк ответственна вдвойне! Втройне!.. Вдесятерне!.. Я думал, хотя бы трусы. В трусах ты хотя бы подвижный. Как на любительском пляжном ринге. Хочу ли я остаться на ночь? И кулаки сжать. Как бы забытый публикой ржавый боксер... Можно постращать взглядом. Что-то прорычать, если в трусах... А рычать голяком – это какой-то обезьянник. Как выставить кулаки, если гол. С болтающимся членом?.. Качели! При каждом шаге. Ты направо – член налево.
Рванулся было встать, но трясущаяся Лиля Сергеевна удержала меня в нашей притихшей тьме. Спокойно. Спокойно... А саму колотит!.. Ей тридцать лет, молодая! Вся жизнь впереди... Я потянулся за трусами, но она опять – нет, нет!.. Так и повисла на моей руке. (Неправильно истолковала. Решила, что встаю... Что сейчас наделаю шума.) Прижав к постели, навалилась на мою руку телом. Всей тяжестью: «Женщина знает мужа. Женщина знает...» – шептала.
Оказывается, она расслышала, что его полночный шаг слишком тяжел и слишком характерен. «Он не подымется сюда. Он много выпил». – «Уверена?» – «Да, да». Она удерживала. Она вся распласталась... Она навалилась на меня уже поперек постели. На мою руку, на грудь, только не вставай, только тихо. (Ее так трясло, что напомнило недавнюю ласку.) И нежно рукой... Ласково не отпускала... Нежность в сочетании с бесстрашием, это так удивляет в женщине.
Но зато сердчишко ее частило, колотилось немыслимо! Я слышал грудь к груди. Сердце к сердцу. Как у крольчонка... Таково и есть настоящее бесстрашие: сквозь страх.
Ночь. Я вдруг ощутил ночь... Отмененный страх подействовал на меня странным образом: он меня резко расслабил... Я вял... Я клоню голову. Неужели меня тянет в сон? Только заснуть не хватало!.. «Тс-с... Тс-с», – зачем-то шепчу я Лиле. А сам жмусь щекой к подушке. Хочу в тепло. Я даже зарываюсь в одеяло. Я в дреме... Лиля Сергеевна со мной. Немного растерянна... Наша с ней маленькая примолкшая ложь превращается в честную ночную тишину.
Тихо... Вот бы и спать!
Но, судя по вскрику снизу, до сна там далеко. Возбужденный Н. вдруг набрел, наткнулся на телеканал, где шли ночные политические дебаты. Ага! Пустили рыбу в реку.
Похоже, Н. увидел там рожу знакомца. И искренне возмущен:
– Д-дерьмо! Какое дерьмо!
Он и ругался симпатично, вкусно. Не опускаясь, впрочем, до прямого мата... Если человек в политике, его трудно любить! Спесивые. Надменные. И всё-всё-всё знающие... Я зевнул... Если бы эти гондоны хотя бы догадывались, как располагает к себе публичный человек, когда он сомневающийся... Когда он ищущий правильное слово... Кающийся во вчерашней ошибке.
Но вот этот Н. оказался как раз из кающихся. Из сегодня кающихся... Редчайший случай!
Сегодня он был без тормозов.
– Да?.. Да?.. И что вы насочиняли? – кричал он прямо в экран знакомцу политику. – Это же туфта, туфта! Лёльк! Ты слышишь, этот тупой... этот продавшийся хер хвалит новый гимн! Хамелеон! Да от тебя же тошнит! Нет, это в твоей! Это в твоей башке прокисает старый хлам!.. Ветошь бомжовая! Неужели люди так бездарны? Так лживы? Даже лучшие из нас... Ничего нового. Лёльк, ты слышишь?
– Я слышу...
– Лёльк. Ни-че-го!.. Что-то... Хоть что-то! Хоть что-то в жизни может перемениться?.. Я кричу, я спрашиваю вас, жопы, может хоть что-то перемениться в нашем любимом отечестве?
Кричит! Как кричит!..
Мне (в постели... и во тьме) это стало напоминать орущий телевизор у пьяных соседей. Когда очень слышно – но не видно. Когда хочется дать кулаком в стену. Нет, такой не уймется. И все гимн, гимн... Почему не герб? Для разнообразия. Прямо сумасшедший дом... Не люблю телевизор. Я стар и слишком перекормлен одиночеством, чтобы еще слушать чьи-то бредни. Люблю ночную прогулку... Свежий ветерок. Луну.
Но тем удивительнее, что меня стало забирать. Я стал прислушиваться.
– Лёльк! Лёльк! – в это время вопил он. – Да мы-то чем их лучше?! Слышишь?.. Ты слышишь меня?!
Кричит:
– Да?.. Сочинить самим слова? Куплеты? – Это он кричал политику на экране. – И еще заодно музыку?.. А могли ли мы сочинить – могли ли мы сами написать слова? Спрашиваю – могли ли?
И вот тут он впрямую обрушился на самого себя. Его несло:
– И потому я признабюсь не через двадцать лет, а сейчас – мне нечего было бы написать в гимне. НЕ-ЧЕ-ГО. Слышишь, Лёльк!.. Но ведь и честные, мы никогда всего не говорим. Мы недоговариваем. Мы прячемся... Гимн – это же так просто. Это же понятно ребенку. Школьнику! В младших классах!.. Гимн – это же значит надо что-то славить. Хвалить. Воспевать... А что я мог бы честно... честно славить в этой стране? – В голосе вдруг послышались слезы.
Пьяные, но ведь слезы.
– Кто меня упрекнет? Как на духу... Но чем искреннее, тем больнее... Что? Что я могу славить в родном отечестве?.. Ответь прямо, Лёльк!..
Ответить прямо она не могла. Но его оклики, его бесконечные «Лёльк! Лёльк!..» оказались для нас все же с пользой. Лиля Сергеевна пришла наконец в себя. Она села в постели. Страх отступил...
– Тс-с... – Она нисколько не резко, но настойчиво прихватила меня за кисть руки. И дерг-дерг – подымайся... Подымайся, милый! Подъем!
Я сел. Соображаю... А она жестом во тьме (очень понятным движением рук от себя) показывает – уходи, милый, пора!.. Гонит?.. Ну да... Мол, пора расстаться. Мол, лезь в окно... Да, да. Именно в окно, милый. В окно!..
В полутьме мы яростно жестикулируем. Я кручу пальцем у виска. Я не придурок... В окно – а куда дальше? Этаж высок... Или я кот? Или мне там заночевать? Свернувшись на скосе крыши. Обняв трубу?
Однако с женщиной в ее доме долго не поспоришь. Конечно, не поспоришь! (Но, может быть, пенсионеру удастся удачно спрыгнуть?..) Я вяло одевался.
А Н. внизу за это время разошелся вовсю:
– Как?.. Как написать гимн, если... Все и всё. Власть – это понятно. Лёльк! Но ведь я могу перечислять и перечислять. Я честен!
И он начал:
– Власть – нам чужда. Армия – ненавистна. История – отвратительна. Это уже в-третьих!.. Есть и в-четвертых... И в-пятых. А ведь есть еще и в-главных – народ!
Стало слышно, как, яростно вопя, он вновь забегал из угла в угол. Затопал.
– Лёльк! Народ – пугает... Народ – страшит. Пугает нас своей темнотой. Своим черноземом. Лёльк! Своей голодной злобой. Своими инстинктами!.. Надо же уметь признаться, в конце концов.
В покаянии как в покаянии. Так надо. Когда мало одних поклонов. (Когда для полноты хочется еще и башкой о пол! О ступени!) И вдруг... молчание. Раскричавшийся Н. вдруг смолкает. Как оборвало... Похоже, он плюхнулся в кресло. Выдохся! Как с обрыва упал.
Стал слышен (негромкий) телевизор. И только музыка... Шопен... Мы с Лилей настороженно ждем. (Затаились.) Но уж слишком затянулось его молчание. Три минуты... Пять...
Луна. Вот она... Вышла наконец и она, родная, к нашим забытым окнам. Как не хватало ее молчаливого сияния. (Ее одобрения.) Глядит на нас с небес прямо и ясно. И что ей гимн!
Когда я перевожу глаза – Лиля стоит в лунном луче совершенно нагая. Похоже, она задумалась.
А я делаю свой первый шаг к окну... Посмотреть, высоко ли?
– Что ты? Зачем? – спрашивает Лиля шепотом.
Тоже шагнула. Прижалась... И шепчет, прижавшись, – мол, он уже попросту спит. «Что?» – «Вот так в кресле и уснет. Он часто так...» – «Не понял». – «Что тут понимать. Уснул в кресле». Под наш шепоток Лиля Сергеевна начинает быстро-быстро сдергивать с меня рубашку, которую я только что надел. Я помогаю. Затем мы вдвоем стягиваем мои брюки... Я было подумал, что чувство... Что ее вдруг разобрало чувство. Однако нет. Здесь лишь милая женская забота. Как всё вовремя!.. Слышу ее озабоченно-разумный шепот: «Не спеши. Надо выждать... Пусть уснет крепко». – «Понял». – «Он уснет, и можно уйти. Уйдешь по-людски». (Не выпрыгивая. Не на четыре лапы.)
А теперь и чувство подоспело, и тоже при ней. Или лучше сказать – при нас. Мы опять валимся на постель... Правда, теперь опаска. Осторожность! Мы вдруг не сговариваясь перебираемся с постели на пол. Мы спустились... Мы в зазоре – между окном и постелью. В яме. Здесь на полу (если что) нас не так видно.
Здесь и луна сильнее. Мощнее!.. Я чувствую прилив сил... И первое мое движение (как всегда при луне) – нерешительно-нежное. Я своего первого движения боюсь. Нежен, словно вхожу в воду. Вхожу ночью – в темную воду знакомой реки.
И как выдох на вдох – она отвечает мне сразу же: «А-аах...»
Да и что еще было делать?.. Если мне пути домой нет. Человеку не раствориться во тьме.
А на полу нам совсем неплохо. После постели даже изысканно хорошо. И свежо. Это как бы в чуть прохладной яме – меж опустевшей теперь кроватью и окном. Если пьяноватый Н. все-таки поднимется по лестнице, он нас увидит... Но не сразу.
Вероятно, из той же сомнительной профилактики (и отчасти из-за тесноты) я нахожусь в странной позе: одна нога на полу и полностью принадлежит Лиле, а другая где-то наверху. Нога моя, которая наверху, совсем отдельна. Ее нет. Нога где-то там. Поднята и опирается на край постели. При этом мы трудимся. Мы с Лилей все время в движении... И чем при случае столь странная поза нам поможет? – это вопрос. Чтобы ее мужик, войдя, подумал, что я с одной ногой? и пожалел соперника?.. Но ведь в темноте... И кто сказал, что одноногих не бьют. Если их застанут. Это я уже пошучивал. (Ей нравилось.)
Смеется:
– Зачем ты в такие минуты несешь чушь?
И шепчет ласково:
– Одноруких действительно не бьют, я читала.
Мы вдруг слышим, как он гремит бутылками, доставая холодное пиво. Надо же! Очнулся... Пьет... И что теперь?.. А пиво, пиво! Так вкусно булькало в его проснувшемся горле.
В параллель с этими булькающими звуками и нас разобрало. Я коснулся ее удивительного живота... Пока что рукой. Случайно. Бережно... И все равно обмер. И пиво забыл... И сразу же обвал этих наших вечных микродвижений. Локти... Коленки... Губы... Пальцы... Запястья... Две шеи, две головы – все задвигалось. Тело угадывает тело без сговора. Все соприкасается, ласкается, трется. И совсем без углов, словно спим безотрывно два-три года.
Вот только это, пожалуй, излишне:
– Ах-аах... Ах-аах!.. – Лилино милое, но громкое аханье.
Нас, я думаю, возбудила сама смена обстоятельств – скорый страх и скорая же отмена всякого страха. Я это вполне понимаю. Это неизбежно. Адреналин... Но зачем именно сейчас такой чувственный взлет? Зачем звуки?.. Это лишнее, лишнее!
Лиля Сергеевна уже не мне ахала. И даже не самой себе. Она ахала небесам. (Которые все-таки нас не бросили. Не подвели.) Женщина... Ах-аах. Ах-ааааах!
– Лёльк! – кричит он. – По какой?.. Я же слышу, у тебя там какая-то сексуха.
Я дергаю: «Да откликнись же! Откликнись ему!..» – «А?» Она не соображает. Женщина! Слишком счастлива. «А?» – и тогда я ее за жаркое ухо. За ушко! Еще и еще разок.
– Лёльк! – крик снизу. – По какой смотришь?
– По Рен... По Рен-ти-ви, – кое-как произносит она.
– Нет там ничего по Рен! Это не Рен!.. Я же слышал, у тебя что-то мощное, надо же как!
Восторгаясь, он снова ищет в холодильнике. Двигает бутылки.
– Надо же! Как сладко ахает! А?.. Тебе, Лёльк, там хорошо видно? Какая кнопка?.. Нет, как забирает бабец! Как забирает! Прямо позвонки вяжет!
Грохнул дверцей. Еще пива! Похолодней! Политики нетерпеливы... Судя по поисковым звукам, это уже другой холодильник. Задыхающаяся Лиля Сергеевна (хозяйка!) успевает все же очнуться (я сбавил ритм) и ослабевшим голосом ему крикнуть:
– Ах-аах... Ах-аах... Вино не в холодильнике – вино на шкафу.
– На фиг вино, Лёльк! Хватит! Хватит этого марочного ух-ух-какого испанского вина!.. Я возвращаюсь к водке. Что-то в людях вдруг случилось, Лёльк. Мы возвращаемся к своему народу. Что-то в политнебесах произошло. Все поцентрело.
– Да, да...
– Нет, ты расскажи хоть словами, кого там... Кого так слышно дрючат? Молоденькую? Может, негритянку?
А ей нужна отдышка. В том и опасность, что на пике чувства дыхание Лили переходит в нечто неуправляемое. В нечто скачущее между тишайшим «Пых!» и звенящим «А-ах!». Это уже не отзвук и не эхо сладкой возни. (Которое так нравится нам обоим, когда нас никто не слышит. Так одуряет. Так пьянит.)
– Мне больно! Лёльк!.. Лёльк!
Кающийся Н. ожил внизу не на шутку. Кричит:
– Лёльк! Слышишь!.. Мы ведь приложили руку. Еще как! Если честно... Мы же провели тотальную дегероизацию. У нас нет Истории. Любое событие мы пересчитываем только на трупы. Даже выигранную войну! Сто тысяч трупов! Миллион! Сорок миллионов! Кто больше!.. Каждый трупак становится о десяти головах! Мы превратили Историю в свалку трупов...
Он выждал горестную паузу:
– Конечно, в этом – тоже мы. Лёльк! Крушить так крушить... Похоже, одни мы – такие. Крушить Историю! Крушить Бога! Нам милы только руины!.. Что за люди... Лёльк!
Мы молчим.
– Лёльк! Что теперь-то?.. Что и как теперь? Как нам вернуть чувство Истории?
Молчим.
– Без Истории мы белое пятно.
Его голос (без Истории) – и впрямь жалобный скулеж. Блеянье!
– Лёльк... Лёльк...
Нам не до него. Заткнулся бы.
– Лёльк! Что теперь?.. Мы ведь уже начинали с ноля. Мы сами... Мы ведь сами засрали – и как теперь самим написать гимн?
Нам не до него. Он может стенать, каяться... Лиля Сергеевна наращивает: «Ах-ааах! – и с новой силой: – Ах-аа-ааах!» А я, как завороженный ее животом. Я наткнулся на бархатистую гладь! Как с разбега. Этот сумасшедший живот!.. Мы оба с ней дышим, дышим... Серия совместных ахов-пыхов!.. Мы двое – и никого больше. Нам по барабану История. Пусть трупы. Пусть миллиард... И никакого гимна... Она забыла мужа. Я забыл луну. Нас двое.
Сквозь бой сердца я лишь просил:
– Потише... Лиля!.. Потише.
Но ее «Ах-ааах! Ах-ааах!» все звучнее... Женщина. Тут ведь не угадаешь. Тут уж как пойдет.
А бедный Н. совсем сбавил голос. Как бы ей в противоход. Там, внизу, он жалобно постанывал. Тихо страдал... Повторяя:
– Сами... Сами... И самим же писать гимн... Сами всё обнулили... А? Сами?.. Лёльк!
Лиля Сергеевна отвечает, но не ему. Она отвечает мне и моим движениям: «А-ааах. П-пых!..»
– Потише, – прошу я. – Лиля... Лиля.
Но Лиле уже не справиться с нарастающим дыханием. Ничего не поделать. Казалось, ее горло и ее легкие стреляют... Из леса... По опушке. Как на больших маневрах.
– А-ааах! Пых-пых!.. А-ааах! Пых-пых!..
Не знаю, как быть. Пытаюсь прикрыть ладонью ее страстно пышущий рот, но куда там! Страсть – как ярость.
– Лиля...
– А-ааах! А-ааах!..
Какие там маневры – это канонада. Бой... Пальба в упор... Бородино. Стоять! Прямой наводкой.
– А-ааах!.. Пых-пых!.. Пых-пых!.. Пых-пых!..
Батарея Раевского.
Как последнее средство я сам... Бросаюсь животом на ее живот – мы содрогаемся, и теперь молчание... Только затихающие стоны. И радость. И уставшая плоть... И дрожащие благодарные женские руки. И хватит стрельбы... Отдых.
А исстрадавшийся внизу Н. начинает рассказывать:
– Лёльк. Послушай... Хватит смотреть, как трахаются!.. Я к отцу заезжал. По дороге сюда... Лёльк!
Голос теплеет:
– Я к отцу заехал – и представь себе, Лёльк, что мой милый, милейший старик! Этот огуречик! Этот трудяга, этот все еще вкалывающий чеховский дядя Ваня! Представь себе!.. Этот дивный ласковый старый пердун – за прежний гимн! Да, да! Я чуть с ума не сошел! Отцу родному – не суметь объяснить! А ведь сколько их... Этих отцов! Представь себе эту гимническую аудиторию! Лёльк!.. Эти пенсионеры с выпадающей челюстью... Пьяндыги с грязными собачонками. Инсультники, держащиеся за копейку... Роющиеся в помойках... Старухи, трясущие башкой...
Мы отдыхали. А он нет. Он продолжал стенать:
– Эти скромные совки. Которые вот-вот... Зачем им гимн?.. Лёльк! Кончается их тяжелейшая, свинцовая, замордованная, гнусная жизнь, а они... А они хотят что-то славить!.. Почему?
Пожалуй, где-то здесь (в уже нисходящем потоке стенаний) во мне стала нарастать симпатия к этому завывающему внизу мужику. Странно! Необъяснимо... За его, что ли, прорвавшуюся боль. За надрыв души. (Или за то, что он обосновался там внизу и нам не мешает? Сидит себе в кресле. Цедит пивко. Молодец!..)
Но какие-то горькие его слова меня определенно достали. Именно слова. (Люди в наш век внушаемы.)
– Мне хотелось бы с ним немного поспорить, – говорю я вдруг Лиле.
Она тихо (с улыбкой) шепчет:
– В другой раз. Ладно?
Не понимает женщина... А старику хочется! Старику бы самое оно. Старики созданы, чтобы спорить. Чтобы упереться в какую-нибудь мысль. В мыслишку. Хоть в самую малую!.. Это и есть наш уход из жизни... Ворчать! Выматерить! А откушав, рыгнуть! И, конечно, спорить и спорить! Хоть до инфаркта.
Лиля мягко склонилась к моему боевому уху. К левому. Оно лучше слышит. «Старики, – шептала она, – пусть спорят. Но ты-то не старик! Ты – старый козел! Козел! Понимаешь?.. А козел должен...» Она сделала четкую паузу. Она подыскивала, чем бы заменить уже пошлое трахать и уже надоевшее дрючить. Колеблется... Знает, а колеблется. Приникла к самому моему уху: «Козел должен...», – тихим-тихим шепотом, но произнесла. Мягко и нежно. Но вслух... И дурашливо меня лизнула. Языком прямо в ухо. В перепонку. Лизнула и шепотом: «Понял?» Лизнула еще... И очень довольна!.. Шепчет, ластится, а в ухе моем звенит, торжествует великий глагол.
– Лёльк!..
Н. на спаде – он лишь сердито гремит бутылкой, гремит льдом в стакане. А смысл в игре покаянных звуков – водка со льдом. Чертыхнувшись, наливает себе сильной рукой. Надо думать, много. Звучные бульки в горле... По-отечественному опрокидывает в рот. До дна.
– Уууу-уух! – замечает Н. сам себе сурово.
«Ну уж теперь ему сюда никак... Не подняться. Точка», – шепчет мне Лиля Сергеевна. «А?..» – переспрашиваю. Она улыбается в полутьме: «Можно считать, что мы с ним в разных квартирах...»
Я понял. Соседи!.. Его стенания можно слушать, как соседские. Или не слушать. Мало ли что спьяну кричат через стенку. Да пусть обкричится!
Но на постель мы не рискнули.
Отдыхаем... Заслужили... Лиля Сергеевна лежит рядом, нагая и в мелком поту. В бисере. Она взяла мою ладонь и проводит ею по своему влажному телу там и здесь – дает почувствовать, какой жар мы задали друг другу после первого испуга. Да уж. Отмененный страх – чистый адреналин.
– Лёльк!..
Это опять он. Он все еще страдает. Зовет ее. Этот его покаянный бред!.. Надтреснутым голосом... Сколько же можно!
– Лёльк!.. В машине ехал... О гимне! Неотвязная мысль. И как раз почему-то по радио исполнили. А я ехал... Я вроде даже усмехнулся... Я не помню, были ли на шоссе встречные машины. Были ли фонари?.. Я даже не помню, крутил ли я руль. Только о гимне... Ты слышишь меня?
Тут я не выдерживаю. Жаль мужика.
«Лиля!» – с чувством я стискиваю ей руку. Я как бы подталкиваю ее. К разговору. Если не я – пусть она... Мы ведь отдыхаем... Ответь ему... Поговори с человеком. Ответь что-нибудь.
– Но что? – шепотом спрашивает она.
– Что-нибудь. Положительное. Поддержи человека...
– С ума сошел!
– А то я сам... Лиля!.. Не могу молчать... Он меня достал.
И как раз ее Н. притих. Как раз пауза. Удачно... Лиля решилась и пискнула:
– Папуля. Но ты же не вор. Ты же всегда сам говорил: главное, чтоб политик не вор...
Он произнес без вскрика:
– И это все?
Он даже сильнее надтреснул голос при повторе:
– И это все?
И тишина повисла. И только лед о стакан.
И мы тоже молчали. Ни Лиля, ни я не нашли, не знали, как продолжить.
Зато он сам, гоняя лед по стакану, заговорил:
– Быть может, мы оказались неспособны. Но почему? Быть может, бесталанны? Но почему?.. Талант митинговый не есть, к сожалению, талант созидательный, Лёлька!
– Да?
– Может, мы попросту бездарны... А «Марсельеза»! Вот оно. Ведь «Марсельеза» сочинена за ночь! За одну ночь! Лёльк!..
Лиля Сергеевна вдруг рассердилась:
– Все! Все!.. Я устала! – При столь откровенном «устала» Лиля грозит своим маленьким кулачком в сторону лестничного спуска (в сторону мужа): – ну сколько можно!.. Об одном и том же. Нет же сил!.. Он не уймется!
Затем она решительно приподымается и одним движением крепко, со страстью усаживается на меня.
Вот оно как!.. Я был отчасти застигнут врасплох. Но, конечно, поддался.
– Лё-оольк! – зовет он.
Она молчит. Она в деле. Она, я думаю, даже не слышит. Я тоже мало что соображаю. Моя физиология уже по-ночному подчинялась Лиле, а не мне. Мной управляли... Можно расслабиться.
Можно было слушать его монологи... Или просто смотреть в никуда. В темный потолок. Можно было даже слегка подремывать – она теперь все делала сама. (В пику стенаниям мужа.) В этом ему ответе был нацеленный смысл. Сама тружусь!
– Мы так хотели перемен. Но от перемен мы и перессорились... Мы завяли... Мы выдохлись – и гимн нам уже не написать! Не смогли!.. За нас все решили. За слабых. За бесталанных. Мы заслужили тот гимн, который есть... Ты слышишь? «Марсельеза» – за одну ночь! За одну! Лё-оольк!
А она уже раскачалась, не слышит.
– Лё-оольк!
Он вопит. Он вопит и зовет:
– Лёльк! «Марсельеза»!.. А?.. «Марсельеза»! Гимн... Гимн!
А она вся в движении, вся в полете, вся на мне. Ей хоть бы что! Ничего не слышит.
Уже в захлесте чувством она вдруг недовольно ему кричит. Как бы проснувшись:
– Какой еще гимн?!
– Какой, какой!.. – скорбный голос (снизу) укоряет ее. Сожалеет. – Обыкновенный гимн! Нормальный! Человеческий! Хвалебная песнь!.. Лёльк! Не помнишь, что такое гимн?!
Враскач, набирая ритм, она негромко постанывает:
– Как-не-пом-нить... Как-не-пом-нить... Как-не-пом-нить...
Вот – женщина! Вот смелость и вот страсть. Вулкан! Вот это скач!.. Я восхищен. Она написала бы им гимн. Она сотворила бы! За одну ночь! За час!..
А луна меж тем уходила за срез окна. Прощалась. (Я следил ее краешек.)
– Лёльк! Ну ты опять!.. Ну как не совестно!.. По какой программе эти стоны? Я хоть отвлекусь... Что ж ты одна кайф ловишь! Лестницу я уже не осилю... Ты только скажи программу – по какой?
Но Лиля смолкла... Тем слышнее кач ее изящного тела. Бедра стискивают меня. Пружинят... Она набирает скорость. У нее уже крылья! Вот-вот и она с меня улетит. К птицам. В лунные небеса... Бросит меня здесь.
– Лёльк! Все кнопки перещелкал... Это, между прочим, твоя вина! Это ведь ты нижний телевизор испортила! Помню! Отлично помню! С антенной. Ковырялась – и сбила настрой. Потеряла, я уверен, несколько программ!
Он терзает свой телевизор. Сколько он ни щелкай кнопками... То голоса. То писк... Но того, что у нас, ему не найти. Во всяком случае, не этой ночью.
И тогда он вновь впадает в страдание и вопит:
– Нич-чего!.. Нич-чего не сумели! Это в нас хуже всего... Мы не сумели!.. Ах, Лёлька, Лёлька, мы сами себе противны!
Его вопли меня достали... Этот мужик (честный, не вор!) не должен сдаваться. Не должен опускать руки. Нет и нет!.. Я ужасно распалился. Я не хотел бы приплясывать ни на чьих поминках. Тем более сегодня, когда все поносят демократов. Когда всякий жлоб мешает их с дерьмом... Я был готов стать в их редеющие ряды... Сейчас же... Сию минуту... Я ведь тоже внушаем. (Но ненадолго. Импульс!.. На минуту-две.)
Но только пусть прекратит вопли. Страдалец отыскался! Мудак, ей– богу. Мне хотелось с ним спорить. Я готов был спуститься вниз... Сейчас же!.. Спорить. Возражать. (Я сел. Ощупью искал трусы. На полу...) Я все ему выскажу. Он должен знать мнение рядового.
Лиля схватила меня за руки.
– Да ты действительно с ума сошел! Ты спятил!.. Не о чем вам спорить!
Лиля вся в поту. Еще не остывшая. (Как прохладен пот.) Она опять навалилась на меня. Держит. Ее можно понять. Это же нечто... Сбрендивший старикашка! Голый! И рвется вниз!
Мне, видно, ударило в голову. Однако смирился... Притих. (И все же как я ему сочувствовал!)
– Лежи. Лежи, – успокаивала меня Лиля.
А снизу!.. А снизу опять неслось про гимн. Можно было свихнуться!.. Лилю била мелкая дрожь.
– Нич-чего не смогли... Даже такого говна, как куплеты. Даже припев! И музыки не смогли... Давай, мол, дедушку Глинку!.. Как-кое мы говно!
Он уже не кричал – ревел! Его там сотрясало... Я сочувствовал... Человек каялся... Но что я мог поделать, если в эту самую минуту я опять был на его жене. Вернее, она на мне. И держит... Еще как держит!
А крик стал пронзительным:
– Это ложь! Ложь! Я лгу сам на себя – я люблю этот народ! Люблю!
Страданье рвалось:
– Ничч-чего! Нич-чего не удалось!.. Слышишь, Лёлька, – ни-че-го! Счастливчики, у кого инфаркт. Счастливчики, кого застрелили у подъезда... Сколько было замыслов! Зачем? зачем Бог дает человеку дожить до краха?!
Каялся... Его боль услышали теперь даже стены. Даже лестница, по которой ему не подняться. Даже Лиля.
Лиля всхлипнула. Я ее обнял... Лиля Сергеевна вдруг сползает с меня в сторону... В уходящей (за край окна) лунной подсветке я вижу, как дрожат ее губы. Лиле его жаль. Ей жаль его. Жена!.. Он и ее достал.
Мне приходит в голову диковатая мысль – это не я, это она кинется сейчас к нему. По ступенькам вниз. Почему бы и нет?.. Станет его успокаивать. Утешать... Вдвоем им не до меня. Лучшее средство! Им будет отлично!.. Они меня здесь забудут. (А я, конечно, усну. Что еще делать?..) И только поутру картинка – они оба поднимутся сюда. В обнимку. Примирившиеся. Поднимутся ступенька за ступенькой... А на полу, закутавшись в их любимое теплое одеяло, посапывает неведомый голый старикашка. Бомж... Бродяжка. Переночевать к ним забрался.
Я шепчу ей:
«Скажи ему, что всё не зря. Скажи, что не впустую. Лиля... Скажи, что им удалось развернуть целый народ... Огромный народ... Наш народ... Шли к катастрофе».
Лиля Сергеевна, сбиваясь, все же согласно повторяет за мной:
– Удалось... Костя!.. Удалось развернуть целый народ... Народ! Костя!
– А? – вскрикивает он.
Я только и хотел внушить политику-профессионалу сколько-то радости. Пусть знает!
Это удивительно, как меня разобрало. Это как зуд. Даже трясло от нетерпения... Меня на миг так и втянуло! Засосало, как в воронку.
«Момент был критический... Народ шел к пропасти...» – по-боевому, с жаром зашептал я ей.




