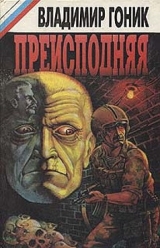
Текст книги "Преисподняя"
Автор книги: Владимир Гоник
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
3
Церковь Успения Богоматери на Городке была заметна ещё от станции. Издали открывались заливные луга, речные отмели, крыши и палисадники Посада и холмы на излёте взгляда, поросшие высокими корабельными соснами, над которыми высился светлый шлем Успенского собора, и горел в ясной солнечной высоте золотой крест.
Каждую неделю Ключников приезжал домой на побывку. Тёмный деревянный родительский дом стоял над глубоким оврагом, внизу с кротким плеском бежал застенчивый безымянный ручей. В изрезах увалов ручей умолкал и стоял неслышно в мелких прозрачных заводях, где стеблистая подводная трава плавно колыхалась в невидимом течении воды.
За домами лежала маленькая горная страна, по склонам холмов и оврагов живо петляли вверх-вниз бойкие тропинки, длинные тягучие изволоки сонно тащились в глубину леса.
Сергей любил шастать по округе, время от времени ему взбредало в голову сбегать без дела в затерянное среди лесной глуши Дютьково или в раскинувшуюся привольно в долине Саввинскую Слободу. Чтобы попасть туда, нужно было покружить по холмам и оврагам, перейти узкие бревенчатые мостки над ледяной незамерзающей речкой Сторожкой, которую старожилы называли Разводней. Поговаривали, что в её верховьях водятся бобры; зайцев Ключников встречал не раз.
Он любил бродить по валам древних княжеских укреплений, где на склоне стоял колодец со студёной водой, от которой в знойный день ныли зубы. С высоты Городка распахивалась неоглядная даль, над деревьями поднимались монастырские купола, и река плавно кружила среди лесов и лугов, как широкое светлое полотно, брошенное в траву.
Странное дело: уж казалось бы, давно все исхожено, с рождения знакомо, но всякий раз мнилась здесь некая загадка и тянуло, тянуло неудержимо, а уедешь, так и вовсе невмоготу.
Особенно остро Звенигород вспоминался в Афганистане, когда Ключников сидел в засаде. Группу посылали в горы на перехват каравана, день-два-три, а то и неделю они таились в укрытии над горной тропой и ни куревом, ни звуком, ни лишним движением нельзя было выдать своего присутствия.
Караван обычно сопровождали самые искусные стрелки, в темноте они стреляли на звук с обеих рук без промаха. Моджахеды знали все горные тропы, уступы, карнизы, пещеры, а там, где не было троп, они устраивали на отвесной стене овринги – плетённые висячие тропы из лозы, подвешенные на вколоченных в трещины кольях.
Выдать себя в горах ничего не стоило. Моджахеды обладали острым слухом и зрением, хорошо видели в темноте, а некоторые имели нюх сродни собачьему, и бывало, подует встречный ветерок, они тотчас учуют запах неверных.
Даже добраться до места стоило огромного труда, без особой выучки никому не под силу. Марш-бросок по горам с полной выкладкой в темноте – ночь напролёт без привалов, беглый шаг, а командир поторапливает – быстрей, быстрей! – кровь из носа надо успеть затемно, иначе операция сорвана и самим головы не сносить. И вот уже нечем дышать, пот заливает глаза, груз давит к земле – оружие, харч, гранаты, запасные магазины – все на себе, в группе два ручника[5]5
ручные пулемёты
[Закрыть], медицинская сумка, альпинистское снаряжение – неподъёмная ноша, все на себе, не видно ни зги, а дорога такая, что одно неверное движение, и тебя никто не найдёт, кроме шакалов и орлов-стервятников, поэтому кое-где идут в связке, темень кромешная, глаз выколи, но идёшь, идёшь из последних сил, чтобы успеть до рассвета.
И если повезло, доберёшься без приключений и ждёшь, ждёшь, весь внимание, нервы напряжены, днём нет спасения от жары, солнце припекает, мозги плавятся, ночью замерзаешь – горы, мороз, но ждёшь, потому что другого не дано.
В такие минуты он вспоминал Звенигород, знакомые с детства места, и тугая смертельная тоска неизлечимо саднила в груди, будто сунули туда штык и забыли.
На перехвате каравана в горах пленных, как правило, не брали, если на то не было особого приказа. Ударяли разом по каравану из всех стволов и били без остановки, пока не замирало все, и даже малого движения было не заметить.
И как же гнусно, как отвратно было на душе потом: все эти люди, лежащие в разных позах, там, где их настигла смерть, могли жить, как жили прежде, если бы он сюда не пришёл.
…Галя встречала его на станции. Он позвонил домой из Термеза и добирался на перекладных. Она не знала, какой электричкой он приедет, и поджидала его с утра.
Когда Ключников увидел её, он не поверил глазам: не могло быть, чтобы после двух лет отсутствия встретить на дороге ту, по которой иссохся весь. Он решил, что она по своей надобности едет в Москву и ждёт электричку. Но она ждала его, забежала накануне к родителям и день провела на станции, встречая подряд все электрички из Москвы.
Они не виделись два года и без раздумий отправились в санаторий, где Галя работала медсестрой, сменщица пустила их в пустующую палату.
Дома за накрытым столом томились гости, исходили слюной, курцы толклись на крыльце, поглядывали на улицу и на своё отражение в бочке с дождевой водой.
Сергей и Галя пришли вместе, когда гости заждались и уже не надеялись: началось позднее застолье, Галя сидела рядом за столом как законная жена – мать изревновалась.
Они сошлись ещё в школе, в десятом классе, Галя жила по соседству в таком же старом срубе под железной крашенной крышей. Они легли в Новый год, уснули вместе под утро, а когда проснулись, все уже знали, вся родня, Звенигород – город маленький.
Сойдясь, они уже не смотрели по сторонам, – ни он, ни она. Их повсюду видели вместе и даже на тренировках по борьбе в местном «Спартаке», куда он ходил по вечерам три раза в неделю, она ожидала его – летом на улице, зимой в холле у входа в раздевалку.
Сергей успел сдать экзамены в институт и проучился немного, потом его призвали в армию – тогда студентов брали – и послали в десантные войска.
Как она его ждала! С его отъездом, точно штору задёрнули в светлой комнате, день превратился в сумерки. Галя даже на танцы перестала ходить, подруги решили, что она заболела. С её внешностью странно было хранить такую верность: стройная блондинка на хороших ногах, чистая гладкая кожа, которая, казалось, светится в темноте, и Сергей изнывал два года, вспоминая подробности свиданий.
Он вспоминал её тело, минуты страсти, вожделение изнуряло его, хотя с чего, казалось бы: их часть, как всю сороковую армию в Афганистане, держали впроголодь.
«Зачем я здесь?» – думал он, озирая иссушенную солнцем землю, каменистое нагорье, за которым поднимались горы. И почти неизбежно вспоминался Звенигород, сочная зелень окрестных лесов, церкви на холмах, их яркая белизна на солнце среди деревьев.
Для встреч они облюбовали сенной сарай на задворках дома, в котором жила Галя. Сена в нём давно не держали, но старое дерево помнило его запах
– впитало когда-то и теперь источало помалу: тонкий сенной запах смешивался с запахом сухого дерева.
Они устраивались на полатях, в сарае был помост, куда забираться надо было по приставной лестнице.
Под скошенной кровлей висели пучки целебных трав и связки кореньев, которые собирала бабушка Гали. Тесное сумрачное пространство было пропитано запахами. Пахло смолистым бальзамом берёзовых почек, чередой, хмелем, полевым хвощем, горицветом, пижмой, дягилем, чемерицей, кипреем, но сильнее всего и приятнее пах узколистный с маленькими красно-синими цветочками чабрец; когда крыша накалялась на солнце, воздух в сарае густел, настоянный на травах, и становился вязким, как сироп.
От запахов кружилась голова, и казалось, сарай, наполненный травяным духом, как горячим воздухом воздушный шар, тихо отрывается от земли и, покачиваясь, бесшумно плывёт над оврагами, ручьями, покатыми косогорами, над вершинами холмов и церковными куполами.
В сумрачной, пропахшей травами укромной тесноте было уютно, и какое-то время они молчали и не двигались, как бы не веря, что уединились наконец. Потом они обменивались поцелуями и долго, медленно раздевались, чтобы растянуть ожидание, разглядывали друг друга, прежде чем прикоснуться.
Без одежды Галя выглядела почти невесомой. Кожа её светилась в полумраке, и могло сдаться, впрямь излучает свет. Иногда ему мнилось, Гали нет рядом, это память его кажет её, как случалось с ним на войне, но прикосновение возвращало её: она была здесь, с ним, ждала его и звала.
Из армии Ключников вернулся весной, с осени снова пошёл в институт. Пока он служил, Галя закончила медицинское училище и теперь работала медсестрой. Чтобы не мотаться каждый день по электричкам, Сергей поселился в общежитии, выходные проводил дома. В субботу собиралась вся семья: мать
– бухгалтер в соседнем финансовом техникуме, отец – мастер на фабрике игрушек и трое детей; младшие брат и сестра учились в школе. Мать всегда имела озабоченный вид, её одолевали мысли, как прокормить семью; если б не огород, ни за что не прожить бы.
Галя удивляла всех своим здравомыслием. Она была тихая, домашняя, рассудительная, с ней было спокойно и надёжно, как с преданной женой.
Они никогда не говорили о женитьбе, но само собой разумелось, без слов. Все, кто знал их, полагали, что это уже решено, о лучшей жене и мечтать нельзя было, понятно было, что кроме него ей никто не нужен. С ней он испытывал покой – никаких неожиданностей, все прочно, устойчиво, надёжно, как в мирном устроенном доме; ощущение благоразумия и рассудительности исходило от неё неизменно.
Сколько Ключников помнил себя, семья жила скудно. Особенно это стало заметно с тех пор, как он пошёл в институт. Иные студенты не задумываясь тратили суммы, превышающие бюджет его семьи, некоторые ездили на своих машинах и одевались, как кому вздумается, во всяком случае, мало кто так трясся над каждой копейкой.
Нет, он не завидовал, но поневоле заскучаешь, если не снимая таскаешь одни и те же джинсы и один свитер, а единственная твоя куртка подбита рыбьим мехом. И жмёшься, жмёшься в столовой, в магазине, кроишь-выкраиваешь и даже мечтать не можешь о сносной еде или одежде. Как говорится, со свиным рылом да в калачный ряд.
…было тихо. Отряд не двигался, все смотрели в просвет тоннеля, с пристрастием ощупывали взглядами каждый предмет.
Разумеется, отключиться сама по себе вентиляция не могла. Вентиляторы включались как в самой шахте, на месте, так и с пульта в центральной диспетчерской. И одно из двух: либо вентиляцию отключил диспетчер, либо… Сам собой напрашивался вывод: в шахте кто-то есть.
Все напряжённо вслушивались в окружающее пространство, было похоже, они с головой окунулись в тишину, как в тяжёлую жидкость, заполнившую тоннель. Непроницаемое беззвучие царило здесь, и пока они прислушивались, ни звука не было вокруг – рядом и вдали. Если и был здесь кто-то, то замер, затаился и ни звуком, ни шевелением не выдал своего присутствия. Могло сдаться, на земле вообще исчезли звуки, и теперь все обречены на беззвучие – отныне и впредь.
Першин отдал приказ, разведка тронулась с места. Теперь они двигались иначе, чем раньше: пятёрки попеременно выдвигались вперёд, пока одна группа находилась в движении, другая прикрывала её, держа тоннель под прицелом.
…после выписки Лиза встретила его на чёрной машине, за рулём сидел солдат.
– Куда мы едем? – поинтересовался Першин, но Лиза не ответила, и он охотно умолк, положившись на неё. Славно, когда о тебе пекутся: куда надо – доставят, когда надо – накормят, что надо – дадут. Просто, как в армии – радуйся, повезло!
Она и впредь лучше знала, чего он хочет, по крайней мере, лучше, чем он; если ему нужно было узнать своё мнение, он спрашивал у неё.
Они выехали на автостраду, ведущую в Домодедово, за кольцевой дорогой свернули на старое Каширское шоссе. Першин обратил внимание на посты автоинспекции, отслеживающие машину на каждом перекрёстке. Машина пересекла узкий мост через реку, въехала на эстакаду и помчалась по пустынной дороге, рассекающей поля и лес.
Дорога привела их в лесную глушь. На контрольном пункте в лесу охранник проверил пропуск, записал номер машины, нажал кнопку, и ворота открылись. Покружив по плавно петляющей асфальтированной дороге, машина подъехала к большому, облицованному светло-серым известняком зданию, построенному в виде пропеллера из трех лопастей или огромного фирменного знака автомобиля «мерседес».
Место называлось Бор. В здании Першин на всех этажах увидел роскошные холлы, дорогую мебель, свисающие виноградными гроздьями люстры, плещущие фонтаны, толстые узорчатые ковры… Тут же располагались теннисные корты, бассейн, спортивный зал с тренажёрами, сауна, массажные кабинеты.
Лиза поселила Першина в отдельный номер, круглый год принадлежавший их семье, роскошный номер из двух больших комнат – гостиной с мягкой мебелью и спальни с широкой, как поле, кроватью.
– Ну и кровать! – воскликнул Андрей, разглядывая диковинное ложе с гнутой, как виолончель, спинкой, обитой ярким цветастым стёганым шёлком.
Кровать была так велика, что даже двоим ничего не стоило в ней потеряться: лечь и не найти друг друга.
– Как-то даже страшновато, – оробел Першин. – Одному в такой кровати…
– Ещё чего! – с вызовом дёрнула плечом Лиза. – Даже не надейся! Неужели я оставлю своего больного без присмотра? Хороша я буду врач!
Он понял, что сопротивление бесполезно, пора сдаваться, всё равно она настоит на своём: не в её правилах было отказываться от того, что она задумала, не для того она привезла его в Бор.
Это был маленький, затерянный в лесу посёлок на берегу реки. Одна гладкая пустынная охраняемая дорога вела сюда от шоссе. Дремотная тишина висела над лесными холмами и оврагами, и только в непогоду её нарушал шум деревьев, да изредка гул пролетающих самолётов прокатывался из края в край над безлюдным пространством. Настоенный на тишине и лесных зарослях воздух был так чист и прозрачен, что у приезжего с непривычки кружилась голова. Воздух Бора, как средневековый бальзам, клонил в вещие сны, изгонял бесов, открывал способность к ясновидению и рождал озарения свыше. Правда, обитателям Бора редкий воздух не шёл впрок, они не становились умнее, благороднее, чище, волшебный воздух приносил им мелкую пользу, как чернослив или свёкла приносят пользу пищеварению. Нет, Бор не шёл впрок своим обитателям, как не идёт впрок всё, что добыто неправедно.
По России много таких мест укрыто от чужих глаз. Это были те самые таинственные закрома Родины, куда отовсюду свозили все лучшее, что водилось на свете и рожала земля. На особых фермах растили особый скот, в особых прудах разводили особую рыбу, особые поля давали особые урожаи, и особые плоды росли в особых садах.
О да, постояльцы пансионата знали толк, как должна быть устроена жизнь, и похоже, вся страна для того и трудилась – недоедала, корячилась натужно, чтобы они ни в чём не знали нехватки и отказа.
В пансионате предугадывали малейшие желания постояльца. Он даже мог пригласить гостей без счета, сколько вздумается, всех обязаны были накормить и обласкать; при желании постоялец оставлял гостей ночевать.
Это было очень удобно для тех, кто имел любовниц: никто не спрашивал документов, не докучал расспросами, не домогался узнать, кем приходится женщина и кому.
Вышколенный услужливый персонал делал жизнь в пансионате удобной и лёгкой. Безмолвная челядь исправно служила круглые сутки, оставаясь незаметной, и готова была предстать пред очи по первому зову. Челядь понимала манеры и обхождение, хорошо знала своё место, но главное, помалкивала; умение держать язык за зубами ценилось здесь превыше всего: сведения о пансионате персонал обязан был хранить, как государственную тайну.
Между тем пансионат Бор на самом деле был государственной тайной. Как, впрочем, и другие подобные пансионаты: «Сосны», «Лесные дали» и прочие, прочие…
Пансионат скрывали, как важный военный объект, дороги к нему были закрыты, каждая машина имела пропуск, номера всех машин заносили в специальный журнал. Контрольно-пропускные пункты, глухие заборы и сигнализация стерегли лес, как зеницу ока. Служба безопасности бдительно охраняла все входы и выходы, держала под присмотром каждую щель и окрестности, патрули прочёсывали местность день и ночь.
Обитатели пансионата жили спокойно, уверенные в своей безопасности. Сказочный воздух, как отмечалось, не шёл им впрок и не способствовал развитию ума и таланта, они по-прежнему не понимали, что происходит за забором, что творится вокруг, куда клонится жизнь, – не понимали и не хотели понимать.
Всех, кто их кормил и содержал, они определили в быдло, в рабочий скот, необходимый для их благополучного существования, они презирали эту безликую массу, от имени которой они управляли страной, – презирали, не подозревая, что сами они – всего лишь унылая бездарная саранча, способная все пожрать.
Обслуживающий персонал жил в полукилометре от самого пансионата в отдельном посёлке из десяти больших домов. Разумеется, челяди перепадало кое-что из того, чем владела номенклатура. Челядь подкармливали, чтобы служила верно – не за страх, за совесть. Она была надёжно защищена от невзгод, в которых прозябало прочее население: все, кто обитал в посёлке, не знали житейских забот.
Это было райское место, изолированное от остального мира, заповедник, остров счастья, сказочная земля, мечта, осуществлённая наяву. Это был особый лагерь, зона наоборот, где зэки имели все, о чём можно мечтать. И все же это была зона, загон, окружённый ненавистью голодных.
Челядь, как водится, ненавидела тех, кому служила. Ненависть рождалась из зависти – челядь, как никто, знает, чем владеют хозяева, она ненавидела их за то, что вынуждена им служить, и мечтала оказаться на их месте.
Время в пансионате текло неторопливо и безмятежно. По вечерам чёрные лимузины привозили начальников из Москвы, утром приезжали за ними, чтобы отвезти на работу. Постоянно в пансионате жили преимущественно домочадцы – жены, дети, бабушки с внуками… Подрастая, юная поросль постигала законы стаи: с кем знаться, откуда дует ветер, как повернуться… В неторопливых прогулках по аллеям, в бассейне, на теннисных кортах, в сауне решались судьбы: устраивались карьеры, слаживались браки, готовились награды и назначения.
Вести о том, что происходит за забором, долетали сюда, как будто из немыслимой дали. Нет, в каждом номере, у каждого постояльца исправно работал телевизор, библиотека получала множество газет, но это как бы не имело отношения к жизни пансионата. Да, в мире что-то происходило, но это было где-то далеко, на другой планете, в другом измерении. Люди за забором были для обитателей Бора, как муравьи, которые копошатся в своих муравейниках, без них нельзя обойтись, но лучше о них не знать, не думать; пусть приносят пользу и не мешают жить.
Непоколебимая тишина владела Бором изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, и понятно было: так есть, так и останется впредь.
Пансионат знал лишь одно исчисление времени: от еды до еды. А какая там была кухня! Меню напоминало грёзы чревоугодника. Чем беднее и голоднее жила страна, тем вкуснее и обильнее кормили в Бору, потому что полнота счастья познаётся в сравнении: настоящую радость приносит лишь то, что есть у тебя и нет у других.
Любитель поесть, Першин вспоминал изредка, как его кормили в Бору, однако чаще он вспоминал Бор совсем по другой причине: лес там был утыкан вентиляционными шахтами.
Тоннель, соединяющий Москву с аэропортом Домодедово, имел ответвления в Бор, где под землёй был устроен запасной командный пункт. Бункер соединялся с пансионатом, мощная система жизнеобеспечения держалась в постоянной готовности, обширные продуктовые склады регулярно обновлялись.
В случае нужды тоннель можно было использовать для скрытой эвакуации номенклатуры из Москвы: в пансионате удобно было переждать тяготы и превратности смутного времени – войну, бунт, чуму, холеру…
Бетонные стволы шахт сверху прикрывали четырехскатные навесы из белого оцинкованного железа, доступ в шахту закрывали решётки с люками, вниз вели крутые металлические лестницы.
Под землёй шахты соединялись горизонтальными ходами, по которым тянулись пучки труб, укутанные толстыми чехлами тепловой изоляции. При желании можно было под землёй уйти из пансионата и выбраться на поверхность далеко в лесу.
Близость аэропорта Домодедово была удобна для срочного бегства. Однако на этот случай была продумана и другая возможность: в деревне Астафьево, неподалёку от Бора, где находилось подсобное хозяйство пансионата, – фермы, поля и парники, был построен тайный аэродром – бетонная полоса, замаскированная деревьями и кустами.
Нескончаемые тоннели, огромный бункер и подземные склады были рассчитаны на длительное пользование, сам пансионат был построен как секретный объект, скрытый в лесу от чужих глаз. Ни одна дорога не была здесь прямой, чтобы не открывать обзор и перспективу, дороги кружили плавно и просматривались в лесу лишь на короткое расстояние – от поворота к повороту. И хотя пансионат располагался на холме, его нельзя было заметить ни с одной точки окрестностей: здание было опущено в широкий кратер посреди холма, густой лес закрывал его со всех сторон.
Все плоскости – крыши здания и пристроек были удобны для посадки вертолётов, однако постояльцы никогда не думали о бегстве. Жизнь пансионата казалась им незыблемой – на века. Страна воевала, они понятия не имели, что такое война, как, впрочем, и обо всём остальном: не знали, не ведали.
Им невдомёк было, что такое жизнь впроголодь, как стоят в очередях, где добывать еду, одежду и прочее, прочее, без чего нельзя обойтись. Они были надёжно ограждены от забот, от всего, что обременяет жизнь.
Сытые, довольные, уверенные в себе, они наслаждались существованием и были прочно отрезаны от окружающего мира; их не касались горести и невзгоды, которые одолевают всех нас, и казалось, обитатели пансионата не подвластны случайностям и несчастьям, не подвержены стихийным бедствиям, превратностям судьбы, даже самому времени.
Это был заповедник безмятежности, довольства и покоя, остров счастья в море бед. Жизнь в Бору так разительно отличалась от всего, что творилось вокруг, что Першина то и дело брала оторопь и, ошеломлённый, он подозрительно и недоверчиво озирался.
Ну, не могло такого быть, не могло! Чтобы гигантская немазанная телега государства так немилосердно скрипела, кренилась, едва ковыляла по ухабам, плелась кое-как, вкривь и вкось, через пень-колоду и вот-вот готова была рухнуть, рассыпаться на куски, и в то же время такая тишь, покой, сладкий сон. Что-то странное заключалось в существовании Бора, некий абсурд, причуда больной фантазии, извращённое воображение. Как, например, в том, что в проливной дождь по аллеям пансионата разъезжала поливальная машина и тугими струями хлестала асфальт.
Поразительно было отсутствие в пансионате наглядной агитации. Здесь не стояли стенды, не висели плакаты и транспаранты – ни один лозунг днём с огнём нельзя было сыскать. Понятно, это требовалось там, за оградой, для других, кого следовало понукать и куда-то вести – в даль, к химерам. А здесь, что ж, для себя это было ни к чему, лишние хлопоты, пустая затея.
Никакие перемены в стране не задевали Бора. Менялись вожди, правительства, конституции, сама коммунистическая партия рухнула, как гнилое дерево в непогоду под ветром, – в Бору ничего не менялось. Все так же точно в срок подъезжали продуктовые фургоны с разносолами, все так же тихие услужливые горничные каждые три дня перестилали хрустящее свежее бельё, все так же бдила охрана, так же стригли газон, и все так же изобретательные повара угождали на любой вкус. И все так же сверкающие лимузины привозили и увозили сытых уверенных людей.
…Вход в шахту они обложили двумя группами. Решётка в нарушение инструкции была открыта: то ли кто-то открыл её, то ли обычное разгильдяйство – не закрыли при последнем осмотре.
На высоте человеческого роста в боковой стене зияло большое чёрное отверстие, устье воздушного канала. Добраться туда можно было по железному трапу и мостику, Першин взял с собой проводника и одну из пятёрок, вторая пятёрка осталась внизу и рассредоточилась, охраняя подступы.
Стараясь не шуметь, они забрались в канал, крались, пригнувшись, выставив автоматы перед собой. Света в канале не было, пришлось включить ручные фонари: яркие лучи осветили грязный бетонный пол, округлые своды, голые в разводах и потёках стены и какие-то трубы, вентили, муфты, задвижки, редукторы…
Сильные фонари с трудом пробивали кромешный мрак. В глубине канала обнаружились герметичные двери с ручным и гидравлическим приводом, в случае нужды они отрезали поступление воздуха с поверхности.
Система запоров в метро была хорошо продумана: все шахты, коллекторы и станции могли быть мгновенно изолированы, в каждом тоннеле стояли огромные герметичные ворота, способные наглухо его перекрыть, станционные переходы имели особые металлические задвижки с резиновыми прокладками, чтобы отрезать одну часть станции от другой.
Канал уходил далеко в сторону от тоннеля, конца не было. Вздумай кто-нибудь атаковать их, в канале было как нельзя удобно: горящие в темноте фонари – отличная мишень.
Канал привёл их в закрытую, похожую на бетонный мешок, камеру, и казалось, все, тупик, дальше нет пути. Першин поводил фонарём и неожиданно увидел неприметную железную дверь, за которой посвистывал ветер. Проводник не успел предупредить, Першин рванул дверь и ужаснулся: под ногами открылась пустота.








