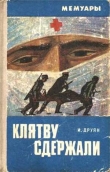Текст книги "Залив в тумане"
Автор книги: Владимир Беляев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
8. ДОКТОР ИННОКЕНТЬЕВ
Обычно бывает так, что доктор, спасший вам жизнь, кажется вам милее и умнее всех других докторов, он один в вашем представлении воплощает весь опыт и всю мудрость медицины. Так и в сознание Симаченко, заслоняя своим существованием всех остальных докторов, Иннокентьев вошёл как главный спаситель. Когда по утрам на обходе он приближался к койке Симаченко, внимательно читал температурный листок, наклонялся к повязкам и нюхал, не пахнут ли раны, когда жёстким и властным голосом он давал указания дежурной сестре, Симаченко в такие минуты верил ему безраздельно.
Как и все люди, которые овладели русским языком не с детства, а изучили его значительно позже, притом, видимо, с большим трудом и упрямством, Иннокентьев говорил очень твердо, стараясь выговаривать каждую букву, и поэтому все его фразы приобретали необычайно строгий, суровый оттенок. Но следя за доктором, Симаченко понимал, что у доктора доброе, хорошее сердце, и готов был слушать всё, что рассказывала о нём Вишнякова.
Ещё в 1930 году Иннокентьев учительствовал в одном из сел Бурят-Монголии, в ста километрах от Иркутска. Комсомолец-национал, он не думал вовсе о том, что будет когда-нибудь хирургом. Потом его внезапно вызвали в Москву в Наркомпрос, и предложили поучиться самому.
– Выбирайте, куда хотите, – предложили Иннокентьеву и дали ему список московских вузов. Он долго перечитывал их названия, расположенные по алфавиту, и потом остановился на Московском медицинском институте.
– Вот сюда хочу, – сказал он коротко и бесповоротно сотруднику Наркомпроса. Какие стремления увлекли Иннокентьева стать медиком, сказать трудно, но вернее всего, желание помочь своей республике.
У бурят-монгола Иннокентьева была одна простая мечта – окончить институт, стать доктором и поехать лечить своих земляков. Даже когда после четвертого курса института его перевели в Военно-медицинскую академию в Ленинград, зная, что отныне он будет только военным врачом, Иннокентьев не покидал мысли о возвращении на родину. В то время в Улан-Уде формировались бурят-монгольские национальные части.
«Поеду туда, буду полковым врачом, буду лечить своих земляков-кавалеристов», – думал Иннокентьев. Велико было его удивление, когда вместо направления в Улан-Уде, он получил приказ об оставлении при Академии.
Раньше Иннокентьев думал, что его не знают, что он мало чем отличается от многих других выпускников Академии, а вот, оказывается, что большой хирург, у которого он занимался, заметил способного, вдумчивого курсанта Академии, запомнил его тонкие, но сильные руки, будто от рождения предназначенные быть руками хирурга, и решил оставить его и дальше при себе. Профессора Академии короткими, будто случайно оброненными фразами во время операций, учили Иннокентьева искусству хирургии.
«Сперва я мальчиком ходил возле них, – вспоминая те времена своей врачебной юности, рассказывал иногда врачам медсанбата Иннокентьев, – они меня, как щенка, выучивали».
А потом постепенно, потихоньку стал он делать операции сам, сначала лёгонькие, обычные апендициты, потом грыжи, а дальше и сложные полостные операции.
Полостная хирургия окончательно увлекла молодого хирурга, и он принёс с собою это увлечение на войну. Как и многие другие хирурги Карельского фронта, он выехал на войну из Ленинграда с автохирургическим отрядом. Они поспели в Карелию во время самых тяжёлых боев.
«– Вы помните, – сказала Вишнякова, – мы встретились с вами первый раз на причале Мурманска. А потом меня на санитарном поезде перебросили южнее, и попала я как раз в этот самый отряд к Иннокентьеву. А вы знаете, какие там бои в первые недели войны были? Мне ещё сейчас они всё время снятся. Я кричу, пищу по ночам, а сестрички меня будят. Один раз даже на пол слетела, а пол у нас в землянке холодный, глиняный, сразу и проснулась... Мы, сестры, в те дни прямо с ног падали. Бомбёжка за бомбёжкой, и раненых пропасть. А тут немцы и финны прут. Иннокентьев прямо высох весь, он и так смуглый, а тогда был, как мумия, худой и чёрный. Часть отряда уехала, часть осталась с нами, и наш Иннокентьев с нами. А финны прут и прут, и надо уже санитарам медсанбата самим раненых с поля боя выносить. Лесок был перед нами. Бойцы, что охраняли наш медсанбат, его подожгли, чтобы лучше были подступы простреливать. А там на фланге ещё раненые. Санитары бросаются за ними, а финны им под ноги очередь из автоматов. Те ползком, ползком, вытащили. Вдруг смотрим, из горящего леса человек выходит обгорелый весь, штаны, гимнастёрка его дымятся, сам шатается, а его уже финны догоняют. Не уйти ему никак, а видно – к нам он рвется. Иннокентьев взял с собою санитара – и в машину. Подъехали только они на машине к обгорелому человеку, откуда ни возьмись «Мессершмитт». Ка-а-ак перейдёт в пике и по машине из пулеметов. Мы, девчонки, глаза руками закрыли. А они тем временем – Иннокентьев и санитар – подхватили раненого и на машине назад. Человек, которого они вывезли, был старший лейтенант пограничник Алехнович. Очень храбрый пограничник. Вылечился и теперь снова где-то воюет.

«И вот, знаете, чуть стало полегче, перебрасывают Иннокентьева на этот участок фронта, ну, сюда, где вы сейчас лежите. Услышали мы, что он уезжает, грустно нам стало очень, как-никак вместе воевать начали, да и человек он хороший, хотя и больно строгий с виду.
«Собрались мы, девчонки, сестры медицинские, и думаем: надо проводить его как-нибудь так, по-человечески. У Легошиной (была такая у нас сестра госпитального взвода, сама из Любани) бутылка мадеры в сундучке хранилась. Вытащила она эту бутылку мадеры, мы на время банки, что больным ставят, утащили, помыли их, застелили столик покрывалом, чистоту в землянке навели, идём звать его, а сами думаем: «А вдруг откажется? Все-таки он военврач второго ранга, а мы что – девчонки».
«Подходим к нему, говорим: «Мы бы хотели с вами попрощаться. Уделите нам полчаса».
«Пришёл он к нам в комнату. Я разлила мадеру, мы выпили, побеседовали, прилично так, а потом Легошина вдруг и говорит: «Товарищ военврач, только не подумайте ничего дурного. Мы бы хотели вас поцеловать на дорогу и пожелать вам счастья!» Он смутился немного, а потом засмеялся и говорит: «Поцелуемся давайте, девушки, не поминайте лихом!»
«Поцеловали мы его каждая, а было нас, девчонок, пятеро, надел он шапку и на поезд. Узнали мы потом, что из-за наших пяти поцелуев опоздал он на почтовый, поехал на товарном в пургу, в снегопад, но думаю, что на душе у него было так же чуть-чуть тоскливо, как и у нас. Ведь вы знаете, как на войне привыкают люди друг к другу! А потом приезжает к нам хирург из его медсанбата. Говорит – Иннокентьев у нас. А я возьми да и бухни: «Передайте ему привет от сестры Вишняковой и скажите, что она была бы рада еще поработать с ним». Сказала и забыла. Прошло две недели. Вызывают меня в санотдел. Переводитесь, говорят, к Иннокентьеву. Так я и забрела сюда. И нисколько не жалею. У него есть чему поучиться. Если бы вы только видели, как он животы оперирует. Вот здесь, на вашей койке, лежал когда-то один боец. Холопков некто. Немецкая мина разворотила ему живот, в двух местах разорвала тонкую кишку, осколки рассекли толстую кишку. Иннокентьев подошел к операционному столу и начал копаться в полости живота. Два часа оперировал, усталый, злой, упрямый. Лоб его блестел, мы все молчали, следя за тем, как он умело удаляет поврежденные участки тонкого кишечника, как выбрасывает их прочь. Я смотрела на него, и он мне удивительно напоминал героя одной немой картины, которую я видела в детстве. Снимался в ней такой артист с упрямым монгольским лицом, с таким же нечеловеческим напряжением воли в те минуты, когда ему приходилось особенно трудно. И что вы думаете, четыре дня ни у кого не было надежд, что Холопков выживет. А Иннокентьев хватался за каждое средство, лишь бы только спасти; уже делали ему капельное переливание крови, всё время то камфора, то растворы глюкозы.
«На пятый день Холопкову стало лучше, а через две недели его отправили поездом в Архангельск, а еще спустя неделю мы получили от него письмо. Какое письмо! Если бы вы только знали, как благодарил он нашего хирурга за его работу, за его золотые бойкие руки!»
* * *
– Стало быть, он специалист по операциям живота? – несколько разочарованно спросил Симаченко. – Выходит, такие раны, как мои, ему вроде как бы дополнительная нагрузка?
– Ну, вот чепуха! – сказала Тамара. – Ему, как и всякому хирургу, прежде всего интересно спасти жизнь больному, будь то у вас голова прострелена, или нога, скажем, а уж потом, особо, он свои научные задачи решает.
Трещали в печурке дрова.
Соседи Симаченко – раненый снайпер Асланов и разведчик Трофименко – уже спали. За перегородочкой шуршала историями болезней дежурная сестра госпитального взвода, а за дверями слышалось завывание ветра.
– Метёт на дворе? – тихо спросил Симаченко.
– Ой, метёт, – сказала Тамара, – а ведь послезавтра первое мая. Да ещё как метёт! Бежишь от землянки к землянке, так и сносит.
– Я так и думал, что заметёт. Сияние-то красное последние дни было, – сказал Симаченко.
9. ПУРГА МЕТЕТ
Сегодня было ещё три операции. Доктор Иннокентьев порядком устал и пошёл отдохнуть к себе в землянку. Землянка его была самой маленькой и, пожалуй, самой холодной в батальоне. Тепло держалось в ней лишь тогда, как топилась печка. Стоило дровам погаснуть, сразу становилось холодно.
Иннокентьев печку не растапливал: было ещё рано, предстоял вечерний обход; он лёг в холодной землянке на койку в полушубке, положив на табуретку ноги в запорошенных снегом валенках.
Язычок пламени в коптилке колебался от сильного ветра, проникающего сюда сквозь щели в землянке, бросая тени на её дощатый потолок. Уже полгода прошло с той поры, как Иннокентьев попал в Заполярье. Они промелькнули незаметно, наполненные сменяющими одна другою[2]2
Так в бумажной книге.
[Закрыть] операциями, перевязками, обходами; после пережитого осталось только чувство усталости и явно ощутимая закалённость организма к новым лишениям.
Порыв ветра донес сюда орудийный разрыв. Затем второй, третий. Вскоре орудийные выстрелы слились в одну сплошную канонаду. Казалось, будто где-то неподалёку воет ураган, но ещё более страшной силы, чем тот ветер, что завывает под дверью землянки.
Неужели наступление?
Тут он припомнил все последние приказы, чтобы вывезти в глубь войскового района всех легко раненых и способных перенести перевозку больных. Он вспомнил, как командир дивизии отказал ему в поездке в Мурманск на совещание по переливанию крови:
– Подождите немного, Иннокентьев, там без вас обойдутся, а в дивизии сейчас для вас работы много.
Слова эти были сказаны командиром дивизии многозначительно, с лукавой улыбкой. А наконец, первый вестник возможного наступления – этот лейтенант, поклонник Вишняковой, который ходил по немецким тылам с целым батальоном? Эта крупная, разведывательная операция, видимо, была тоже начата неспроста. Да и позавчерашняя ночная бомбёжка при осветительных ракетах доказывала, что немцы нервничают, ожидают наступления.

И мигом, вспоминая осенние бои под Мурманском, которые научили его быстро обслуживать каждую операцию, Иннокентьев решил, не дожидаясь первых раненых, уже сейчас готовить медсанбат к их приёму. Но только он вышел из землянки, ветер засыпал его глаза колючим мелким снегом. Шатаясь от ветра, подняв воротник, доктор сбежал вниз. В перевязочной он отдышался и сказал дежурной сестре Ковалёвой:
– Топите печки!
Стряхнув с воротника снег, он огляделся и спросил:
– А Вишнякова где, не знаете?
– Она, должно быть, у своего земляка сидит, – сказала Ковалёва.
– Предупредите ее... Хотя ладно, я сам схожу туда...
* * *
Во втором хирургическом отделении, где лежал Симаченко, канонада и завывание ветра слышались меньше, чем наверху, в землянке Иннокентьева. Второе хирургическое было глубоко закопано в землю. Симаченко все же догадался, что наступление началось. Вот досада! Так давно потихоньку к нему готовились, так много говорили между собою, как «дадут жизни» горным егерям, заставив их навсегда забыть дорогу к Мурманску, и теперь – пожалуйста. В эти долгожданные минуты он лежит неподвижный здесь, под землей. И хотя состояние его было хорошее, хотя обильно припудренные стрептоцидом раны уже медленно начинали заживать, хотя жаловаться было решительно не на что, хотя рядом сидела такая милая сестра, он не мог скрыть от неё своего грустного настроения.
– Ну, вот пустяки, – утешала его Тамара, – и на вашу долю хватит. Война-то ведь по существу ещё начинается. Ещё такие бои впереди, поправитесь и своего немца найдёте.
В землянку вошел Иннокентьев. На его черных бровях таяли снежинки. Казалось, брови выгорели под солнцем. Шапку засыпало снегом. По скуластым щекам сбегали струйки воды.
– Ну, как чувствуем себя, Симаченко? – спросил доктор.
– Да ничего. Зудит только очень нога. – И, словно подтверждая свои слова, Симаченко пошевелил большим пальцем раненой ноги.
– А повязка не туга?
– Да нет. Будто в самую меру. Но скажите мне честно, доктор, рука-то и нога будут действовать у меня как раньше?
– Думаю, что будут. Правда, мышцы кое-какие я порезал, но они современем восстановятся. Если же повреждены отдельные нервы, там, в тылу, вами займутся физиотерапевты.
– Физиотерапевты? – Симаченко оживился. – Я познакомился в поезде с одним физиотерапевтом. Карницкий некто, из Ленинграда. Вместе на войну ехали. Вы его не знаете?
– Карницкий? Ну как же, – Иннокентьев улыбнулся, – я его доклад недавно слушал на конференции в Мурманске. Он грязь чудодейственную здесь, в Заполярье, нашёл и очень удачно, говорят, ею последствия ранений лечит.
– Простите, товарищ военврач, – вмешалась в разговор Вишнякова, – он пожилой такой? В кожаном пальто ходит?
– А вы его откуда знаете?
– Ну как же, я в его поезде санитарном ехала к вам в отряд. И бомбёжка нас в Кандалакше ещё застала. Карницкого я знаю.
– Если вы попадете к нему, Симаченко, – сказал Иннокентьев, подумав, – будет хорошо. Грязелечение поможет вашим ранам.
10. СО ДНА ЗАЛИВА
Доктор Карницкий, о котором вспомнил Симаченко, распрощался со своим санитарным поездом ещё осенью, но желанная работа пришла к нему не сразу. Его назначили начальником дома отдыха для выздоравливающих командиров в Кандалакше.

Однажды вечером после трудного рабочего дня Карницкий пошёл погулять к заливу. Ночью ему предстояло написать месячный отчёт, и сейчас он хотел на свежем воздухе собраться с мыслями. Он спустился по тропинке к берегам Палкинской губы и поморщился. Навстречу ему подул ветер и принёс с собой непонятный запах. Точно тухлыми яйцами вдруг запахло.
Карницкий присел на корточки и понюхал воду. Запах шёл со дна. Доктор засучил рукав и, окунув руку в воду, вытащил горсть синеватой грязи. Она стекала с ладони на землю, воняла тухлыми яйцами, и на её поверхности проступили мелкие исчезающие с лёгким шипением пузырьки.
Это был сероводород.
А в госпиталь в этот вечер прибыла новая партия командиров, и дежурный, зная, куда пошёл гулять начальник, послал за ним санитарку Божко. Выбежав к заливу, она была очень удивлена, увидев начальника в очень странном положении. Он стоял на корточках над водой, погружённое до половины в воду, чернело сбоку старое ржание ведёрко, доктор, засучив рукава, зачерпывал со дна залива горстями синеватую вонючую грязь и бросал её в ведерко.
Божко ничего не поняла. «Что он, золото в воде нашёл?» – подумала она, но потом, сбежав к доктору поближе, увидела, что он набирает в ведро самую обыкновенную грязь.
– Больные приехали, товарищ начальник, – сказала она тихо.
– Хорошо, я сейчас, – отмахнулся начальник.
– Может вам помочь? – осторожно предложила санитарка. Тогда доктор поднял из воды ведро и, поднеся его санитарке, сказал:
– Вы чувствуете?
Шипела, пузырясь, в ведре грязь, распространяя запах серы.
– Что? – озадаченно спросила санитарка.
– Вы чувствуете, как пахнет?
– Немного воняет... – деликатно сказала санитарка, чтобы, чего доброго, не обидеть доктора.
– А чем воняет?
Божко подумала, подумала, а потом бухнула:
– Не то падалью, товарищ начальник, не то порчеными яйцами.
– То-то! – гордо сказал Карницкий. – Это сероводород, голубушка!
И размахивая ведерком, довольный, сияющий, он пошел в дом отдыха принимать новых больных.
Нисколько вечеров подряд Карницкий уходил на берега Палкинской губы. Вонючая грязь была не всюду, иногда она чередовалась с прослойками обычного песчаного ила, который отдавал запахами тины, гнилой рыбы и водорослей. Но стоило забрести подальше – синеватые, заметные сквозь воду пласты сернистой грязи да сильный запах тухлых яиц убеждали Карницкого, что где-то здесь, в заполярном заливе, обязательно есть серные источники.
Карницкий пошёл в гости к начальнику соседнего эвакогоспиталя. Он рассказал ему о своей находке.
– Так давайте попробуем её, пошлем на исследование, зачем же столько времени кустарщиной заниматься! – посоветовал начальник госпиталя.
Ответ лаборатории убедил всех, что не напрасно доктор Карницкий посещал берег Палкинской губы.
В найденной им грязи, кроме сероводорода, сернистого железа и хлористого кальция содержались еще бром, иод и другие лекарственные вещества.
Карницкий стал лечить в госпитале раненых чудесной грязью, слава о которой докатилась и до медсанбата, где служил хирург Иннокентьев.
Пурга не утихла и к рассвету. Замело подъездную дорогу к медсанбату, а о тропинках, соединяющих землянки, и говорить нечего. Сплошная белая пелена наметенного за ночь снега покрывала все проходы, засыпала сверху все землянки.
Кое-как, с грехом пополам санитары добрались к проезжей, главной дороге и увидели, что её тоже занесло. Ни одна машина, ни одни сани не проезжали по ней с утра, только опознавательные вешки, пикетажные знаки, утопая до половины в снегу, одиноко торчали по обочинам дороги. Воду на кухню медсанбата пришлось носить ведрами. Целый день только и дела было, что откапывать входы в землянки и очищать из-под снега штабеля неколотых дров.
Возьмет санитарка охапку берёзовых поленьев, стащит в палату раненых, возвращается обратно за другой, а уже и следы её прежние замело. Снег, снег, тучи его носятся, подгоняемые ветром в воздухе.
К вечеру на лыжах приплелся начпрод Касаткин. Он прошёл двенадцать километров, а вид у него был такой, словно из самого Мурманска в пургу добирался: потный, усталый, еле языком шевелит. Отдышался и доложил командиру батальона, что машину с продуктами замело доверху снегом – ни откопать, ни сдвинуть с места, а о том, что продукты можно вручную сюда принести, и речи быть не могло: человеку налегке, и то двигаться почти невозможно.
Дальше Касаткин рассказал, что наши вчера начали наступать и было погнали немцев, но, повидимому, наступление будет отложено. Резервы не в силах попасть к передовым. Правда, части бредут, бредут по шоссе, но вся техника отстала. Да и чего будет стоить боец, если он пройдёт по такой стуже, против такого ветра несколько десятков километров? Тут и без немецкой пули немудрено в госпиталь попасть.
Выслушав Касаткина, комбат попробовал было соединиться со штабом дивизии, но штаб молчал. Повидимому, ветром где-то сорвало провода.
– Вот мы и Робинзоны Крузо, – сказал стоящий около печки терапевт Цыганков.
– Чем же людей кормить будем? – спросил комбат.
– Не знаю, товарищ военврач второго ранга, – разводя руками сказал Касаткин, – всего в обрез, только на сегодняшний день, а из запасов у меня лишь мука сохранилась.
– Берегите её только для раненых, – приказал комбат.
– А здоровых чем кормить будем? – спросил Касаткин.
– Потерпеть придётся.
Вторая ночь пурги была еще страшнее первой. Ветер ломал маленькие кряжистые берёзки, снес фанерный кузов санитарной машины, окончательно засыпал снегом входы во многие жилые землянки. Сёстры, санитарки, доктора, что жили в землянках на горе, где больше всего свирепствовала пурга, перебрались засветло вниз – кто сидел у печки в сортировочном отделении, кто забрался в лабораторию, а кто коротал время в палатах у раненых.
Тамара сидела в землянке у Симаченко, мало кто из больных спал в эту ночь – разве можно было заснуть под этот дьявольский вой пурги, проникающий даже и сюда, под землю?
– Представь себе только, что в этот вечер, накануне демонстрации, мы всегда гладили свои платья, наводили чистоту в общежитии, открывали рамы, а ведь Ленинград тоже на севере, – шопотом говорила Вишнякова.
– Сестрица, позовите сюда санитарку, – попросил из самого дальнего угла послеоперационный больной.
Тамара узнала его по голосу. Это был начинающий снайпер, которого недавно привезли с передовой с тяжёлым ранением живота.
Восемь ран нашёл в его кишках доктор Иннокентьев во время операции.
– А что вы хотите, Хакбердиев?
– Да у меня бы... уточку... взять...
Тамара подошла к Хакбердиеву, ловко вынула у него из-под одеяла утку и, накинув полушубок, вышла в сени. Она толкнула вперед дверь и, готовясь встретить порыв ветра, инстинктивно зажмурилась. Но дверь не открывалась.
– Вставайте, девочки. Подъём! Нас засыпало, – сказала, возвращаясь к столику, Вишнякова.
Вместе с сестрой Ковалёвой они растолкали санитарок и пошли к запасному выходу. Хорошо, что на случай заносов дверь сделали не по правилам. Она открывалась внутрь. Стоило девушкам откинуть задвижку и потянуть дверь на себя – огромная куча снега посыпалась в сенцы, засыпая дрова, утки, судна и всякую хозяйственную утварь.
С лопатами в руках сёстры и санитарки выскочили наверх и стали расчищать снег. Где-то вверху, за мириадами летающих снежинок, светила луна, и потому было ещё относительно светло. Раскидав снег и очистив сени, девушки, взявшись за руки и тяжело переступая, обошли землянку и сколько было можно очистили главный вход.
– Все равно к утру за-а-а-ме-е-е-тёт!– крикнула на ухо Вишняковой Ковалёва.
– Ещё расчистим, – ответила Тамара.
Они долго стегали себя вениками, прежде чем зайти в отделение к больным, вытряхивали ушанки, воротники, пришлось даже валенки сбросить, потому что снег набился и туда.
– Сильно занесло? – спросил Симаченко, когда Тамара, свежая, румяная, пахнущая холодом, подошла к его койке.
– Ужас! Тихий ужас!
– А почему тихий? Слышите, поет как громко?
– Ну, так говорится.
– А я люблю такое ненастье. У нас зимой все время ветры.
– Где у нас? В Ленинграде?
– Я ведь не чистокровный ленинградец. Я родом с Азовского моря. Такой городишко есть – Бердянск. Ровненький, чистенький, на самом берегу. Станешь около памятника на проспекте Либкнехта: направо посмотрел – море, перед собой глянул – море, а слева колония и за ней тоже море. Ветры у нас сильные. Особенно зимой. Как в Новороссийске. Задует норд-ост, держи шляпу, а то унесёт.
– Вы в шляпе до войны ходили?
– Всяко бывало.
– Смешно. Ходил человек когда-то в шляпе, был гражданский, а сейчас, наверное, уже забыл, как галстук завязывать.
– Ещё бы. Я один, думаете? Все так.
– А я что, – не знаю? У меня на Кронверкском у подруги платье осталось атласное, всё в цветах крупных, как у цыганок. Вот бы здесь сейчас в нём появиться. Потеха... Простите, я вас перебила. Вы что-то о городе своём родном начали рассказывать?
– Да что там рассказывать! Отец у меня там остался. Может, мордуют его сейчас немцы. Хороший старик, свойский. Мы с ним душа в душу жили. А потом оставил я его в Бердянске и в тридцатом приехал в Ленинград. А потом в июне сорок первого я уехал на войну. А теперь я вот инвалид, и у меня живот болит и, быть может, никогда мне без палочки не погулять, и лапка у меня будет висеть сухая-сухая... ненужная... Что, неправда, сестрица?
– Ну, вот глупости! – возмутилась Тамара. – Так хорошо прошла операция, не температурите, при чем здесь инвалид?