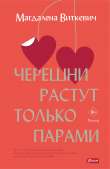Текст книги "Зося"
Автор книги: Владимир Богомолов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Витька не терпел, чтобы его называли "пан", как это принято в Польше, и здесь он уже успел провести разъяснительную работу: Стефан, обращаясь к нему или к кому-нибудь из нас, говорил "товарищ официэр" или же просто "товарищ".
Не знаю, подействовало ли на меня то небольшое количеством водки, но, выпив затем в два приема еще около стакана браги и почувствовав себя чуть свободнее, смелее, я начал вскоре украдкой поглядывать на Зосю.
Нет, я не обманулся, мне ничуть не пригрезилось... Все было пленительно в этой маленькой девушке: и прекрасное живое лицо, и статная женственная фигурка, и мелодический звук голоса, и темно-зеленые сияющие глаза, и то радушие и вопрошающее любопытство, с каким она смотрела на нас.
Держалась она непринужденно и просто, как и подобает хозяйке. Помогая матери, угощала гостей, бегала в кухоньку за посудой, улыбалась и, чтобы поддержать компанию, даже пригубила бимбера – поморщилась, но глотнула. Потом, не скрывая заинтересованности, внимательно вслушивалась в русскую речь Стефана, будто старалась постичь, о чем он говорит и какое впечатление производят на нас его слова, не упуская при этом милым женским движением поправлять густые и непослушные каштановые волосы.
Иногда наши взгляды на мгновение встречались, и с невольным трепетом я ловил в ее глазах поощряющую приветливость, ласковость и еще что-то, волнующее, необъяснимое, причем мне подумалось, что до этой минуты никто и никогда не смотрел на меня так.
Карев, сын какого-то ленинградского профессора, самый из нас учтивый и предупредительный, успевал галантно ухаживать за женщинами: подкладывал им на тарелки закуску, предлагал хлеб и наливал брагу в стаканы. Понаблюдав, я решил последовать его примеру и, поддев большой ложкой горстку салата, хотел положить на тарелку Ванде, но она поспешно и весело воскликнула: "Дзенкуе! Не!.."* [* Спасибо! Не хочу!.. (польск.).] – подкрепив отказ энергичным жестом; на меня посмотрели, и, в смущении зацепив рукавом высокую вазочку со сметаной, я едва не опрокинул ее, тут же дав себе слово больше не вылезать.
Витька обычно легко сходился с людьми, особенно простыми, а тем более с крестьянами. И здесь, спустя полчаса, выпив не один стакан бимбера, он уже обращался к Стефану приятельски, на "ты", дымил вместе с ним забористым самосадом, звучно смеялся, шутил и называл его доверительно, по-свойски Степа.
Используя свое крайне скудное, как и у всех нас, знание польского языка десятка три-четыре слов, – Карев пытался разговаривать с Зосей. Она слушала его с веселой, чуть лукавой улыбкой, смеялась неверному произношению, быстро и озорно что-то переспрашивала, и он, почти ничего не понимая, приподняв плечи, весьма комично выражал на лице преувеличенное недоумение и разводил руками.
Витька через Стефана тоже несколько раз обращался к Зосе со всякими пустячными вопросами, явно желая завязать беседу и познакомиться поближе; без удовольствия наблюдая за всем этим, я решил, что мне также надо обязательно с ней заговорить.
Я полагал даже, что имею некоторое преимущество. У меня в кармане лежал полученный только что из штаба бригады в одном-единственном экземпляре "Краткий русско-польский разговорник", который, очевидно, должен был облегчить общение с местными жителями, и, признаться, я возлагал немалые надежды на эту крохотную, размером с удостоверение личности, книжицу.
Достав ее потихоньку из кармана и поместив незаметно на коленях, я исподволь просмотрел все от начала и до конца. В ней было свыше тридцати коротеньких разделов, и, кажется, были предусмотрены все возможные случаи не только на земле, но и на воде или в воздухе. Я мог, например, без малейшего труда и промедления осведомиться о столь различных вещах: "Знаете ли вы, где скрываются оставшиеся немецкие солдаты и офицеры?.. Скажите, известно ли вам, где немцы заминировали местность?.. Прошу быстро показать, на каком пути стоят цистерны с горючим..." Или: "Можно ли перейти реку вброд?.. Где?.. Могут ли переправиться танки?.. Сколько сброшено парашютистов?.. Где приземлились планеры?.."
Ну к чему мне была в тот час вся эта опросная лабуда?.. Из всех разделов наиболее соответствовал моему стремлению предпоследний – "Разговор на общие темы". К великой досаде в нем оказалось всего лишь пятнадцать фраз, из них самыми невоенными и человеческими были: "Здравствуйте!.. Благодарю вас!.. Как вас зовут? (Но я с утра знал, что ее зовут Зося...) Пожалуйста, закурите... (Еще не хватало, чтобы я предложил ей закурить!) Как истинный поляк вы должны нам помочь в борьбе против нашего общего врага – немца... Где находится ближайшая аптека (больница, баня)?.."
Обескураженный, я спрятал книжечку в карман, сказав самому себе, что обойдусь и без нее.
Стефан – слушал ли он или говорил – своими умными с хитринкой глазами внимательно присматривался к нам, как бы желая определить, что мы, "радецкие", за люди, насколько изменились русские за три без малого десятилетия с тех времен, когда он служил в царской армии, и, наверно, более всего хотел бы разведать и уяснить, чего от нас следует ждать?
Слегка, приятно опьянев и ободренный к тому же Зосиной приветливостью, я начал поглядывать на нее чуть длительнее, как вдруг она мгновенно осадила меня: посмотрела в упор строго и холодно, пожалуй, даже с оттенком горделивой надменности.
Ошеломленный, я и представить себе не мог причины подобной перемены. Да что я такого сделал?.. Неужто позволил лишнее?..
А может, это была та самая игра, какую подсознательно уже многие века и тысячелетия ведет слабая половина рода человеческого с другой, более сильной?.. Не знаю. Если даже и так, то я в ту пору был еще слишком робок и неопытен, чтобы принять в ней участие.
Я терялся в догадках, впрочем, спустя какую-нибудь минуту Зося взглянула на меня с прежней веселостью и радушием, и я тотчас внутренне ожил и ответно улыбнулся.
Вскоре я заметил, или мне показалось, что она поглядывает на меня чаще, чем на Витьку или Карева, и как-то особенно: ласково и выжидательно – словно хочет со мною заговорить либо о чем-то спросить, но, по-видимому, не решается. И всем существом своим я внезапно ощутил смутную, но сладостную надежду на вероятную взаимность и начало чего-то нового, значительного, еще никогда мною не изведанного. Я уже почти не сомневался: между нами что-то происходило!
Хмель развязал понемногу языки и растопил некоторую первоначальную сдержанность. Ванда, чему-то про себя усмехаясь, довольно откровенно посматривала на Витьку, что было с ее стороны безусловной ошибкой: по Витькиному убеждению, наступать полагалось мужчине, а женщинам следовало только обороняться; к тому же он не признавал в жизни ничего легкого, достающегося без труда и усилий.
Я снова поймал на себе загадочно-непонятный, но вроде бы выжидательный взгляд Зоси и буквально через мгновение ощутил легкое, как мне показалось, не совсем уверенное прикосновение к своему колену – у меня перехватило дыхание, а сердце забилось часто и сильно.
Надо было действовать! Не теряя времени, немедля!
"Смелостью берут города... – подбодрил я себя. – Не будь рохлей!.. Ну!.." И с внезапной решимостью я подвинул вперед ногу. В тот же миг Карев поморщился от боли – у него осколком была задета коленная чашечка – взглянул под стол и, ничего не понимая, вопросительно посмотрел на меня.
Я сидел, сгорая от конфуза, но Зося, кажется, ничего не заметила, а если и заметила, то виду не подала. Немного погодя она что-то сказала Стефану, и он, улыбаясь, обратился ко мне:
– Товарищ молится богу?
– Нет, почему? – удивился я.
– Зоська говорит, что товарищ на речке молился.
Так вот что ее интересовало! Только-то и всего?!
– Это не молитва... – Я покраснел и опечалился. – Совсем...
– Это стихи, – услышав и сразу сообразив, пояснил Витька и огорченно, с укоризной посмотрел на меня. – Вот видишь...
Было бы неверно сказать, что Витька не любил поэзию, – он ее просто не понимал.
– Чушь! – например, от души возмущался он. – Да где он видел розового коня?! Я же сам из крестьян! Навыдумывают черт-те что!
Стефан, должно быть, не знал или позабыл, что означает слово "стихи", и, повторив его медленно вслух, недоуменно пожал плечами.
– Ну, Пушкин... – еще более смутясь, проговорил я.
– А-а-а... – Он улыбнулся и сказал что-то Зосе.
Витька же, не упустив случая, заявил, что церковь – это опиум и средство угнетения трудящихся и что с религией и с богом у нас в основном покончено. Если где и остались еще одиночные верующие, то это темные несознательные старики, отживающие элементы, а молодежь-де такой ерундой не занимается, и девушка вроде Зоси – он показал на нее взглядом – постыдилась бы носить на шее цепочку с крестом...
Кажется, он не сказал ничего обидного, но, как только Стефан перевел, произошло неожиданное: Зося, вспыхнув, пламенно залилась краской, ее нежное, матово-румяное лицо в мгновение сделалось пунцовым, глаза потемнели, а пушистые цвета каштана брови задрожали обиженно, как у ребенка.
Я даже не без страха подумал, что она вот-вот расплачется, но она, с гневом и презрением посмотрев на Витьку, вдруг энергичным движением вытащила из-за пазухи цепочку с католическим крестиком и вывесила его поверх блузки, вскинув голову и с явным вызовом выпятив вперед грудь.
В ее лице, осанке и взгляде выразилось при этом столько чувства, столько негодования, гордости и нескрываемого презрения, что Витька подрастерялся. Бодливо наклоня голову, он посмотрел на меня, затем на Карева, словно ища поддержки или призывая нас в свидетели и как бы желая во всеуслышание заявить: "Вы видите, что она вытворяет?!"
Пани Юлия быстро, умоляющим голосом о чем-то просила Зосю, и Стефан, нахмурясь, тихо, но твердо сказал ей несколько слов, очевидно предлагая спрятать крестик, однако Зося, пунцово-красная, разгневанная, уставясь прямо перед собой, сидела, не двигаясь, только взволнованно поднималась маленькая грудь.
В напряженной тишине угрожающе сопел Витька, и, зная его, я, конечно, понимал, что стерпеть подобную демонстрацию и промолчать он будет просто не в состоянии.
– Кстати, у нас, в Советском Союзе, – вдруг послышался голос Карева, свобода вероисповедания! И чувства верующих уважаются государством!
Он сказал это, ни к кому, собственно, не обращаясь, отчетливо и так громко, словно выступая перед большой аудиторией. Витька исподлобья посмотрел на него, сосредоточенно соображая, вероятно, смекнул, что в данном случае не следует выставлять принцип и что лучше уступить, и, наконец, пересилив себя, заговорил со Стефаном о хлебах.
Спустя буквально минуту он, словно ничего и не было, радушно беседовал с пани Юлией и Стефаном и даже улыбался, однако Зося успокоилась и отошла еще не скоро. Напрасно Карев старался отвлечь ее, рассмешить или как-то расшевелить она сидела все еще оскорбленная, молчаливая и строгая, не замечая Витьки или, во всяком случае, не глядя в его сторону. Прошло порядочно времени, прежде чем она несколько смягчилась и начала улыбаться однако крестик так и не убрала он по-прежнему висел поверх блузки.
Между тем Витька, сварив в крепком мясном бульоне пельмени, сам разложил их на тарелки и показал, как надо их есть, хорошенько полив сделанным им по особому рецепту острым соусом из уксуса и горчицы. Готовил он необычайно вкусно, а пельмени по-сибирски были его коронным блюдом, и неудивительно, что, отведав, и пани Юлия, и гости отметили его кулинарное искусство и довольно быстро опустошили два большие блюда. Мне очень нравилась Витькина стряпня, и, наверно, я тоже съел несколько штук, но точно не знаю – в тот час мне было не до пельменей.
Все это время я то и дело поглядывал на Зосю, впрочем, думается, не больше, чем на Стефана или пани Юлию. Только на них смотрел, не стесняясь, преимущественно по необходимости, для маскировки, а на Зосю – украдкой, как бы мимолетом и невзначай млея от нежности и затаенного восторга.
Даже когда я не смотрел на нее, я каждый миг ощущал ее присутствие и не мог думать ни о чем другом, хотя пытался прислушиваться к разговору, улавливал отдельные фразы и даже улыбался, если рядом смеялись.
Со мною творилось что-то небывалое. Еще никогда в жизни я не испытывал такого волнения при виде девушки или женщины, хотя влюблялся уже не раз, причем впервые, когда мне было всего пять или шесть лет и моей "пассии" примерно столько же. Последний же предмет моих сокровенных вздыханий, санитарка из соседнего батальона Оленька, была в начале наступления тяжело ранена и находилась где-то в тыловом госпитале, ничуть и не подозревая о моих чувствах.
Тогда, в юности, я частенько говорил стихами, справедливо полагая, что очень многие мысли и желания выражены поэтами несравненно лучше, ярче и точнее, чем это удалось бы мне. И сейчас в голове моей неотвязно вертелось:
Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу...
Ах, если бы я смел сказать это Зосе, если бы я только мог и умел!..
Разговор по-прежнему велся главным образом между Витькой и Стефаном хозяйственный, по-крестьянски обстоятельный и во многом непонятный для меня или Карева – о землях и пахоте, об урожаях, надоях и кормах. Беседовали они спокойно и неторопливо, пока Стефан не поинтересовался тем, о чем нас уже спрашивали и в других деревнях: будут ли в Польше колхозы и правда ли, что всех поляков станут переселять в Сибирь?
Витька – он был родом из-за Омска, – как и обычно в таких случаях, ужасно обиделся и оскорбился.
– Ты, Степа, говори, да не заговаривайся! – сбычась, рассерженно воскликнул он. – С чужого голоса поешь! Тебе Сибирь что – место каторги и ссылки?! Ты ее видел?.. Из окошка? Проездом?.. Да я свою Михайловку на всю вашу округу не променяю! – потемнев от негодования, запальчиво вскричал он. На всю вашу Европу!.. С чужого голоса поешь! От немцев нахватался?! Позор!.. Я за такие байки любому глотку порвать могу – учти!..
Стефан – он был заметно под хмельком, – ошарашенный столь внезапным оборотом до того спокойного и дружелюбного разговора, приложив руку к груди, растерянно бормотал "пшепрашам паньства" и, как мог, извинялся. Остальные притихли, причем Зося с откровенной неприязнью смотрела на Витьку. Ощущая немалую неловкость, я тоже молчал, и снова находчиво и удачно вмешался Карев.
– Давайте выпьем за Михайловку, – весело предложил он, доливая в стакан Стефану, – и за Новы Двур!
Я уже достаточно опьянел, но попытаться заговорить с Зосей все никак не решался. Для смелости требовалось еще, и неожиданно для самого себя, взяв у Карева графин, я наполнил бимбером свой стакан из-под браги.
Витька, все еще нахохленный после разговора о колхозах и Сибири, посмотрел на меня с удивлением и очевидным недовольством, хотел что-то сказать, но засопел и промолчал.
До того дня мне никогда не доводилось выпивать сразу столько водки, а тем более неразбавленного самогона, и делать это, разумеется, не следовало. Однако меня подзадорило высказанное ранее Стефаном замечание, что, дескать, немцы слабоваты против нас – пьют крохотными рюмками, – на меня повлияло и присутствие Зоси, и стремление обрести наконец смелость, необходимую, чтобы заговорить с ней. Недовольство же Витьки показалось мне явно несправедливым да что, в самом деле, я хворый, что ли?!
Впрочем, отступиться было уже невозможно; я с небрежным видом – мол, подумаешь, эка невидаль! – поднял стакан и, улыбаясь, бодро посмотрел на Стефана и пани Юлию: "Сто лят, панове!.." Запомнилось, что пани Юлия глядела на меня задумчиво и грустно, подперев щеку ладонью, совсем как это делала моя бабушка.
Я знал понаслышке, что такое бимбер, и все же не представлял, сколь он крепок, – настоящий горлодер! Я ожегся и поперхнулся первым же глотком, в глазах проступили слезы, и, с ужасом чувствуя, что вот сейчас оконфужусь, я, еле превозмогая себя, умудрился выпить все без остатка и, лишь опустив стакан и заметив, что на меня смотрят, заметив внимательный и вроде насмешливый взгляд Зоси, закашлялся и покраснел, наверно, не только лицом, но даже спиной и ягодицами.
Мне сразу сделалось жарко и неприятно; я сидел стесненный, ощущая ядреный самогон не только в голове, но и во всем теле, ничего не видя и не замечая малосольный огурец и кусок хлеба, которые совал мне сбоку Стефан, напевавший при этом:
Мы млодзи, мы млодзи,
Нам бимбер не зашкодзи.
Венц пиймы го шклянками,
Кто з нами, кто з нами!..*
[*Мы молоды, мы молоды,
Нам бимбер не повредит.
Так пьем же его стаканами,
Кто с нами, кто с нами!.. (польск.).]
Через несколько минут я понял, что совершил непоправимое, – и дернула меня нелегкая выпить эту свирепую гадость! Я пьянел стремительно и неотвратимо; все вокруг затягивало прозрачной пеленой – и стол, и лица людей я видел уже как сквозь воду.
Снова вытащив разговорник, я начал его листать, однако вспомнил, что он бесполезен, и сунул назад в карман. В голове слегка шумело и путалось, но одна мысль ни на мгновение не оставляла меня; я должен – во что бы то ни стало! заговорить с Зосей.
Я все-таки соображал, что она меня не поймет, и, поворотясь, крепко взял Стефана за руку – чтобы привлечь его внимание – и, сжимая ему ладонь, требовательно сказал: – Прошу вас – переведите!
Затем, постучав кулаком по столу, прикрикнул на всех: "Минутку!" – и, для внушительности строго уставясь Стефану в лицо и стискивая ему руку, громко, должно быть, чересчур громко продекламировал:
Дорогая, сядем рядом!
Поглядим в глаза друг другу!
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу!
Стефан и рта не успел раскрыть – недоумело улыбаясь, он смотрел на меня, как слева оглушительно захохотал Семенов, и еще кто-то засмеялся.
– Сюсюк! – тотчас услышал я над ухом разгневанный голос Витьки. – Даже пить не умеешь! Погоны позоришь и Советский Союз в целом!.. Проводить тебя?!
– Не-е-ет! – замотав головой, громко и решительно заявил я.
Мне теперь и море было по колено. Я смотрел на Зосю, но уже не видел отчетливо: ее лицо двоилось, плясало, расплывалось, а мне было жарко и худо, спустя же какие-то полминуты начало основательно мутить.
Я поднялся и, удерживая равновесие, пошатываясь и на что-то натыкаясь, двинулся к дверям.
Карев догнал меня в сенях и, полуобняв, вывел на крыльцо, но мне это не понравилось, и я вывернулся, оттолкнув его.
– Я провожу вас...
– Не-ет! – сердито закричал я. – Сам!
И он послушно ушел.
Я постоял на крыльце, с облегчением вдыхая свежий воздух, обиженный на все и на всех, затем решил: "А ну их к черту!" – шагнул и полетел со ступенек вниз, больно ударясь обо что-то лицом.
Потом я оказался на задах, у риги, и Семенов – это был он, – держа меня под руку, презрительно говорил:
– Эх, назола! Всю рожу ободрал...
Он пригнул мою голову книзу, сунул мне в рот свои пальцы и, когда меня вырвало, вытирая руку о голенище, наставительно сказал:
– Газировочку надо пить. И не больше стакана – штаны обмочите...
***
Я очнулся поздним вечером в душной риге на охапке сена. Левая створка ворот была распахнута, и прямо перед моими глазами тихая нежная луна низко стояла над садом, а дальше, разбросанные в темно-синем небе, искрясь, трепетали десятки звезд.
Совсем рядом, чуть ли не задевая меня хвостами и тихонько повизгивая, возились, играя, какие-то собаки – три или четыре, – не обращая на меня ни малейшего внимания. Во рту было противно, голова разламывалась от боли, а руки, шея, лицо и даже тело под гимнастеркой и шароварами отчаянно чесались и горели – я весь был искусан блохами.
Откуда-то издалека доносилось запоздалое пение одинокого соловья, а около хаты слышались звуки Витькиной гитары, шарканье ног, веселые голоса и смех.
Играл Витька, откровенно сказать, неважно. Как правило, его умение сводилось к довольно заурядному и почти однообразному аккомпанементу, правда, он это объяснял тем, что гитара-то шестиструнная, а он, мол, привык к отечественной – семиструнной. Да и пел он средне, без особого таланта, но я его любил, и, должно быть, поэтому мне нравилось.
Сейчас он не пел, а бренчал что-то похожее на вальс – там, возле хаты, танцевали. И Зося тоже, наверное, танцевала; собственно говоря, а почему бы и нет?.. Там, несомненно, было весело; и ей, очевидно, – тоже. Ну и пусть, и пусть...
Не жалею, не зову, не плачу,
убеждал я самого себя.
– Все пройдет, как с белых яблонь дым...
Я лежал, прислушиваясь к смеху, шарканью и голосам, и мучился не только душевно: злые неуемные блохи жиляли меня, жгли как огнем.
Немного погодя в ригу, чуть прихрамывая и нетвердо ступая, пришел Карев. Он присветил фонариком и, увидев меня, необычным полупьяным голосом заговорил:
– Вы не спите?.. Пойдемте на воздух – здесь полно блох. Вас не кусают?
Я был нещадно искусан, но чувство обиды и противоречия еще не совсем оставило меня.
– Нет! – ощущая сильнейшую головную боль, упрямо сказал я. – Никуда я не пойду.
Карев, обычно молчаливый, подвыпив, становился словоохотливым и сейчас, взяв с сена свою шинель и встряхнув ее, продолжал:
– А какой все-таки молодчага наш командир батальона! Простоват, но орел орлом!.. Великая это вещь – обаяние силы! Вы заметили: они все смотрят на него восторженно и влюбленно!
– Так уж все?
– Клянусь честью – и старые и молодые! А со Степой он дважды целовался... Молодчага и хват, – воскликнул Карев восхищенно, – ничего не скажешь! Одного лишь бимбера выпил больше литра, и как стеклышко!.. А я вот еле держусь... И вы знаете, он бесконечно прав: женщинам нравятся сильные и решительные! До наглости самоуверенные, идущие напролом!.. А вот мы с вами слишком интеллигентны, чтобы пользоваться успехом... Никчемная интеллигентность, раздумчиво и огорченно вздохнул он, – будь она трижды неладна!.. Тут, понимаете... с женщинами необходима боевая наступательная тактика, – он взмахнул сжатой в кулак рукой, – напористость, граничащая с нахальством!..
Я мог, конечно, разъяснить ему, что мой отец – потомственный рабочий, а мать – ткачиха, причем из бедной крестьянской семьи, и что сам я попал на войну со школьной скамьи, еще не успев стать интеллигентом, и что дело, по-видимому, в чем-то другом, но мне не хотелось говорить. И я лишь заметил, медленно и с трудом произнося слова:
– А я не ставлю себе целью кому-нибудь нравиться. Тем более женщинам. Меня это ничуть не волнует...
4
Я проснулся на рассвете с тяжеловатой головой и чувством огорчения и стыда за вчерашний вечер, за свою опьянелость и мальчишески-дурацкое поведение. Встал хмурый, а когда, умываясь возле машины, глянул в зеркальце и увидел на носу и на скуле багровые ссадины, – совсем расстроился. Однако сожалеть и предаваться угрызениям было некогда – не завтракая, я тотчас принялся за работу.
Когда поднялся Витька, я уже закончил донесения о мероприятиях по маскировке, ПВО и ПХЗ, дал ему подписать и отправил с мотоциклистом в штаб бригады.
Мы позавтракали у машины втроем: Витька, Карев и я, причем они, избегая разговора о вчерашнем и словно не замечая, что у меня окорябаны нос и скула, обсуждали план занятий с подразделениями по уставам и по тактике, интересуясь и моим мнением.
После их ухода, составив не без труда еще одно срочное донесение, я занялся похоронными.
Мне предстояло заполнить двести три совершенно одинаковых форменных бланка, вписав в каждый адрес, фамилию и инициалы одного из близких погибшего, а также воинское звание, фамилию, имя, отчество убитого, год и место его рождения, дату гибели и место захоронения.
Исполненный великолепным каллиграфическим почерком образец, присланный из штаба в качестве эталона, лежал передо мною, все нужные сведения также имелись, и, приступая, я почему-то мельком подумал, что это простая механическая работа, несравненно более легкая, чем составление неведомых мне отчетностей и донесений, – как же, однако, я ошибался!
Многих из убитых я знал лично, некоторые были моими товарищами, двое друзьями. И, начав писать, я целиком погрузился в воспоминания; я как бы вторично проделывал восьмисоткилометровый путь, пройденный батальоном за месяц наступления, еще раз участвовал во всех боях, опять видел и переживал десятки смертей.
И вновь на моих глазах тонули в быстром холодном Немане автоматчики из группы захвата старшего лейтенанта Аббасова, веселого и жизнерадостного бакинца, часа два спустя – уже на плацдарме – раздавленного тяжелым немецким танком.
Опять я слышал, как, лежа с оторванными ногами на минном поле, кричал, истекая кровью, мой связной Коля Брагин, славный и привязчивый деревенский паренек, единственный кормилец разбитой параличом матери.
Я снова видел, как через пустошь на окраине Могилева, увлекая за собой бойцов и силясь преодолеть возрастную одышку, бежал впереди всех пожилой и мудрый человек, в прошлом инженер-механик, парторг батальона лейтенант Ломакин, и падал на самом всполье, разрезанный пулеметной очередью.
И, прокусив от страшной, нечеловеческой боли насквозь губу, еще раз корчился сожженный струей из огнемета мой любимец и лучший боец, владивостокский грузчик Миша Саенко.
И, лежа на дне окопа с животом, распоротым осколком мины, тихонько стонал и в забытьи слабеющим, еле слышным голосом звал: "Ма-ма... Ма-ма... Ма-мочка..." – командир батареи Савинов, старый – по возрасту годный мне чуть ли не в дедушки – учитель математики из-под Смоленска, редкой душевности человек.
И снова... Опять... И вновь...
Все они, да и десятки других убитых были не посторонние, а хорошо знакомые и близкие мне люди. Заполняя извещения, я смотрел в тетради учета личного состава, листал уцелевшие красноармейские книжки, офицерские удостоверения, узнавал о некоторых из погибших что-то новое, подчас неожиданное, припоминал, и они явственно, словно живые, вставали передо мной, я слышал их голоса и смех – как это было совсем недавно – и еще раз переживал их гибель.
Пока их смерть была достоянием лишь батальона. Однако почти все имели родных: матерей и отцов, жен и детей, – имели родственников и, несомненно, друзей. Где-то в городах и деревнях о них думали, волновались, ждали и радовались каждой весточке. И вот завтра полевая почта повезет во все концы страны эти похоронные, неся в сотни семей горе и плач, сиротство, обездоленность и лишения.
Страшно было подумать, сколько надежд и ожиданий разом оборвут эти сероватые бумажки с одинаковым стандартным сообщением: "... в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив мужество и героизм... был убит". Страшно было даже представить, – но что я мог поделать?..
Мне с самого начала, как только я занялся похоронными, не понравилось указанное в присланном образце официально-казенное обращение: "Гр-ке..." Третье или четвертое извещение, которое я заполнял, адресовывалось в Костромскую область матери моего друга Сережи Защипина, Евдокии Васильевне, милой и радушной сельской фельдшерице. Я ее знал: дважды она приезжала в училище и баловала нас редким по военному времени угощением, сдобными на меду домашними лепешками, и все звала меня после войны к себе в гости, на Волгу. И я почувствовал, что назвать ее "гр-ка" или даже "гражданка" я не могу и не должен. Уважаемая?.. Товарищ?.. Милая?.. Дорогая?.. Я сидел в нерешимости, соображая, вспомнил почему-то Есенина и после некоторого колебания вывел: "Дорогая Евдокия Васильевна!"
Посоветоваться мне было не с кем, а время шло, и я на свою ответственность после адреса и фамилии с инициалами стал всем без исключения писать "дорогая" или же "дорогой", а затем указывал полностью имя и отчество.
В строке "Похоронен" я везде писал "на поле боя", и эти три слова все время беспокоили меня.
Я помнил, как в самую распутицу первой военной весны мать, сколько ее ни отговаривали, отправилась пешком чуть ли не за двести километров разыскивать могилу Алеши, моего старшего брата, убитого где-то под Вязьмой, и как недели через две, так ничего и не найдя, она вернулась, измученная, больная, совершенно обезноженная и постаревшая сразу на много лет.
Я не сомневался, что многие из моих адресатов, многие из тех, кому я писал "дорогие", захотят, если не сейчас, то после войны разыскать могилы близких им людей. Однако в ходе наступления мы оставляли убитых похоронным командам стрелковых дивизий, а потому не знали точно места захоронения, и указать его при всем желании я не мог.
Единственно, что после долгих размышлений я еще надумал – вписать в каждое из двухсот трех извещений перед "Ваш сын (муж, отец, брат...)" следующие слова: "С глубоким прискорбием сообщаем, что..."
Это также было, конечно, вольностью и отклонением от формы и образца, но я решил, что подобная отсебятина, смягчающая официальную сухость похоронных, желательна и просто необходима. Если же в штабе бригады не захотят заверить мою самодеятельность печатью, что ж, я перепишу все заново – в батальоне имелось еще тысячи две чистых бланков.
Часов в десять утра приехали поверяющие из бригады: начальник строевого отдела, немолодой, молчаливый и неулыбчиво-строгий капитан и инструктор политотдела, подвижной и шумный старший лейтенант, тоже в годах; увидев меня, он еще с улицы, достав из машины связку свежих газет и брошюр, громко и радостно закричал, что наши войска штурмом овладели городами Нарвой и Демблин (Иван-город).
Нарва находилась где-то далеко на северо-востоке, под Ленинградом, а Демблин – где-то южнее Белостока и тоже неблизко: я никогда не был ни там, ни там, и эти с боями взятые города представились мне в ту минуту с чисто писарской, наверное, точки зрения – многими пачками похоронных.
Я поднялся и доложил, с недовольством подумав, что теперь у меня отнимут немало времени, однако, к счастью, они сразу же отправились в подразделения.
Похоронные заняли у меня не менее шести часов, причем я даже представить себе не мог, сколь разбитым, расстроенным и опустошенным буду чувствовать себя по мере того, как передо мной вырастала стопа заполненных извещений. Я писал, охваченный скорбными мыслями и воспоминаниями, и мог только позавидовать Витьке и Кареву: не ведая моих переживаний, они занимались с бойцами, и оттуда, из-за деревни, где маршировали остатки батальона, доносившись слова бодрой строевой песни:
Шко-ола мла-адших командиров
Ком-состав стра-не лихой кует.
Сме-ело в бой идти готовы
За-а трудящийся народ!
В сме-ертный бой идти готовы
За трудящийся народ!
Как и вчера, стоял чудесный солнечный день, жаркий, но не пеклый, и так славно, так изумительно пахло яблоками и медом. Как и вчера, Зося с утра возилась по хозяйству около хаты и на огороде, выполняя разную легкую работу, причем пани Юлия не однажды останавливала ее, стараясь по возможности все сделать сама. Я уже заметил, что она тщательно оберегает Зосю, как без меры, до баловства любимую дочку, единственную у матери, потерявшей в боях с немцами еще осенью тридцать девятого года сына и мужа.