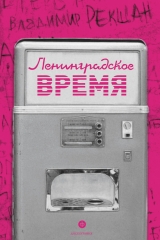
Текст книги "Ленинградское время, или Исчезающий город"
Автор книги: Владимир Рекшан
Жанры:
Музыка
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«„Морошки, морошки“, – просил поэт», – говорила старушка со слезами на глазах.
А туристы стали смеяться над трусами и бутылкой. В итоге историков-хулиганов с работы выгнали.
Вот тогда А. и О. переместились в Музей религии и атеизма. Оформили их на должности сантехников, хотя исполняли они просто подсобные работы. В Казанском соборе имелся замечательный отдел музея, пыточный зал, любимый всеми школьниками Ленинграда. В полуподвале музея собрали коллекцию приспособлений, которыми христианская инквизиция мучила еретиков. Помню всевозможные «испанские сапоги», клещи и железные маски. Они не просто размещались в витринах. В пыточном зале устраивали настоящие реконструкции. Восковой монах в плаще с капюшоном что-то записывал гусиным пером. Над врагом Церкви склонились инквизиторы…
В бытность работы там А. и О. пыточный зал ремонтировали, и экс-студенты облюбовали его для банального пьянства среди бела дня. Однажды к ним примкнул местный сантехник. После возлияний дело закончилось социальным конфликтом. Интеллигенты в третьем поколении надели на трудягу железную маску и стали «пытать», наливая через воронку портвейн. Сантехник радостно заглотал три бутылки, заснул и захрапел. Только тогда классово чуждые элементы оставили сантехника в покое, но через час тот очнулся и стал в ужасе метаться, вскрикивая: «Где я?! Где я?!» Маску заклинило. Сантехник в железной маске выбежал из закрытого для посетителей пыточного зала к мирным туристам. И тут ему стало плохо. Портвейном, закуской и желудочным соком поливал сантехник всех подряд…
Если перейти проспект и пройти по Невскому на восток, то скоро слева можно увидеть полуподвальчик, в котором торгуют пирожными. Это «Север». Название сохранилось с далеких советских времен. Над нынешним подвальчиком в конце 60-х находилось знаменитое кафе. Осенью 69 года я участвовал там в знаковой драке.
Ленинградские драки
И вот я дошел, припеваючи, по Невскому проспекту своей молодости до кафе «Север». И тут мне захотелось рассказать о ленинградских драках. У этого желания есть все основания. Но для сохранения хоть какой-то хронологии я вернусь в ленинградские драки своей подростковой поры.
Советский Союз, несомненно, являлся империей, которая со своей главной задачей до поры до времени справлялась. А задача была такая: безопасность для народов ее населявших. Да, жизнь в советском государстве протекала мирно. Речь идет, конечно, о послевоенном времени. Понятное дело, личностные конфликты происходили, народ норовил иногда дать друг другу по морде, но драки случались обычно с человеческим, так сказать, лицом.
Когда наша семья жила на Кирочной улице, в соседнем дворе, где гуляли дети, и в первых классах 203-й школы, где я учился, актов насилия не случалось. Когда я переехал на улицу Замшина, то первые мои страхи оказались связаны с хождением по выходным на детские утренники в кинотеатр «Гигант». Местное хулиганье подлавливало малолеток возле касс и отнимало ту мелочишку, с которой приходили в кинотеатр школьники. Лично я хулиганов видел лишь издали. И думаю, если б подростковая тирания носила тотальный характер, то родители облапошенных школьников ситуацию бы поправили.
Лично я впервые подрался классе в шестом. Меня постоянно донимал на переменах ученик соседнего класса. Когда он попрал мою гордость ударом своей ноги в район моих ягодиц, кровь, как говорят, ударила в лицо, я стал махать руками и разбил в кровь губу обидчика. До сих пор помню то потрясение: «Я ударил человека!»
На первых летних спортивных сборах, лет в тринадцать, меня достаточно жестоко преследовал один парень. Он был постарше и физически сильнее. В отчаянии я полез с ним в драку и оказался побит. С синяками на следующий день появился на стадионе. Тренеры стали расспрашивать, случился даже некоторый переполох. Имя обидчика я не назвал, но его все равно вычислили и со спортивных сборов изгнали.
Настоящую драку я увидел уже в десятом классе, когда в роли барабанщика я поехал в компании дворовых работяг, составивших коммерческий ансамбль, играть на танцы за город. После я перешел на бас-гитару. Всего в поселке Пери мне выпало музицировать раза три. Вот что я начертал чуть позже, подводя итоги тех поездок:
«Иногда в пригородах бывает совсем плохо. А плохо – это когда бьют музыкантов. В иных местах бьют просто приезжих. В иных – приезжих, которые посмели танцевать с местными девчонками. Практически везде норовят съездить кому-нибудь по зубам. Но бить музыкантов – последнее дело.
В тот раз ровно в восемь, сотворив синкоп, барабанщик пробежался палочками по барабанчикам. Я дернул толстую струну „ми“. В конце такта запела серебряная птица нашего трубача. К девяти часам две сотни ног, послушных заданному ритму, топали по дощатому полу.
В антракте взмыленная толпа поселковой молодежи повалила на улицу курить и приложиться к горлышку. В осенней темноте слышался гогот. Кого-то дубасили, гоняли по чавкающим лужам.
Наш фронтмен, гитарист и певец с лицом, похожим на Муслима Магомаева, сделал стратегическую ошибку, не дав гитару местному заводиле. Тот, здоровый рыжий парень, хотел подняться на сцену и спеть что-нибудь блатное. Рыжий сконфузился и затаил злобу. И еще фронтмен заговорил с местной красавицей, подружкой Рыжего…
В очередном перерыве наш трубач, мужчина довольно пожилой, лет тридцати пяти, продул мундштук, поправил микрофонную стойку и сказал Муслиму:
– Если хочешь получить, то сразу попроси, а то после танцев и нам накостыляют.
– Что же, теперь и поговорить нельзя? – возмутился фронтмен.
Перерыв закончился.
– О, Сюзи Кью! – заголосил наш коммерческий ансамбль. – Бэби, ай лав ю!
Трубач мрачно смотрел, как вокруг сцены роятся дружки Рыжего.
– Я не мальчик, – прохрипел трубач прокуренными связками между песен. – Я приехал сюда получить червонец, а не потерять зубы…
Танцы закончились, и мы стали собираться. Мне было удобнее возвращаться на автобусе. Но на последний автобус я опоздал. Тогда я поспешил на электричку, еще был шанс успеть.
Лампочки на столбах метались от ветра. Моросил дождик. Я бежал по лужам, засунув руки в недра карманов. Гитара, укрытая брезентовым чехлом, была переброшена через плечо и аритмично колотила по позвоночнику.
„…Бэби, ай лав ю! Бэби, ай лав ю!“ – автоматически напевал мозг.
На платформе я и увидел, как местные лениво колотят Муслима. Трубач был уже повержен, а барабанщик еще отбивался барабанными палочками. Слабо понимая происходящее, я машинально пел про себя „бэби, ай лав ю“.
– Много, падлы, выступали, понтили и выпендривались, – констатировали обвинение верзилы Рыжего.
„О, Сюзи Кью, – подумал я, удивляясь увиденной схватке и не имея сил укротить кипевший в крови после сцены адреналин, перехватил гитару за гриф. – Бэби, ай лав ю!“
Верзил было пятеро, а я один, потому что наш ансамбль сломали и физически, и морально.
Тяжелой доской электрогитары я стал размахивать налево и направо. Верзилы только ойкали. Получив несколько раз по кумполу от хулиганов, я решил покинуть место сражения с помощью спринтерского бега, благо звание мастера спорта позволяло. Потом избитый ансамбль прятался в кустах, поджидая первую электричку до Ленинграда…»
Уже став рок-старом, мне приходилось несколько раз играть на границе, так сказать, города и деревни. Местные всегда старались вычислить городских и отметелить их из чисто сословных предрассудков. Например, в поселке Тярлево в 1971 году прошел мощный для тех лет фестиваль с участием десятка лучших ленинградских групп. Естественно, городские парни и девушки приехали на электричке в большом количестве. По пути от железнодорожной станции к клубу и обратно разворачивались настоящие сражения. Первоначально разрозненных горожан гоняли по свекольному полю, валяя среди ботвы, затем городские, объединившись в батальоны, проделали тоже самое с местными.
Искусство требовало жертв.
Однако вернемся в Ленинград, на его блистательный Невский проспект. На Садовой улице, рядом с нынешней кулинарией «Метрополь» находилось кафе с благозвучным названием «Лакомка». В двух зальчиках с официантками в конце 60-х было модно студентам первых курсов проводить вечера. Получалась такая своеобразная школа светского этикета. Бутылка красного вина стоила три рубля. Подавали курицу с рисом. Короче, ничего выдающегося. Одно время я туда хаживал, поскольку там появлялись мои новые приятели, и я с ними, скажем так, точил лясы. Осенью 1968 года я достал потертое пальто, сшитое из грубой свиной кожи. Настоящий шик! Весило оно килограммов пятьдесят, но вызывало зависть у окружающего пространства. В этом самом пальто я отправляюсь в «Лакомку». Открываю двери и вижу следующую сцену. Моих пьяненьких однокурсников А. и О. держит за грудки здоровенный детина и стучит их головами по стенам.
– Молодой человек! – вскрикиваю я возмущенно. – Немедленно прекратите безобразие и отпустите моих друзей. Иначе вам придется иметь дело со мной!
– Ага! – реагирует детина и отпускает пленников, которые медленно сползают на пол.
Агрессор приближается. Я вижу, какая у него накачанная шея и широкие плечи. Мгновенно настигает ужас. Я отступаю. Он как бы выдавливает меня в двери на Садовую улицу.
Здоровяк протягивает руку и одним движением отрывает половину моего кожаного пальто. Напрочь забыв о своих выдающихся спортивных результатах, я в ужасе дергаю ногой, проводя мая-гири здоровяку в пах. Это если говорить по-каратистски.
– Ой, – всхлипывает качок и садится на корточки.
В дверях появляются А. и О. Мы как зайцы убегаем в метро…
В начале ноября 1969 года произошла в моей жизни гносеологическая драка, о которой я просто обязан рассказать. Четверо парней, Михаил, Алексей, Саша и я, тренькали на гитарах в гобеленовом зале Высшего промышленного училища имени Веры Мухиной. Если не идти наперекор исторической правде, то гитарным бацаньям в высших учебных заведениях не препятствовали. Наоборот! Каждый студенческий профком хотел, чтобы в его учебном заведении имелся свой ансамбль.
Наша банда еще ничего не умела. Да и названия не имела. А тут на репетиции я настоял, чтобы назваться поп-группой «Санкт-Петербург». В итоге все согласились, и после репетиции наша четверка отправилась на Невский проспект в кафе «Север» отпраздновать выбор названия и обсудить славное будущее. Да! Еще с Лешей была невеста.
Мы расположились в кафе, заказали бутылку шампанского и стали обсуждать несомненные перспективы своего ансамбля, который, впитав все лучшее у битлов и роллингов, поразит, конечно же, воображение окружающего мира. Из-за соседних столиков на нас хмуро посматривали завсегдатаи. То есть фарцовщики и «грузины». Кстати, всех состоятельных выходцев из южных республик называли почему-то грузинами. Завсегдатаи с аккуратными прическами носили пиджаки в клеточку и разноцветные рубашки. А мы бросались в глаза своей неухоженной лохматостью. Семиотическое неприятие нашего появления обернулось вот чем. На выходе в гардеробе начали получать одежонку. Воспитанный Леша стал ухаживать за невестой. Подал пальто. Вокруг собралась, демонстративно матерясь, компания фарцовщиков и грузин.
– Вы не могли бы перестать браниться? – произнес вежливый Леша.
– Ах, браниться, – раздалось со стороны компании, и она стала надвигаться.
Опыт страха у меня уже имелся. Я с разворота ударил ближнего и бросился в гущу наступавших. Вокруг мелькали руки и ноги. На мне висело человек пять. Я отмахивался гитарой «Иолана» и вопил как берсерк. Леша так и стоял с пальто в руках. Саша методично бил фарцовщиков по зубам. А Михаил даже не успел ничего предпринять, как сражение закончилось нашей рок-победой. В начальной стадии в «Санкт-Петербурге» играло несколько моих приятелей по легкоатлетической сборной. Одно время на басе подвизался метатель молота Юра Баландин, теперь заслуженный тренер России.
Мы выскочили на Невский проспект разодранные, но счастливые. Славное будущее было окроплено хотя и не нашей, но кровью.
Помню схватку возле пивного бара «Жигули» на Владимирском проспекте. Случилось как-то мордобойное дело у дверей кафетерия на углу Литейного проспекта и улицы Некрасова. Каждый раз мне помогала отбиваться от антагонистов гитара «Иолана». Эту чешскую электрическую доску за сто тридцать пять рублей в специализированном магазине у метро «Маяковская» мне купила мама. Так она поддержала увлечение сына.
Окружающий мир нападал на меня из-за моего внешнего вида. Смешно, но это именно так.
И еще раз была доказана аксиома мужских взаимоотношений, выраженная в уличном лозунге «Бей длинного!». Обладая довольно высоким ростом, в котором, собственно говоря, виноват не я, а мой гипофиз, я имел и имею постоянно проблемы с мужским окружением…
А вот что мне рассказал при встрече знаменитый байкер из Пскова Александр Бушуев.
«Я учился в Ленинградском речном училище в начале 80-х. Массовые драки были чуть ли не еженедельным событием. В основном дрались у ДК моряков на Двинской в двухстах метрах от училища. Обычно в пятницу-субботу вечером после отбоя в роту заваливал какой-нибудь побитый браток с воплем: „Наших бьют!“ И все, кто не в увольнении, бежали, наматывая ремни на кулак и застегивая штаны… Дрались в основном со „шмонькой“. Так называлось соседнее училище, где обучались будущие матросы и мотористы. В „шмоньке“ обитали взрослые парни, прошедшие службу в армии. А наши все – недавние школьники. Силовой перевес был на их стороне. За год до моего поступления случилась очень мощная драка в ДК им. Горького. В Доме культуры билось около тысячи морячков. Кончилось тем, что, отступая в сторону Автово, наши курсанты перевернули трамвай и несколько милицейских „бобиков“. Британское Би-би-си назвало это событие „восстанием черных кадетов“. Начальник училища на следующий день построил всех на плацу, дал команду „На первый-второй рассчитайсь!“ и уволил каждого второго…»
В те годы мы дрались каждые выходные на танцах в ДК работников связи. Отбивали пространство и барышень у студентов Лесгафта и курсантов Военного училища им. Попова… Изредка приходили за «угощением» студенты ЛГУ… С ними было проще всего.
А вот история Ольги Покуновой. В годы правления Михаила Горбачева она пела в бэк-вокальной части рок-банды «Санкт-Петербург».
«Может, кто-то помнит, как в начале 80-х появился в Ленинграде так называемый Отряд активного действия, ОАД. Среди прогрессивной молодежи ходили страшные слухи: тут кого-то побили, там кому-то волосы обрезали. Лютовали вообще как подмосковные любера. Короче, иду я однажды по Невскому с двумя сайгоновскими приятелями Тони и Горой. Ни к хиппи, ни к панкам мы не относились. То есть свой альтернативный взгляд на жизнь внешне проявляли слабо. Тони – красавчик типа „хеллоу, Элвис“, а Гора просто здоровенный и добрый детина. Я же – блондинка эстонского типа, у меня и кличка имелась Хельга. И только мы начали обсуждать тему ОАДа, как видим – нам навстречу идут парни, на рукавах красные повязки, а на них белым написано не ДНД (Добровольная народная дружина), как обычно, а это самое странное ОАД. И получилось, что не они нас, а мы их затормозили. Тони своим прекрасным баритоном вежливо так спрашивает:
– Ребята, а кто это вы такие и что это у вас за повязки?
Ребята отвечают:
– Мы члены Отряда активного действия, очищаем любимый город от всякой дряни.
– А от какой такой дряни? И как вы его очищаете? – не унимается Тони.
– А мы, – говорят, – ловим и бьем всяких там хиппи и панков.
Тут Гора берет их обоих за шкирки и тянет в подворотню со словами:
– А мы, ребята, и есть хиппи и панки. А ну пойдем нас бить.
Меня, как девочку, снаружи на стреме оставили. Поэтому я только и видела, как сначала из подворотни выбежал один ОАД, а минут через пятнадцать второй. Оказывается, они сначала возмутились, что силы не равны, и пригрозили позвать подмогу. Первого сразу за подмогой и отпустили. А второй просто сел на асфальт и заплакал. Пришлось и его отпустить с миром. Вот такая странная история про драку, но без драки…»
Бытовые традиции советских драк еще никто и нигде не описывал. Будем надеяться, что этот краткий экскурс подтолкнет краеведов. В заключение скажу, что:
1. Драться нехорошо.
2. Без драк, хоть в минимальном объеме, ни одна молодость не проходит.
3. Драки в ленинградское время проходили без смертоубийств. Потому что народ был добрее и потому что оружия на руках не имел.
Кафе «Сайгон»
Прошло столько лет. Мне уже и не стыдно, что в середине 70-х я считал себя поэтом.
Я иду через Аничков мост.
Вдоль гранитов щербатых.
Скоро кофе мне пить.
Невский толпами плотно забит.
Букинист разложил свои книги.
И хозяйки толпятся у лавок.
Пересуды, улыбки и крики.
На изгибах стены
Ветер треплет случайные блики.
Ремонтируют дом.
И афиши вопят о гастролях.
Мне навстречу идет старичок.
Он сердит и расстроен.
Плачет внук,
И трясутся у дедушки руки.
Обгоняя, спешит
Представитель советской науки.
Скоро шесть.
Стрелок жесть. Словно жезл – восклицательный знак.
Угловые дома
Смотрят в блюдо настенных часов.
Сам проспект как удар восклицаний.
Вой сирен, град шагов, скрип рессор.
Многотысячных лиц кинокадр.
Это жизнь!
Синих джинс пляшут старые клеши.
Скоро шесть.
Разговоров незримая сеть.
Пыль, как сто паутин, на домах.
Говорят, говорят о делах,
О вещах, не имеющих смысла.
О картинах, стихах и квартирах,
О прошедших веках.
О неоне, который не вечен
И похож на огромные свечи,
На растопленный воск…
Всевозможные слышатся речи.
Я иду через Аничков мост!
Что за странное, присущее лишь бывшей имперской столице место, кафетерий при ресторане «Москва», получивший народное название «Сайгон»! Явно в честь американо-вьетнамской войны, разразившейся в 60-е годы прошлого столетия. Открылся кафетерий осенью 1964 года и стал кульминацией кофейной революции в Ленинграде.
В городе, живущем на параллелях и перпендикулярах, на угол Невского и Владимирского проспектов вы попадете почти всегда. По делам ли стремительно рыщете или праздно гуляете в одиночестве. «Сайгон» являлся, собственно, частью ресторана «Москва», который занимал сразу три этажа углового дома. Со дня открытия «Сайгон» стал местом сборища всякой артистической публики. Хрущевская «оттепель» еще не растратила своего сладостного демократизма, хотя самого Никиту Сергеевича в октябре 64-го отправили в отставку.
«Сайгон» являлся довольно объемным и коридорообразным пространством. Одной стороной сквозь большие окна он смотрел на Владимирский проспект. Противоположная стена первоначально была расписана какими-то озорными петухами в народном стиле. Перед петухами располагалась стойка с кофеварками. В дальнем конце заведения продавали люля-кебабы. У входа же имелся бар, где наливали коньяк. При входе на стене висел телефонный аппарат, как правило, не работающий.
О феномене «Сайгона» можно долго говорить и проводить конференции. С моей же точки зрения, причина появления такого необычного места связана с отсутствием светской жизни в городе на Неве. Ее, собственно говоря, и сейчас нет. В какие общественные места можно было заявиться молодому человеку, студенту, где у него имелся бы шанс пообщаться со сверстниками или более старшими товарищами или послушать какого-нибудь интересного гостя?
Имелись, конечно, разные Дома писателей, актеров, архитекторов и журналистов. Там что-то иногда происходило за закрытыми дверями, но в недостаточном все-таки объеме.
А тут – абсолютно бесцензурная территория в центре города.
В кафетерии появилась уйма молодых поэтов, всклокоченных ниспровергателей, и художников, заново осваивающих умерщвленный, казалось, русский авангард. Явились доморощенные философы, нервные и бледные. Богема, одним словом, сходилась на главном перекрестке за чашкой кофе. Тогда еще особо не пьянствовали, хотя это можно было сделать легко – на перекрестке работало сразу два гастронома с винными отделами…
Про «Сайгон» уже написано много, снимались телепередачи. Поэтому я стану придерживаться личных воспоминаний.
Первый мой заход туда состоялся поздней осенью 1967 года. Став первокурсником, я завел в университете новых друзей. Как-то после закрытия академической столовой, где я часто проводил время, сокурсник предложил мне съездить в одно место.
– Что за место такое? – поинтересовался я.
– Сам увидишь, – ответил студент. – Там ужас что говорят!
До главного перекрестка мы добрались минут через пятнадцать. Запомнилась толкучка и бесконечная очередь, в которой нам пришлось постоять. Приятель тут же влез в беседу тех, кто стоял перед нами. Они говорили про иконы, произносили слово «онтологический». Нас, семнадцатилетних, вежливо, но настойчиво отшили.
Вокруг происходило что-то необычное. Таких типажей в таком количестве и в одном месте я еще не видел. Место я запомнил и стал туда наведываться регулярно. Рядом на Фонтанке находились учебные залы Публичной библиотеки, где мне приходилось готовиться к экзаменам или корпеть над курсовыми. Часто я тренировался и выступал на соревнованиях, проходивших на Зимнем стадионе – тоже рукой подать до «Сайгона». Да и возраст подталкивал к поискам новых впечатлений.
Где-то в 1968 году у меня началось хроническое хиппование. Группа таких как я, подружившихся в «Сайгоне», после девяти вечера, когда кафетерий закрывался, отправлялась в салон мадам Клары. Девушка с таким именем работала дворником в доме на Литейном проспекте, ближе к улице Пестеля, и имела служебную комнату. Там сидели и болтали до последних трамваев. Не помню уж и о чем. В доинтернетную пору всякие новости доходили в виде устных рассказов и сплетен. У Клары имелась гитара, и я что-то на ней сыграл, сорвав аплодисменты. Это был, кажется, хипповый международный хит того года «Иф ю гоуинг ту Сан-Франциско…».
В далеком таинственном недостижимом Сан-Франциско в конце 60-х все хиппи и тусовались.
Короче, будучи человеком социально вполне успешным, я с головой ушел фактически в маргинальную среду.
Скажу еще раз: «Сайгон» поражал людьми, которые там толклись.
Посещение заведения складывалось, как правило, из трех главных фаз. Первым делом следовало встать в очередь к кофейному агрегату. В ней можно было простоять бесконечно долго. Постоянно подходили люди к тем, кто находился перед вами, протягивали мелочь и просили взять маленький двойной. Цена на кофе медленно поднималась, достигнув ко второй половине 70-х своего максимума – 28 копеек за маленький двойной. Кроме кофе тут продавались и пирожные, но для постоянной публики есть пирожные считалось не комильфо.
Получив кофе, следовало пристроиться за столик. Первое время «Сайгон» заполняли обычные столики со стульями. Борясь с постоянной публикой, столики со стульями убрали, заменив их на высокие столы без стульев. Отдельные персонажи проводили в кафетерии по нескольку часов стоя. Когда освобождалось место на низеньком подоконнике, садились на подоконник. Но иногда с чашкой кофе просто выходили на улицу.
Потолкавшись в «Сайгоне», следовало прибиться к какой-либо компании и отправиться в интересные гости, на вечер поэзии или просто в садик выпивать с друзьями.
Вот типичная сцена из внутреннего быта кафетерия.
За столиком расположилась парочка, влюбленные альтруисты-второкурсники. Друг на друга им не надышаться, рука в руке, улыбаются, словно идиоты. Шаркая полиомиелитными ногами, к столу подбирается Витя Колесников по прозвищу Луноход или Колесо, раскосый заика, прохиндей и профессиональный побирушка. В церковные праздники он напяливает подрясник и у Никольского собора просит милостыню, набирает мешок мелочи, пропивает набранное. А в будние дни побирается в «Сайгоне», но уже с видом хозяина и завсегдатая, спекулируя на чувствах влюбленных альтруистов.
«На-на кофе не ба-а-агаты?» – спрашивает Луноход у студентов.
Альтруист механическим движением свободной от объятий руки достает из кармана куртки горсть всех своих нехитрых накоплений и протягивает Луноходу ладонь, полную мелочи. Возьми, мол, сколько надо. Хромуша медлит, шаркает возле стола, двадцати восьми копеек на чашку двойного не берет, но поступает как истинный профессионал, владеющий основами психологии. Он протягивает руку ладонью вверх и останавливает ее вровень с ладонью, полной мелочи. После мгновения нерешительности альтруист начинает медленно пересыпать мелочь Луноходу и пересыпает всю под счастливым взором влюбленной альтруистки, оставаясь без единой копейки, но сохраняя бодрый идиотический вид.
До 1970-го я мало с кем из местных знаменитостей мог общаться. Но хорошо запомнил поэта Константина Кузьминского. Такой лохматый и бородатый дядька, несколько сутулый, с огромным посохом в руке. Переехав позднее жить за океан, Кузьминский издал многотомную антологию неофициальной ленинградской поэзии под названием «Голубая лагуна», в которой положительно отозвался и о песнях моей рок-банды «Санкт-Петербург». Оказывается, он несколько раз приходил на наши выступления и внимательно вслушивался в песни.
Показали мне и другого поэта – тонкого, ухоженного, с восточным лицом, ходившего не с посохом, а с тонкой тросточкой. Его звали Виктор Ширали. Был поэт несколько надменен, прихватывал девушек всех подряд.
Познакомился и много беседовал я с человеком, который представлялся как Славко Словенов. Довольно высокого роста, худой, с вытянутым лицом, носивший шляпу и куривший сигареты через мундштук.
Славко переводил рубаи Омара Хайяма: чем-то ему уже существовавшие переводы не нравились.
В те юные годы я выпивкой не интересовался, популярным гитаристом до осени 1970-го не был и поэтому для более старших сайгонавтов интереса не представлял.
Но сложилась группа сверстников – с ними я по-настоящему дружил. Выделялся в ней Миша Генделев, студент медицинского института, человек импульсивный, постоянно читавший свои стихи. И написавший на тот момент даже поэму. Было нам лет по восемнадцать-девятнадцать. Роста Генделев небольшого, вечно нападал на меня, дылду, с вопросом: «Скажи, скажи! Как правильно пишется – экзистенциализм? Или экзистенционализм?»
Он так тогда меня запутал, что я и теперь не знаю.
После пути наши разошлись. Генделев отправился в Палестину, где ему пришлось побывать санитаром в танковом батальоне. Я его не видел несколько пятилеток. Встретились мы, когда страной уже управлял Михаил Горбачев. Была весна. Я стою во дворе Ленинградского рок-клуба на улице Рубинштейна и греюсь на солнышке. Вдруг из арки появляется фигура в желтых штанах. Человек подходит и останавливается. Я разглядываю темное лицо с узкой бородкой, узнаю в подошедшем старого приятеля и не нахожу ничего лучшего, как произнести глупость: «Ну ты и загорел!..»
Бродил по «Сайгону» неопрятно одетый и небритый человек, ну типичный уголовник. Подходил ко мне, заводил разговоры. Я от него уворачивался как мог. Казалось, еще чуть-чуть и что-нибудь украдет. Позже я узнал, что это поэт по фамилии Безродный.
Постоянно я видел в «Сайгоне» и крепыша с усами Геру Григорьева. Он сочинял исторические драмы в стихах, но этих драм никто не видел. Жил Гера не поймешь где, фактически бомжевал.
В значительной степени называться поэтом оказывалось своеобразным оправданием перед собой и миром за бесцельное существование. Большинство из таких поэтов ничего не создали. Хотя, конечно, в «Сайгоне» появлялись и фигуры в будущем мировой известности. Иосиф Бродский хотя бы. Живший неподалеку писатель-алкоголик Сергей Довлатов заходил сюда. Впрочем, не рассуждать о литературе. А просто выпить.
Поэтическая элита облюбовала другое место – кафетерий на Малой Садовой. Если свернуть с Невского проспекта за Елисеевским магазином и пройти метров пятьдесят, то вы окажетесь у здания, где ковалась литературная история. От того кафетерия, а точнее, кулинарии не осталось и следа. Там выделялся поэт Владимир Эрль, высокий худощавый человек с крупными чертами лица и висячими усами. Я его знал только в лицо. Говорили, будто он работает продавцом в газетном киоске. И действительно я видел его в киоске возле гостиницы «Европейская».
Понятное дело, публику «Сайгона» составляли не только поэты. Сюда заходили прохожие или туристы просто перекусить. Тут появлялись всякие прелестницы в надежде познакомиться, и у многих это получалось. Здесь же встречались в алкогольных целях всякие веселые компании без особых поэтических поползновений. Вокруг молодых пьяниц из профессорско-академических семей, таких как Коля Черниговский и Леон Карамян, складывались компании. Яшугин, Чарный, Ставицкий, Чежин… Всех не назовешь.
Следует назвать, конечно, Боба Кошелохова, разнорабочего, философа и художника. Боб носил волосы длины неимоверной, наверное до копчика. Он жил напротив и мог зайти в «Сайгон» в домашних тапочках. Кошелохов демонстрировал особый шик перед изумленной, так сказать, публикой кафетерия. Подойдя к кофеварщице Стэлле, понятное дело, без очереди, произносил классическую фразу: «Мне, милая, маленький четверной кофе. И воды поменьше».
Если как-то классифицировать идеологию места под названием «Сайгон», то 60-е годы я бы назвал периодом битников. 70-е – временем хиппарства. А 80-е годы «Сайгона» – это уже нашествие панков.
Битниками можно назвать Виктора Кривулина, Владимира Эрля, Словенова, Безродного. Всех их отличала какая-то помятость и безвкусица внешнего облика. Какие-то немыслимые шляпы, длинные, будто с чужого плеча, пальто, шляпы, банты, дурацкие бороды.
Хиппари, например, за собой следили. Наличие настоящих американских джинсов было обязательным. Доставай где хочешь! Нет джинсов – ты не хиппи.
Запомнилась молодая женщина по фамилии Саламандра.
В «Сайгоне» постоянно шушукались насчет стукачей. То есть таких людей, которые втираются в компании, подслушивают и доносят в какой-нибудь Комитет государственной безопасности. На здании напротив, где нынче ресторан «Палкин», висели большие часы. Прошел слух, что в часы вмонтирована кинокамера, она всех снимает. Называли стукачом Колесникова – этот хромуша действительно подходил ко всем, заводил, заикаясь, разговоры.
Было бы неправильным называть тот советский режим совсем уж безобидным. Если ты нарушал правила, то мог и пострадать. По крайней мере, оказаться под пристальным вниманием. Тот же Боб Кошелохов вот как вспоминает:
«Я читал философскую литературу, в основном экзистенциалистов. С Таней Горичевой и с другими ребятами с философского факультета мы делали подстрочники, переводили. Когда гэбэшники спрашивали, что я делаю в „Сайгоне“, то отвечал им по-шоферски грубовато: „Бабу ищу“. Я тогда действительно шофером вкалывал. Спрашивали: „Что читаешь?“ – „Как что читаю? Мопассана!“ – „А почему?“ – „Так надо ж с бабой как-то разговаривать. Сам-то я не умею…“»








