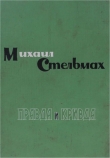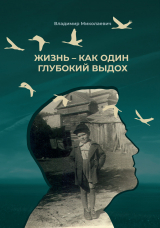
Текст книги "Жизнь – как один глубокий выдох"
Автор книги: Владимир Миколаевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Ещё помню огромную широкую лестницу, по которой мне приходится долго, с трудом подниматься… Мама рассказывала, что в Манчаже[1]1
Манчаж – село в Свердловской области.
[Закрыть], где в эвакуации мы жили какой-то период, бабушка работала на швейной фабрике, к которой действительно вела широкая лестница, и по ней меня пару раз водили к бабушке. Но лестница, по словам мамы, не была такой уж крутой и высокой. (Легко вам, взрослым и большим, рассуждать, а вот человечку, который от горшка два вершка, она казалась высоченной…)
Помню огромную комнату, в которой было много людей и детей, и много-много игрушек. И из всего этого игрушечного изобилия лучше всего помню педальный автомобиль… Он меня потряс на долгие годы! Но это – уже более позднее воспоминание: летом 1944 года, после освобождения Белоруссии от фашистов, мы возвращались через Москву и на Белорусском вокзале какое-то время находились в комнате матери и ребенка, где я и увидел этот чудо-автомобиль… Было мне тогда немногим более трех лет.
Больше из того времени я ничего не помню.
Как-то я читал автобиографические воспоминания Михаила Зощенко… Так, у него написано, что он помнил себя чуть ли не эмбрионом в утробе матери и, находясь там внутри, слышал, как родители разговаривали… Во врал мужик!..
Наступил 1944 год. Конец войны был всё ближе, и надо было готовиться к мирной жизни. Видимо, в госаппарате были люди, которым поручили заниматься этой подготовкой. И кадровики вспомнили про папу: опытный землеустроитель, родом из Белоруссии… И предложили ему работу в Минске, в Народном комиссариате землеустройства БССР. Работать в столице республики во всех отношениях было бы более престижно и перспективно. Но ведь где-то в Литве потерялись дети, и надежда найти их продолжала жить… А поскольку из крупных белорусских городов ближе всего к Литве был Гродно (всего 20 км), отец попросил послать его именно туда. И ему пошли навстречу…
И вновь вынужден я прервать плавное повествование и вернуться к вопросу о работе почты во время войны.
Папа, как я уже писал, с 1943 года работал инструктором в Свердловском Доме офицеров. Чем именно он занимался в тот день, я не знаю: может, мне не рассказывали, а может, я не запомнил этой детали…
Он вдруг услышал, что в коридоре кто-то бежит… Бежит как-то странно, очень тревожно, спотыкаясь… Потом открылась дверь и вбежала жена, растрёпанная, вся в слезах, с треугольником письма в руке… У отца ёкнуло в груди: «Какая ещё напасть?».
А мама сквозь слёзы только и смогла сказать: «Коля, девочки живы…».
Это было непередаваемо. Большего счастья не нужно было. Большего – и быть не могло. С души свалился груз неизвестности и страха. Почти 800 дней и ночей мама и папа жили, ничего не зная о своих дочерях. Когда всё кругом кричало о смерти, горе и несчастье, когда по всей стране похоронки ежедневно стучались в тысячи дверей, мои родители, придавленные войной, молча мечтали о чуде, жили одной лишь надеждой, боясь слишком в неё поверить, чтобы не сглазить, не спугнуть её. И надежда сбылась…
Что же произошло с девочками?
Я уже писал, что к началу войны одной сестре было 11 лет и восемь месяцев, другой – 10 лет и два месяца. Детишки… И вот какие воспоминания о том времени остались у них…
Утром 22 июня они проснулись от взрывов, стрельбы и сильного запаха пороховой гари… «Это – учения…», – объяснили вожатые. Но очень скоро стало ясно, что это – совсем не учения… У забора неподвижно, лицом в землю лежал красноармеец… В небе гудели самолёты… Бомбили. Загорелся соседний лагерный корпус… Погиб один из вожатых.
ВОЙНА!!!
Детишкам приказали быстро собрать вещи и выходить на улицу… Также было сказано избавиться от пионерских галстуков… Избавлялись кто как мог – бросали в кусты, на помойку, в туалеты. Некоторые воспитатели куда-то исчезли (нетрудно предположить, что они спасали собственную жизнь, наплевав на малышей). Несколько оставшихся воспитателей и вожатых, самые честные и порядочные, повели детвору вдоль моря на север, в сторону Латвии… Дети быстро устали, стали выбрасывать в море вещи – не было сил их тащить… К вечеру добрались до Латвии (а всего-то километров 20…). Набрели на немецкую полевую кухню. Немцы попались добрые и покормили детей. Правда, мисок ни у кого не было, и кашу детям положили в их носовые платочки. Заночевали на каком-то хуторе, на сеновале…
А утром почему-то пошли обратно в лагерь… А там – уже немцы, которые отобрали еврейских детишек и куда-то их увезли. А остальных детей забрали представители Международного Красного Креста и повезли в Каунас.
Для меня, когда я был мальчишкой в школе и, как все одноклассники, был членом Красного Креста и Красного Полумесяца, регулярно платил какие-то копеечные взносы и приклеивал членские марки в членский билет, было удивительно, что с самого начала войны на оккупированной территории Литвы появился какой-то Красный Крест. Много позже, работая в Женеве и общаясь по долгу службы с этой уважаемой организацией, я узнал, что СССР на начальном этапе своей истории не присоединился к Конвенции Красного Креста, а Литва, будучи самостоятельным государством, присоединилась. И поэтому в 1941 году, как только германские войска вошли в Литву, за ними пришёл туда и Красный Крест. Вот он-то и занялся детьми.
В Каунасе детей отдали в приют при женском монастыре. В монастыре их крестили и дали новые имена: Александра и Татьяна, – а вскорости детей стали раздавать в литовские семьи. Одна из моих сестёр попала в семью к католикам, другая – в семью к староверам. В пору реформ патриарха Никона 1650–60 годов немало православных на Руси не приняли реформы и убегали целыми деревнями: кто – в Сибирь, кто – на север к Белому морю, а кто – на запад. Какая-то часть православных осела и в Литве…
В принявших их семьях сёстры имели свои обязанности: помогали по хозяйству, по кухне, нянчили детишек, но одновременно ходили в местную школу при православной церкви. Долгие годы после войны сёстры поддерживали сердечные отношения с теми, кто их когда-то приютил…
За годы жизни в Литве сёстры основательно выучили литовский язык, и когда они говорили на литовском, их принимали за литовок… А моё любопытство в детстве оставалось неудовлетворённым, если они, обсуждая какой-либо очень интересный, как мне казалось, вопрос и увидев моё вытянувшееся в их сторону ухо, переключались на этот непонятный мне язык… Одна из сестёр очень хорошо училась и даже получила в каунасской школе за успехи в учёбе подарок: книгу поэм и стихов Пушкина. Почему я запомнил – потому что всё моё детство эта книга жила на книжной полке. Эта полка-стеллаж была сделана папой из сосновых, им же поструганных досок: две вертикальные несущие, в рост человека, и несколько горизонтальных. Единственная краска, которая была в доме, – половая охра, ею покрасили и стеллаж. После войны книг у нас почти не было, и долгое время на полупустой верхней полке одиноко стоял томик стихов Пушкина со знакомым профилем Александра Сергеевича на обложке.
Убегая из Каунаса, мои родители бросили всё имущество, которое по большей части было перевезено из Слуцка, за исключением двух плетёных из ивовых прутьев корзин, с которыми мама прожила всю войну, куда были сложены какие-то носильные вещи. До сих пор помню эти смешные белые корзины: отдалённо они имели форму приплюснутых чемоданов, были какие-то ужасно скрипуче-трескучие и производили впечатление полной рухляди… Но и после войны, год за годом они, скрипя, продолжали жить и, как могли, приносили пользу…
Родители рассказывали, что мебель, привезённая ими в Каунас из Слуцка, была старинная и качественная: из дуба и карельской берёзы. Был там и хороший книжный шкаф. Сёстры во время оккупации как-то раз пришли в свою бывшую квартиру в Каунасе и видели, что этот шкаф, как и другую мебель, «приютили» соседи-литовцы. После войны жили мы исключительно бедно, и можно было бы съездить в Каунас, чтобы отыскать и вернуть хотя бы часть своих вещей, но мама категорически заявила, что литовцы спасли ей дочерей и пусть это имущество будет проявлением благодарности… Аргумент, что благодарить нужно одних, а имущество прихватили совсем другие, не действовал.
И в этом маму нетрудно понять… Жить три года в обстановке тяжелейшей войны, когда кругом столько гибло и взрослых, и детей, жить и бояться надеяться, а потом вновь (о, чудо!) обрести дочерей – за это можно не только имущество отдать…
После освобождения войсковыми формированиями городов и сёл от противника обязательной практикой было проведение зачистки и фильтрации в целях выявления спрятавшихся немцев, их пособников и коллаборационистов, предателей, дезертиров, то есть «антисоветского элемента», как было принято говорить в то время. И это входило уже в обязанность спецслужб НКВД. В частности, они должны были изучить массу различной документации: списки расстрелянных, депортированных, интернированных и т. п. (война войной, а бюрократия своё дело знает). Так вот, в числе тех, кто разбирался с документами в Каунасе, оказался выходец из Слуцка, и, когда ему попал в руки список детей, вывезенных Красным Крестом из Паланги в Каунас, он заметил знакомые фамилии. Приказал детей разыскать, что и было сделано. Выяснилось, что девочки помнили адрес своего дедушки, жившего в Слуцке.
Тогда деду написали письмо: дескать, приезжайте, забирайте внучек… А я не перестаю удивляться: письмо дошло до адресата на только что освобождённой от врага территории!
Поскольку деду в 75 лет такая поездка была уже не под силу, он написал маминой сестре в Щучин: надо забирать детей… И вновь письмо не потерялось. А Щучин – это маленький городок примерно в 60 км к востоку от Гродно, тоже только что освобождённый. Ещё до войны в этом городке поселилась сестра мамы (моя тётка Мария). С ней жили трое её детей и её мама (моя бабушка Юля).
В товарных поездах и на попутных военных грузовиках тётя Мария добралась до Каунаса и увезла племянниц к себе. А где родители и живы ли они вообще – это нужно было ещё выяснять.
И вновь помогла почта.
Из Свердловска одна сестра написала другой в Щучин, чтобы узнать, как перенесла войну сама, как бабушка Юля, как племянники. А в ответ получила: твои доченьки у меня…
Осенью мои родители смогли приехать в Гродно и сразу же поехали в Щучин. И там, через три года и пять месяцев разлуки, увидели своих девочек… Живых! Подросших, повзрослевших, но таких милых, таких любимых! Легко представить себе, какой же это был праздник, сколько было слёз, сколько радости, нескончаемых воспоминаний и разговоров.
У меня же, и теперь мне стыдно об этом вспоминать, было чувство ревности: до этого я был в доме единственным ребёнком, всегда в центре внимания родителей, а тут вдруг появились две какие-то странные «сёстры»… Но что хотеть: я же был чуть старше трёх лет. До многого мне предстояло ещё дорасти.
В годы войны в некоторых семьях погибли все до одного: и взрослые, и дети. В других семьях погибали либо дети, либо взрослые, либо кто-то из родителей, либо кто-то из детей. И в сравнении с такими семьями история моей семьи не трагична и даже не драматична. Со счастливым концом, можно сказать: все выжили и после войны встретились. Но, видимо, эти годы разлуки были таким тяжким бременем, настолько мои близкие напереживались, что в дальнейшие годы забыть пережитого никто не мог, и всегда, когда заходил разговор о военном времени, мама и сёстры непременно плакали. Очень горько плакали, особенно мама.
И даже я, вспоминая их рассказы и то, как они плакали, всякий раз чувствую, что в горле растёт комок и глаза застилают слёзы…
Ведь не случайно много-много лет после войны первым тостом любого застолья в нашей стране был: «Чтобы не было войны!».
Как прекрасен этот мир
Человека формирует окружающая среда, то есть жизненные условия. Разумеется, первое слово за генетикой: из дуба ель не сформируешь. С детства я слышал: сова не родит сокола… Теперь же стало модно говорить, что «от осинки не родятся апельсинки».
Но после того как человек родился либо осинкой, либо апельсинкой, дальше начинают действовать внешние силы. Человек, как растение: он может вырасти большим и сильным, а может оказаться согнутым, а то и вообще искорёженным жестокими ветрами жизни.
Серьёзнейшее воздействие на формирование людей моего поколения в нашей стране оказало, конечно, послевоенное время со всеми его недостатками и особенностями. Для меня это послевоенное время протекало в Гродно, городке на западе Белоруссии.
Итак, с осени 1944 года наша семья стала жить в Гродно.
Если на Урале и в Сибири в годы войны нас с сочувствием называли «беженцами», то в этом западном городке таких, как мы, звали «восточниками», и очень часто не только без сочувствия, но и со скрытой антипатией… Для многих местных жителей, «тутэйших»[2]2
«Тутэйшы» – белорусское слово, производное от слова «тут». Тот, кто тут живёт, т. е. местный.
[Закрыть], мы были, говоря языком современным, своего рода понаехавшими.
Но само это сравнение, конечно, не точное: у современных «понаехавших» где-то есть дом, который они временно оставили в поисках лучшей доли и в который они всегда могут вернуться… Нам же возвращаться было некуда… В том, 1944, году те из нас, что приехали из разрушенных восточных областей России и Белоруссии, по сути, были типичными погорельцами – и точнее о нас не скажешь…
Ни кола, ни двора!
Однако сочувствия у многих коренных гродненцев мы не вызывали, а для антисоветской и ориентированной на Польшу части жителей мы и вообще были «оккупантами»… Но до тех пор, пока не распался Советский Союз, своего истинного к нам отношения они не выказывали.
Кроме двух ивовых корзинок, с которыми мама бежала из Каунаса, другого имущества у нас не было. А в тех корзинках – немного постельного белья, несколько полотенец, да кое-какие носильные вещи, которых за время войны больше не стало, и новее они тоже не стали. Вот и всё имущество.
Да ещё уцелел с десяток фотографий из того невероятного прошлого, в котором не было войны, а были мир и благополучие… Неужели такое было?!
А главное «имущество»: трое детей, которых нужно кормить, одевать, растить!..
О самом-самом начальном периоде жизни в этом городке воспоминания у меня туманные, обрывочные, что и неудивительно, поскольку по приезде было мне всего три года и несколько месяцев. В памяти остались, образно говоря, отдельные смазанные картинки. Но, тем не менее, иногда они интересны, поскольку иллюстрируют тот навсегда ушедший срез времени.
Война ещё не закончилась, однако мне довелось увидеть, образно говоря, лишь слабые тени уходившей на запад Великой Отечественной, услышать отголоски затихавшей грозы… И хотя в городке иногда ещё звучали сирены воздушной тревоги и раздавались отдалённые взрывы бомб, а при вое сирены мы с сёстрами прятались с головой под одеяло, война из Гродно уже ушла.
Чисто формально я, конечно, современник той героической эпохи, хотя хорошо понимаю, что «современник в три с небольшим года» – звучит смешно. Но и полностью отрицать мою, пусть пассивную, пусть слабо осознанную, сопричастность с тем тяжким временем тоже было бы неправильно. Ведь я же жил в те годы: смотрел по сторонам, реагировал, воспринимал, переживал, радовался и расстраивался, смеялся и плакал. То время и меня формировало.
«Дети войны» – так очень правильно позднее назвали наше поколение. У войны много лиц… Война – это ведь не только боевые действия: отступления, наступления, блокады, бомбёжки, обстрелы, кровопролитные атаки, безнадёжная оборона, подвиги, – и даже сама смерть. Это – и оккупация, и эвакуация, и забитые беженцами теплушки. Это – тяжкие будни, адский труд и послевоенное совсем не геройское выживание… Это – сироты и переполненные детдома и приюты. И очереди, и хлеб по карточкам, и пустые полки магазинов. И тиф, и вши, и холод. И жизнь в полупроголодь в полуподвалах и бараках. И сны о том времени, когда всё было по-другому и которое никогда не вернётся.
Именно эту сторону войны, прежде всего, видели дети, хотя могли и не понимать всего драматизма, а то и трагизма своей жизни, поскольку им не с чем было сравнивать…
Для «детей войны» грозились принять какие-то специальные программы социальной помощи. Правда, за исключением немногих регионов, включая Москву, дальше обещаний, к сожалению, дело не пошло… Не смогли благодетели даже определить рамки термина и к кому его применять… Видимо, когда «дети войны» на 90 % вымрут, тогда и социальные программы подоспеют. Тем более, что уже есть опыт обеспечения жильём ветеранов войны!.. Как говорят в Белоруссии, «обяцанки-цацанки – дурню радость!». Но, кажется, я отвлёкся от воспоминаний о прошлом…
В мае 1945-го войне с фашистской Германией пришёл конец. И я очень хорошо помню, как в июне праздновали День победы в Гродно: тачанки и всадники на площади Ленина в центре города были окружены ликующими людьми. Танков не было – думаю, потому что своими гусеницами эти многотонные «монстры» разворотили бы все улицы городка.
Смех, шум, крики «ура», песни. На площади обнимались незнакомые люди. В руках – букеты сирени, тюльпанов и нарциссов, которые отдавали военным. Где-то играли гармошки. Сам воздух был переполнен радостью…
На площадь я пришёл с родителями и сёстрами. В руках у меня тоже был букет цветов, который я отдал какому-то военному кавалеристу, поднявшему меня к себе в седло. Как это было захватывающе: сидеть высоко на лошади вместе с военным и видеть всю площадь, а мне, ребёнку, она тогда казалась очень большой…
Много позже поэт скажет: «…это – праздник со слезами на глазах». Наверняка, он был прав: не могло не быть и слёз радости от Победы, и слёз боли по тем, кто до неё не дошёл. Но лично я слёз не помню, вероятно, потому что был слишком мал, чтобы их разглядеть… А вот чувство невероятной радости – помню! Она на той площади била через край и, казалось, охватила всех.
Конечно, теперь, по прошествии многих лет, когда в странах Балтии, на Украине, в Польше вылезла наружу русофобия, понятно, что и в Гродно, этом западном городке, помимо ликующих должны были быть люди, которым тот праздник нашей победы был поперёк горла. Но тогда в бессильной злобе они попрятались и, думаю, на празднике победителей просто не рискнули появиться. Поэтому на площади собрались только те, кто искренне радовался Победе…
С каждым последующим годом, прожитым мною в Гродно, воспоминания становятся всё более отчётливыми. В памяти о том времени главными остаются не выстрелы по ночам, хотя они, конечно, были, и не развалины и пепелища, хотя и они были (при том, что вообще-то в войну Гродно не сильно пострадал). Гораздо сильнее запомнилась та атмосфера горя и боли, которая окружала всех нас в течение многих лет после войны. Война вроде бы окончилась, но она так глубоко перепахала наше жизненное пространство, такие оставила воронки, столько насеяла несчастья и зла, что долгие годы урожай пожинали выжившие.
Разумеется, я не могу говорить, что уже в том раннем возрасте понимал всю остроту боли и страданий окружавших меня людей. Нет, конечно: как все мои сверстники, я жил в атмосфере детства и радовался жизни. Детей стараются щадить, не посвящают сразу и полностью во все невзгоды взрослой жизни. Хотя какое-то понимание и у нас было: что-то мы сами видели, о чём-то догадывались. Но настоящее осознание этой массовой боли придёт постепенно и позднее, по мере взросления.
Мёртвым, как правильно и философски мудро сказал Василь Быков, не больно… Главные проблемы были у тех и с теми, «кому выпало жить»… Кто лишился детей, родителей, жён, мужей, любимых. Кто остался без рук или без ног, без здоровья… Кто потерял кров и так до смерти не получил его от победившей Родины… Кто после плена и фашистских лагерей загремел в родные лагеря. Кто сел на наркотики, спился, скурвился… Кто не нашёл себя в послевоенном времени, потерял веру в справедливость…
Таких физически и морально искалеченных были не единицы, а тысячи и тысячи. Они не столько жили, сколько доживали… И вопреки казённому оптимизму создавали нашему обществу ауру боли и искалеченности.
По сколько раз на дню встретишь то однорукого, то одноногого, то вообще безногого. Сколько было женщин в чёрных вдовьих платках, казалось, приросших к головам на всю оставшуюся жизнь! Сколько мрачных лиц, неулыбающихся губ, не поднимающихся глаз! Калеки, сироты, одинокие женщины, бездомные, люди, утратившие смысл в жизни – сколько их было вокруг! И как медленно, в течение долгих лет, из глаз этих людей уходила боль… А у многих она так и не ушла – они унесли её из этого мира вместе с собой.
Год за годом количество людей, физически или морально изуродованных войной, медленно, но неуклонно сокращалось, а гродненские кладбища раздвигали и раздвигали свои границы…
Давным-давно было сказано: «Всё проходит!». И это – по-прежнему остаётся истиной: всё постепенно забывается, и боль с течением времени тоже стихает… И всё громче звучит радостный смех, потому что с каждым годом вокруг всё больше тех, кого война вообще никак не коснулась, и они не представляют, что такое война. И всё больше зарастают окопы и траншеи в гродненских пригородных лесах. И уже не так часто поют песни о войне. И вот уже почти не звучит когда-то неизменный тост всякого застолья «Чтобы не было войны!»… И это естественно.