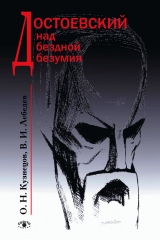
Текст книги "Достоевский над бездной безумия"
Автор книги: Владимир Лебедев
Соавторы: Олег Кузнецов
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава III
Кто они, герои Достоевского?
Но мало ли бывает аномалий, а г. Достоевский имеет, так сказать, привилегию на их изображение.
А. Н. Добролюбов
В предшествующих главах мы пытались исследовать причины «кровоточащих ран души человеческой», раскрытых в произведениях Достоевского. Остался нерешенным лишь вопрос, у кого наблюдаются эти психопатологические явления? Кто они, герои Достоевского, с позиций психического здоровья?
Этот вопрос актуален еще потому, что далеко не все согласны с тем, что художник изображал психически больных людей, и психологический анализ творчества Достоевского рассматривается как умаление социально-психологического значения героев, а следовательно, и сужение эстетическо-художественного воздействия его произведений. Это мнение имеет под собой определенное основание. Действительно, если рассматривать психически больных как неспособных адекватно воспринимать окружающую среду и осознанно совершать поступки, то морально-этические проблемы, поднятые Достоевским, теряют свою значимость.
Констатация психического нездоровья всегда социально значима для человека. Она или существенно ограничивает свободу общественной жизни, или иногда даже дает определенные преимущества (признание невменяемости при совершении преступления, освобождение от особо опасных, тяжелых и ответственных гражданских обязанностей и т. п.). Достоевский на собственном опыте понял социальное значение психической болезни. Он, писатель с мировым именем, открыто говорил о своей психической болезни, не переставая при этом полноценно жить как человек и гражданин. Поэтому его мысли, соображения и, конечно, прежде всего созданные им и ставшие классическими образы заслуживают самого серьезного обсуждения с позиции оценки их психического здоровья.
В этой главе мы остановимся на характеристике ряда героев и обсудим их с позиции современной классификации психических болезней. При этом мы учитываем, что психиатрическая теория – это не догма и не истина в последней инстанции, а развивающаяся система взглядов. Одновременно мы хотели бы подчеркнуть, что литературный герой – это плод творческого воображения художника. Он не живой человек, поскольку у него нельзя взять анализ крови и сделать его электрокардиограмму. Но над этими требованиями профессиональной диагностики психозов смеялся еще сам Достоевский, который создавал своих героев такими живыми, что целые поколения психиатров учились, заглядывая в его романы. Начнем мы с психических расстройств, наиболее легких и привычных в быту.
1. От мечтателя к подпольному парадоксалисту
Подпольный человек был ему отвратителен, и если он занимался им как художник, то только потому, что сострадал ему как несчастному.
В. Я. Кирпотин
Болезнь или мечта? Больной или мечтатель? Эти вопросы могут показаться странными. Но не надо спешить с выводами. Ведь болезнь – это прежде всего жизнь в других условиях. В ходе болезни проявляются не только разрушительные, но и защитные механизмы борьбы против болезнетворных условий среды, соотношение между которыми при разных болезнях и на разных стадиях одного заболевания могут быть различны, например, разрушение не произошло, а осталась одна защита. Мечтатели Достоевского – люди со «слабым сердцем», защищаясь от непереносимых для них условий, они уходят в мир своего воображения, грез, как бы самоизолируются. Мечтатель, по Достоевскому, – это «кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками...» (18; 32). Эти несчастные ни к чему не способны, хотя и служат, и «тянут свое дело», к которому чувствуют отвращение. Они смирны и боятся, чтобы их не затронули. Предпочитая одиночество, мечтатели селятся по неприступным углам, таясь от людей и от света.
Забравшись в свой угол, мечтатель начинает грезить. В мире его мечты – пленительные женщины, героические подвиги и т. д. При этом комната исчезает, время останавливается или летит, ночи проходят незаметно в неописуемых наслаждениях. В несколько часов переживается рай любви или целая жизнь, чудная, как сон, грандиозно прекрасная. Во время грез ускоряется пульс, брызжут слезы, горят лихорадочным огнем бледные щеки. Когда заря блеснет в окошко мечтателя, он болен, истерзан и счастлив. Минуты отрезвления от грез для него ужасны, он их не «выносит и медленно принимает свой яд в новых, увеличенных дозах» (18; 33).
В мечтах героя повести «Белые ночи» – и героини романов В. Скотта, и воспоминание об опере Мейербера «Роберт-дьявол», и Клеопатра и ее любовники, и «История» Карамзина, и даже герои Хераскова, Гете, Жорж Санд и других литераторов-романтиков, книги которых волновали и молодого Достоевского как читателя. Ведь именно он признается устами своего героя: «...Вы спросите, может быть, о чем он мечтает?.. да обо всем... об роли поэта, сначала непризнанного, а потом увенчанного; о дружбе с Гофманом» (2; 116). Если мечтатель постоянен в своих грезах, то крайне нестабилен в своем поведении: то он «слишком весел, то слишком угрюм, то грубиян, то внимателен и нежен, то способен к благороднейшим чувствам» (13; 32).
Достоевский понимает, раздумывая над своим характером, что, чем больше в человеке внутреннего содержания, тем «краше ему угол в жизни». Для него страшен диссонанс, неравновесие, которое ему представляет общество. Он считал, что «...с отсутствием внешних явлений внутреннее возьмет слишком опасный верх. Нервы и фантазия займут очень много места в существе. Каждое внешнее явление с непривычки кажется колоссальным и пугает как-то. Начинаешь бояться жизни». И он по-хорошему, по-доброму завидует своему «заземленному» брату: «Счастлив ты, что природа обильно наделила тебя любовью и сильным характером. В тебе есть еще крепкий здравый смысл и блестки бриллиантового юмора и веселости. Все это еще спасает тебя» (28; 1; 137–138).
В набросках к роману «Мечтатель» «паралич мечтательности» оценивается Достоевским уже как «одна из болезней века». Им прослеживается трагизм психопатологических путей диалектики мечтательства, их связь с невыносимостью социальных условий и с нравственными страданиями личности. Мечтатель, вынесший от начальника за небрежность «позорную ругань», рассуждает следующим образом: «...Неужели же вы думаете, что я бы мог жить, если б не мечтал. Да я бы застрелился, если б не это. Вот я пришел, лег и намечтал... он спился, он не вынес. Я – мечтатель, я выношу...» (17; 8).
Таким образом, мечта спасает от самоубийства, от пьянства. Но мечтательность для позднего Достоевского не только психологическая защита, но и бегство от жизни, ее нерешенных проблем, от которых, по мысли писателя, не должен уходить порядочный человек.
Крайним вариантом развития болезненного мечтательства оказалось «подполье», выявляющее в мечтателе новый диапазон болезненных расстройств. Исповедь героя повести «Записки из подполья» (парадоксалиста) начинается с того, что он нездоров: «Я человек больной... Я злой человек... Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни и не знаю наверно, что у меня болит...» (5; 98).
Зададимся вопросом – что же для него является болезненным? Болезнь, «настоящая, полная болезнь» для парадоксалиста – это «слишком сознавать». «Для человеческого обихода, – рассуждает он, – слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и, сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре» (5; 101).
На наш взгляд, это не показатель мечтательности парадоксалиста, а свидетельство его сожаления о потере человеческой синтонности, недовольство излишком рефлексирующего сознания. Об этом говорит сам парадоксалист: «Совершенно было бы довольно, например, такого сознания, которым живут все так называемые непосредственные люди и деятели» (5; 101). Он жалеет о том, что у него утрачена эмоциональность, заменившаяся холодной умозрительностью. «Подпольного» человека при этом трудно отличить от «мыслителя», так как он является действительно в высшей степени мыслителем.
Сам парадоксалист, с несвойственной ему теплотой, вспоминает: «Мечтал я ужасно, мечтал по три месяца сряду, забившись в свой угол, и уж поверьте, что в эти мгновения я не похож был на того господина, который, в смятении куриного сердца, пришивал к воротнику своей шинели немецкий бобрик. Я делался вдруг героем» (5; 132). Но остается вопрос: парадоксалист – «отчаянный ли мечтатель» (определение В. П. Одинокова) в момент написания записок или таким он был только в прошлом?
На наш взгляд, это скорее сожаление парадоксалиста об утраченном времени, когда мечты отчасти облагораживали антигероя и он ими спасался от нравственного падения. Превращение мечтателя в парадоксалиста начинается тогда, когда он упорно начинает стремиться занять первое место. Альтруизм, потребность осчастливить других помогают Ивану Петровичу в «Униженных и оскорбленных», мечтателю в «Белых ночах» не стать подпольными парадоксалистами, но и не предохраняют их от гибели, личной катастрофы. Эмоциональное насыщение, альтруистические отношения, согласно взглядам В. И. Мясищева, находящиеся в «гармонии рассудка, сердца и совести», помогают желанному слиянию человека с обществом. Но «слабое сердце» мечтателя не защищает от безумия при встрече с жестокостью окружающего мира.
Неблаговидные поступки может совершить бывший мечтатель, ставший рационально-иррациональным солипсистом, достигший степени клинической патологии при потере эмоциональности. Вспомним верные слова М. Горького: «Достоевскому принадлежит слава человека, который в лице героя „Записок из подполья“ с исключительно ярким совершенством живописи слова дал тип эгоцентриста, тип социального дегенерата...».[57]57
Ф. М. Достоевский в русской критике. С. 400.
[Закрыть] Есть правда и в том, что Достоевский на примере своего героя убедительно показал, до какого «подлого визга» может дожить оторвавшийся от жизни индивидуалист. Правильно и то, что для «подпольного» человека характерны и черты социального вырождения. Но уж никак нельзя согласиться с А. М. Горьким, когда он в немецком философе Ф. Ницше, отразившем кризис сознания своего времени, видит только социального вырожденца. Еще более недальновидно упрекать Достоевского в раскрытии больной души «подпольного» человека и совсем уже кощунственно отождествлять «подпольного человека» с самим Достоевским. А такие попытки делаются...
Как уже отмечалось, Достоевский, ставя своих героев в определенные ситуации, проигрывал в своем воображении, что может произойти с их сознанием. Об этом открыто говорит он сам: «И автор записок и самые „Записки“, разумеется, вымышлены. Те м не менее такие лица, как сочинитель этих записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе... это лицо рекомендует самого себя, свои взгляды и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде».
Писатель в уста подпольного человека, характеризуемого им как «подпольная дрянь», «низкий человек», «подлец», «мучитель ребенка», вкладывает мысли, чувства и стремления, которые мог бы испытывать антипод дорогого ему идеала – прекрасного и внутренне свободного человека. Но, осуждая человеконенавистничество, выраженное в идеях парадоксалиста, он одновременно понимает их болезненность и сочувствует ему как несчастному, обиженному жизнью. Не только Достоевский, но и сам его герой в какой-то степени понимает болезненность такого состояния как социально-психологического явления. Это особенно четко звучит в его следующих рассуждениях. На примере зубной боли как бы раскрывается социально-психологический генезис отношения к болезненности вообще и к «больным мыслям» в частности. В существующих условиях «неизвестно что и неизвестно кто» виноват в том, что тебе больно. Создается даже впечатление, «как будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, что вовсе не виноват». Выходит, что «...даже злиться ...тебе не на кого...», а все-таки у вас «болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит!» (5; 106).
Парадоксалист видит в «зубной боли» как бы модель «болезненных мыслей», появляющихся при «кровавых обидах» от «неизвестно чьих насмешек». При этом он понимает и переживает «унизительную бесцельность... боли», и это «при законности природы, на которую вам... наплевать, но от которой вы страдаете, а она-то нет» (5; 106).
В этом образном и точном сравнении есть одна условность, связанная с конкретным периодом развития стоматологии как области медицины, с которым столкнулись как парадоксалист, так и Достоевский. На это В. Я. Кирпотин откликнулся весьма правильным замечанием о том, что «уровень зубного врачевания был, по-видимому, не очень высок в середине XIX столетия».[58]58
Кирпотин В. Я. Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966. С. 489.
[Закрыть] От такой, казалось бы, банальной мысли можно перейти к общетеоретическому обсуждению глубинного смысла разбираемой аналогии.
В настоящее время в стоматологии разработаны эффективные методы борьбы с зубной болью. При обращении к зубному врачу острая боль может быть прекращена. Длительно продолжающаяся зубная боль в настоящее время удел только тех, кто отказывается от медицинской помощи. По аналогии на каком-то новом, еще далеком от нас уровне развития медицинской помощи можно надеяться на своевременное и эффективное облегчение душевных страданий. И не придется искать в них наслаждения, как это делает подпольный парадоксалист.
«Больные мысли» в обществе, по Достоевскому, проявляются в болезненном состоянии людей. Душевная боль, как и зубная, исходя из медицинской теории, – сигнал о помощи, но отреагировать на него может только профессиональный психотерапевт.
Важные социально-психологические аспекты здоровья заключены в мысли парадоксалиста об эгоистичности «пакостно-злых», продолжающихся дни и ночи, «скверных» стонов тронутого цивилизацией образованного человека. В отличие от простого мужика цивилизованный эгоист «со злости ехидства» раздражает других, хотя и знает, что не верят ему: «...я вас беспокою, сердце вам надрываю... Вам скверно слушать мои подленькие стоны? Ну так пусть скверно; вот я вам сейчас еще скверней руладу сделаю...» (5; 107).
Безумие не стало уделом парадоксалиста. Вероятно, изощренность его ущербного эгоцентрического сознания будет медленно прогрессировать и отравлять жизнь ему и окружающим до его смертного одра. Но зададимся вопросом: не тяжелее ли выбранный им жизненный путь по сравнению с трагедией других героев Достоевского, окончивших жизнь в безумии?
Заключительные размышления парадоксалиста как бы отвечают на этот вопрос положительно. Едва живой от душевной боли, он философствует: «...что же лучше – дешевое ли счастье или возвышенные страдания?..»– и удовлетворяется «... фразой о пользе от оскорбления и ненависти...» Его мертворожденные идеи порождают болезненные переживания. Психический дискомфорт создает у него также рабскую зависимость от книг, без которых он не знает, «куда примкнуть, чего придерживаться; что любить и что ненавидеть, что уважать и что презирать...», вызывает «омерзение к живой жизни», воспринимаемой им как тяжкий труд, сравнимый только с бессмысленной чиновничьей службой (5; 178). Чувство социальной неполноценности делает его нравственным уродом в собственных глазах; он сопоставляет себя с горбуном или карликом, обреченными по нездоровью на участь изгоя.
Близки к «озлобленному визгу» парадоксалиста необычные стихи капитана Лебядкина из романа «Бесы». В стихотворном творчестве Лебядкина литературовед И. Л. Альми выявляет «...сбои ритма, какофонию, лексическую неупорядоченность, образную „черезмерность“. На фоне русской поэзии того времени они воспринимались как демонстрация уродства...» По мнению И. Л. Альми, они в своей стилистике «несут потенцию скандала, готовую развернуться в первой же подходящей ситуации или создать для себя таковую...».[59]59
Альми И. Л. Романы Ф. М. Достоевского и поэзия. Л., 1986. С. 33, 34.
[Закрыть] Именно по демонстрации уродств и болезненной потенции скандала стихи Лебядкина приближаются к исповеди парадоксалиста.
Для нас важно, что в творческих планах Достоевского стихи Лебядкина предназначались герою задуманной, но ненаписанной повести – Картузову. Картузов молчалив, вежлив, наивен и доверчив, влюблен. В нем воплощаются типичные для мечтателей черты. И. А. Битюгова, исследовавшая соотношение этих двух образов, выявила, что Лебядкин, герой романа «Бесы», наследует от Картузова «только его преклонение перед красотой... и склонность к сочинению нелепых стихов» (18; 325).
Но так ли нелепы эти стихи с позиций эстетики нашего времени? Попробуем перечитать «Басню о таракане»:
Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства...
Место занял таракан,
Мухи возроптали.
«Полон очень наш стакан»,—
К Юпитеру закричали.
Но пока у них шел крик,
Подошел Никифор,
Бла-го-роднейший старик...
(10; 141)
Стихи Лебядкина только внешне кажутся нелепыми, на самом же деле по содержанию это чрезвычайно своеобразное, социально-насыщенное, беспощадно сатирическое произведение. Эстетику их удалось понять в конце XX в., когда в вокальном цикле на эти стихи музыка Д. Д. Шостаковича нашла конгениальное воплощение в исполнительском искусстве Е. Е. Нестеренко и Е. Шендеровича. Этот цикл стал шедевром сатирического вокала наряду с величайшими произведениями этого жанра М. П. Мусоргского и А. С. Даргомыжского.
Кто должен был написать эти стихи – мечтатель Картузов или «скандалист» Лебядкин?
Попробуем проанализировать, почему Достоевский передал авторство этих стихов, пронизанных саркастической горечью и отрицанием красоты в обществе, «полном мухоедства», от блаженного Картузова шуту-пьянице, доносчику, шантажисту, приживале и сутенеру Лебядкину.
На наш взгляд, Картузов в начальном варианте разработки его образа, как человек порядочный и добрый, не органичен. Наивность, донкихотство психологически не объясняют злого, уничтожающего сарказма почти дьявольского отрицания бессмысленности действительности, проступающего за кажущейся нелепостью стихотворных строк. Принадлежность же авторства этих стихов Лебядкину Достоевский глубоко и психологически точно обосновал содержанием романа. Лебядкин «...стихотворения свои уважал и ценил безмерно», единственным слушателем для него, оценкой которого он дорожил, был Ставрогин. Ему нравилось, когда Ставрогин «...веселился его стишками и хохотал над ними, иногда схватываясь за бока» (10; 210). Хохот Ставрогина оттачивал злобный сарказм Лебядкина. Ставрогину, всегда стремившемуся ощутить предел зла, но не обладавшему для этого достаточной эмоциональностью, ряд аффективно-образных ассоциаций стихотворений Лебядкина, отрицающих и издевательских, доставлял эстетическое наслаждение.
Лебядкин как бы применяет мысль Ставрогина («Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла» – 10; 209) к своим псевдостихам, которые «противостоят здравому смыслу», забывая, что, по «теории» Ставрогина, они могут принадлежать как великому человеку, так и дураку. И. Л. Альми очень точно отмечает: «...Хам и холуй Лебядкин в то же время поэт – не только по внешнему факту писания стихов. В нем бродит беспокойная закваска, эмоциональный избыток (сильно мешающий плутовской карьере)».[60]60
Альми И. Л. Романы Ф. М. Достоевского и поэзия. С. 32.
[Закрыть]
Отличие Картузова как мечтателя от Лебядкина можно увидеть, сопоставляя разницу смыслового содержания, вложенного в их стихи («красота, красота сломала член и интересней вдове стала. И вновь сделался влюблен. Влюбленный уже не мало»). Если Картузов готов к самопожертвованию ради любимой им несчастной девушки, то Лебядкин нечестен и даже меркантилен. Он Ставрогину так объясняет происхождение своих стихов: «Фантазия... бред, но бред поэта. Однажды был поражен при встрече с наездницей и задал материальный вопрос: «Что бы тогда было? (то есть в случае, если бы она сломала ногу. – Авт.) Дело ясное... все женихи прочь, морген фри, нос утри, один поэт остался верен с раздавленным в груди сердцем... даже вошь, и та могла бы бытъ влюблена, и той не запрещено законом...» (10; 210).
В этом «творческом бреде» из-под шутовской маски проглядывает напряженная злобность и недоброжелательность, направленная не просто к случайно встретившейся амазонке, а именно к Лизе, от которой он не только «брачных и законных наслаждений» (10; 106) желает, но и материальных выгод. Лебядкин тайно злорадствует, что Ставрогин (единственный, кто способен пренебречь нафантазированным им уродством) устранен из соперников женитьбой на его полоумной и хромоногой сестре.
Таким образом, мечтательность может перерасти в злобность, как это случилось у «подпольного» парадоксалиста и у Лебядкина. Богатство фантазии погубило и Голядкина. Оказывается, совсем безобидная мечтательность, даже при талантливости мечтающего, может изолировать его от общества или превратить в человеконенавистника. Степень болезненности у героев Достоевского в значительной мере связана с отношением личности к обществу: альтруизм приводит даже самого безудержного мечтателя к обществу, эгоизм же изолирует человека и делает его мизантропом.








