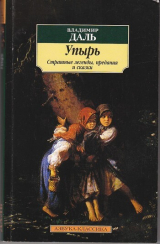
Текст книги "Упырь: Страшные легенды, предания и сказки"
Автор книги: Владимир Даль
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
ПОСЛУХ
(Предание)
– Куда ты меня завез, проклятый? – кричал барин из коляски на ямщика, который, сидя на козлах, с видимым беспокойством оглядывался во все стороны, покрикивая и понукая лошадей явным образом только для своего ободрения.
– Ничего, вот даст Бог, выберемся, – говорил он. А там опять ворчал про себя довольно внятно: – Ах ты, Господи! что ты будешь делать? Вот наказание за грехи наши! лошадей зарежем совсем.
Ночь была темная. Небо заволокло тучами. Осенний довольно резкий боковой ветер тянулся по равнине, и ободья колес окатились густою, липкою грязью, шириною в пол-аршина. Лошади тянули в упор ступою и пофыркивали. «Ну, будь здоров!» – отзывался по временам ямщик, прибавляя к этому обычному пожеланию иногда другое: «Чтоб те лопнуть!», и, привставая на козлах, опять оглядывался кругом. Наконец он молча слез, а потом, ворча и проклиная неизвестно что и кого, пошел, нагнувшись, бродить по сторонам, покапывая перед собою кнутовищем и отыскивая потерянную дорогу, как булавочку. Барин согнал в помощь ему сонного слугу, сидевшего копной на запятках, а потом с отчаянною решимостью завернулся в шубу и прилег в самый зад коляски.
Через несколько времени голоса в стороне коляски сделались слышнее. Слуга бранился, а ямщик стал веселее и разговорчивее, даже смеялся и много поумнел задним умом. Они нашли какую-то дорогу, и догадливый ямщик рассказывал решительно, подробно и красноречиво, где, как и когда им следовало своротить и придержать правой руки, а поднявшись на гору, не верить глазам своим, потому что глаз обманет, особенно когда не видит ни зги, а верить надо лошадям, которые никогда не обманут, и прочее. К кому относились все наставления и нравоучения эти – неизвестно. Никто не мешал ямщику следовать им в свое время, потому что и барин спал, и слуга спал, и никто из них в распоряжения его не мешался; но, вероятно, и сам он также спал, да и надежные лошади его задремали и протащили коляску Бог знает куда, в сторону.
Как бы то ни было, дорогу нашли, выбрались на нее по пням и кочкам, и ямщик стал покрикивать на лошадей повеселее. Вскоре увидели свет, приехали к жилому месту. Барин все молчал, отдавшись на волю судьбы и ямщика; а этот, не говоря ни слова или, по крайней мере, разговаривая только сам с собою и с лошадьми, слез с козел, постучался в первые ворота, которые ему попались, поговорил с бабой, пришедшею отпирать их, и въехал во двор. Тогда только барин спросил:
– Куда же ты меня привез?
– Да куда привез! – отвечал тот, – куда Бог велел: в деревню привез! Слава Богу, что добрались. На распутье не ночевать стать в экую непогодь. Покормим, да и ободняет, так, даст Бог, подобру-поздорову выберемся.
Это была не деревня, а целое село или, лучше сказать, несколько деревень, собранных в кучку. Дворов сто, с видною усадьбой и ухожами, составляли вотчину богатого барина, которого несметная дворня с музыкантами и псарями объедали пуще всякой саранчи, так что нечем уплачивать было процентов в опекунский совет. Все остальное по десяткам, по пяткам и даже по парам избушек раздроблено было владельцев на пятнадцать. Ямщик привез нашего путника к одной из таких владетельных особ – вдове старушке, которая сама жила в крестьянской избе и не отказала проезжему в пристанище.
Барин вышел, весьма недовольный похождениями своими, из коляски; но когда он вошел в избу, где уже осветились окна, то им овладело чувство холи и уютности, которое всегда утешает путника при переходе из-под ненастной темной ночи в теплую и опрятную светелку. Хозяйка была радушна и приветлива, не докучая, впрочем, своею приветливостью; чай был подан без суетни и беготни довольно скоро; самовар не дымился, не чадил, стол – на всех четырех ножках, у чайника не был отшибен ни носик, ни ручка, а шнурок, которым крышечка держалась за ручку эту, был довольно опрятен. При видимой бедности весь передний угол сверху донизу был уставлен иконами в огромном кивоте, на уступе которого лежало несколько священных книг с застежками; на окне было несколько медных копеек, предназначенных для подаяния и оставшихся от прошедшего дня. С женщиной, которая прислуживала, старушка говорила вполголоса, тихо и кротко. Оглянувшись кругом, путник заметил, что изба была чрезвычайно ветха. Он заговорил об этом с хозяйкой, которая сказала ему, что изба срублена еще дедом ее, что она не в состоянии поставить новую, а надеется дожить в ней до конца своего века, которого, по ее мнению, осталось уже не Бог знает сколько.
Приезжему постлали постель в переднем углу. Он улегся и вскоре уснул, между тем как хозяйка легла за перегородкой. Лампадка перед иконами теплилась, свечи были погашены. Усталому путнику приснился какой-то крестный ход, церковное пение и большое стечение народа, но все люди одеты были не так, как ходят живые, а будто в саванах. Одно только священство с причтом облачено было в праздничные ризы. Он проснулся от капли святой воды, брызнувшей ему в лицо при окроплении народа, и, к удивлению своему, увидел наяву продолжение этого сна. В светелку, в которой стены и перегородка как будто были отнесены и терялись в отдалении – по крайней мере, он не мог их ясно отличить, – вошел старый седой священник со святыми дарами, а за ним весь причт. После молебна, в продолжение которого старушка спала спокойно, священник исповедовал и приобщал ее святой тайне, а затем окончил служение. Толпа народу в саванах, малые и великие, дети и старики, женщины и мужчины – все прикладывались после креста к руке старушки, которая во все время не просыпалась, и наконец все исчезло.
Долго лежал проезжий в каком-то недоумении, стараясь прийти в себя и объяснить себе все, что видел; но он не мог отдать себе в этом никакого отчета. Все было тихо и спокойно, стены избы и перегородка на своих местах, лампадка теплилась, едва только бросая тусклый свет; а между тем он видел то, что сейчас происходило, не во сне, а наяву. Наконец он успокоился тем, что явление это во всяком случае не могло быть дурным знамением, а, напротив, разве только хорошим. Усталость взяла верх, и он, хотя и очень поздно, заснул опять крепким сном.
Утром проснулся он, и то будто с каким-то усилием, от призыва по имени и отчеству. Перед ним стоял слуга, подпоясанный и с шапкою в руках, стоял и докладывал, что уже очень поздно, что проспали лучшее время для выезда и что ямщик с нетерпения ворчит. Барин вскочил, опомнился, и видение наперед всего пришло ему на память. Он оглянулся: чайный прибор был поставлен на столе, и женщина вносила закипавший самовар. Хозяйка, опрятно одетая, со спокойным лицом, вышла из-за перегородки, поздоровалась с гостем, спросила, как он почивал, и принялась заваривать чай. Проезжий все еще не мог опомниться, встал, умылся, присел к чаю, поглядывал на хозяйку и не доискивался слов ни для вопроса, ни для ответа. Она, по-видимому, ничего не знала о том, что ночью с нею сталось, а он не знал, как это понять и что обо всем этом подумать. Напились чаю, слуга вытаскал вещи барина, рассчитались с хозяйкой, которая была до того умеренна в своих требованиях, что никак не хотела принять плату за что-либо, кроме овса и сена. «Хлеб-соль отплатное, взаимное дело, – говорила она, – за хлеб-соль расплачиваться грех». Наконец, по крайнему настоянию проезжего, она согласилась, чтобы он положил деньги сам на окно, где лежало уже несколько мелочи, сказав, что в таком случае они пойдут на раздачу нищим.
Барин сел в коляску в раздумье о ночном приключении; слуга обошел еще раз кругом, осмотрел гайки и винты, поковырял пальцем на одном месте, где, как ему уже давно известно было, недоставало гайки, и, поковыряв, заглянул туда, будто хотел удостовериться, не выросла ли она, может быть, за ночь, потом он уселся на запятках, сказав громко: «С Богом!», и ямщик тронул лошадей. Хозяйка, проводив своего гостя на крыльцо, воротилась в избу.
В эту минуту, когда коляска, едва только выехав из ворот, поворотила направо и поравнялась с самой избой старушки, раздался глухой гул и треск, и вся избушка рухнула в облаке пыли. Первая мысль проезжего была, что перед ним пожар, но вслед за тем он опомнился, закричал «стой!» и, выскочив из коляски, которую испуганные лошади промчали сажень сто дальше, воротился пешком на место происшествия. Изба, в которой он ночевал, обрушилась. Сруб еще стоял отчасти, но вся кровля, со стропилами, с потолком или накатом и переводинами провалилась внутрь. Участие и любопытство заставили проезжего выждать конца: народ сбежался, помещики и помещицы изо всего села сошлись и вскоре разобрали избу и вынесли из нее два трупа – хозяйку и прислужницу ее. Более там никого не было.
Все толковали, иные изумлялись, другие утверждали, что они давно пророчили соседке такой несчастный конец, потому что верхние венцы избы и концы переводин сгнили и светились по ночам мышиным огоньком. Вскоре подошли к толпе и два священника этого села. Народ вообще очень жалел о старухе, крестился и сулил ей Царство Небесное, называя матерью калек и нищих, богобоязненною и христолюбивою.
– Все так, – сказал один из священников, – а смерть нехороша: отдала Богу душу без покаяния. Ее отпевать и хоронить на святом месте нельзя.
В числе окружающих нашлись люди, которые в уважение доброй памяти старухи заступились за прах ее и стали упрашивать священников, чтобы ее честно похоронить, как женщину, которую все поминали одним только добром; но священник отказывался, и собрат его с ним соглашался.
Тогда проезжий вдруг вспомнил, чему он в ночи был свидетелем. Подумав немного, он обратился наперед к стоящим тут помещицам и рассказал им ночное похождение. Все слушали его с величайшим любопытством и изумлением, крестились и молились; подойдя к обоим священникам, они просили их выслушать показание проезжего, который повторил гласно то же, рассказав все, что видел, во всей подробности, присовокупив, что готов сейчас же присягнуть в истине своих слов.
– Какой же это был священник? не из нас ли кто-нибудь? – спросил один священник.
– Нет, – отвечал проезжий, – это был низенький старичок, худощавый, в белых кудреватых волосах и с узенькой бородкой почти по пояс.
Все с изумлением взглянули друг на друга, а некоторые от благоговейного страха отступили шаг назад: все узнали в этом описании умершего года за два сельского священника.
Подумав немного и посоветовавшись между собой, священники решили, что, стало быть, старушка умерла не без покаяния, а исполнив все христианские обязанности, и поэтому она была отпета и похоронена при большом стечении народа как добрая и верная христианка.
АРХИСТРАТИГ
Когда наши войска воротились домой из-под Франции, то охочим сказан был отпуск на целый год. Годов с восемь из дому мне вестей не было никаких: не то померли все – Царство им Небесное, – не то живы; а пора была такая, что тут было не до писем. А что, сказал я землякам, пойду и я; денег, благодаря Бога, у меня много, потому что жалованье шло заграничное; хоть повидаться, поотдохнуть да порассказать, каков на свете Париж-город живет.
И пошел. С места наняли мы подводу, а нас было человек десять попутчиков; прошли верст двести, тут отделились от нас трое, а под конец, на границе своей губернии, Курской, осталось нас только двое земляков. Опять-таки наняли было подводу, да в Фатеже товарищ захворал, остался в больнице, а мне выжидать его не приходилось, и я пошел дальше. Одному подводу нанимать не по карману. Не привыкать стать нашему брату журавлем шагать, да и недалече. Я вскинул котомку за плечи, взял посох в руки да и пошел один путем-дорогой. Места не то чтобы знакомые, а все уж не так далеко: верст сто и всего-то от дому, – так и идти как-то стало веселее.
Настигли меня сумерки на большой дороге, за поворотом с фатежской на курскую; а пора была осенняя, глухая, темная: пришлось искать, где б преклонить на ночь усталую головушку. Тут по дороге было много постоялых дворов, и хотя нашему брату служивому эти постоялые дворы не больно сподручны, а выгоднее и спокойнее заходить в деревню к простым мужичкам, да уж делать было нечего, выбирать некогда. Я остановился да стал осматриваться, в которые бы ворота постучаться, навстречу мне идет какой-то, видно, зазывать вышел, да и говорит: «Что, земляк, не ночевать ли?.. Просим милости на хлеб на соль». Я, отозвавшись да отблагодарив, подошел, а он, разглядев, что перед ним служивый, и отворотил было от меня рыло-то: дескать, с вашего брата взятки гладки и за беспокойство поживы не будет!
– Ну, зазвал, – сказал я, – так уж не откидывайся, земляк: ведь я домой пришел, это моя губерния, а что проем – заплачу. Не бойся, на это станет: ведь я из заграничной армии.
Услышав это, он опять подался: стал поласковее; а известное дело, что в те поры все наши из-за границы приходили с деньжонками.
– Ну, – говорит, – с Богом, поди. Вон это двор мой. Скажи хозяйке, что я прислал; а мне надо еще тут побыть: не будет ли обоза; никак под горой кто-то покрикивает.
Вошел я в избу, помолился, поздоровался, гляжу – хозяйка не старая, видная, здоровая.
– Коли хозяин прислал, – говорит, – так с Богом, распоясывайся.
Распоясываться нашему брату служивому нечего: расстегнул шинель походную, да и вся недолга! Поразговорилась хозяйка и ласкова стала: то пожалеет за нужду военную, то пошутит да приголубит, про походы расспрашивает и какую кто поживу принес от француза.
– А кому какое счастье послужило, – говорю я. – Известно, что с бою взято, то и свято. Ну и жалованье царское шло нам серебром да золотом.
– Стало быть, и все вы богаты воротились?
– Иной, – говорю, – порастряс все там, то за французскими пунштиками, то с немцами бирки потрынкал, кто во что горазд, благо своя воля.
– Да уж от вашего брата, – говорит, – что путного ждать! что ж, и ты таким же гоголем домой пришел?
– Ну, – говорю, – кто Богу не грешен, царю не виноват, однако я был не из первых гуляк: не то чтобы все прокутил, а помнил и своих. Вот теперь и пришел домой, да коли даст Бог, застану кого в живых, а, надо быть, две сестры мои уж подросли, так я их и уважу, по червончику-другому им на приданое принесу.
Пришел хозяин, а хозяйка подала щей. Как я поглядел на него при огне, что-то больно не по нутру он мне показался. Сказано слово: «С черным в лес не ходи, с рыжим ночи не спи», а уж коли наш брат курский рыжий, так держи ухо остро! Ну, думаю, Господь с ним: мне только бы переночевать да спозаранку убраться.
Поужинал я, помолился, разулся и лег на лавке, а ночевал я у них один: видно, извозчика хозяин не успел зазвать. Засыпая, я только подумал, как-то завтра рассчитаюсь с рыжим. Ну да не пять же рублей он за свои щи слупит с нашего брата! известно, полтиной меди чист будешь, а больше не возьмет.
Уморившись с переходу, как я свалился, когда огонь погасили, так и уснул, только еще прочитал до половины молитву своему ангелу, архистратигу. Вдруг просыпаюсь ночью, таки вот словно кто меня студеной водой окатил, и сразу вскочил на ноги, гляжу – хозяйка вздула огонь да взяла в руки топор, а хозяин с ножом, да оба прямо идут на меня. Пропал я, стало быть, вот в какую берлогу меня Господь принес; а при мне нет ни даже щепочки, чем бы отбиться! И сам не знаю, как и с чего это во мне вдруг взялось, будто кто за меня вымолвил, только я, взмолившись хозяину, говорю: «Что ты делаешь! ведь я не один здесь, ведь нас тут целая рота, меня спохватятся!»
Хозяин мой как будто немного опешил, однако подошел вплоть.
– Поздно теперь, – говорит, – сказки сказывать!.. Какая рота? Молись, да и аминь тебе!
– Чего ты его слушаешь? – закричала хозяйка и сама кинулась на меня с топором.
Я только успел призвать на помощь ангела своего, святого архистратига, как кто-то шибко застучал в ставень, – молчок; а с улицы голос подал кто-то да еще шибче забарабанил.
– Кто там? – закричал хозяин, подняв надо мною нож, чтоб я не поспел крикнуть, между тем как проклятая баба опустила обух и прислушивалась.
– Кто? разве не слышишь?.. Не узнал голоса фельдфебеля? Аль заспался?
– Михайло Ларионов, ты, что ли?
Я, ни жив ни мертв, отозвался.
– Собирайся живее, – продолжал фельдфебель, – рота выступает. Чего зеваешь? Да живо! Не то я подыму!
Рыжий с хозяйкой задрожали, словно лист на осине, да оба разом пали мне в ноги, говоря: «Не погуби, ради Спаса святого, не погуби!..»
Я схватил котомку, сапоги, шапку и выскочил из избы, сам не помня как. Не могу понять по нынешний день, как я отпер впотьмах сенные двери, как растворил ворота либо перескочил через забор, – ничего не знаю. Выбежал на улицу – все темно, ни зги не видать, и никого нет. Я взмолился еще paз своему архангелу и пошел прямо, без оглядки, куда глаза глядят. Вышел на дорогу – отколе ни взялась тройка курьерская, скачет во весь дух прямо на меня: я едва только успел отскочить, да с перепугу закричал что есть силы.
– Стой, стой! – закричал курьер, военный офицер. – Стой! Никак мы кого-то задавили.
– Да чуть было не задавили, ваше благородие! – отозвался я.
– А ты кто таков?
– Служивый, ваше благородие, иду в домовой отпуск; ночь настигла, ваше благородие, сделайте отеческую милость, подвезите…
– Садись, – сказал добрый офицер.
Сели и понеслись. Покуда рассвело, так уж мы были верст двадцать за Курском. Тут я поблагодарил офицера и пошел своим путем в сторону.
– Да кто ж тебя спас от ножа и обуха? – спросили слушатели Михайла Ларионова. – Кто же постучался в ставень и сказался фельдфебелем?
– А вы и не догадались?.. Эх вы, маловерные! Вот то-то и есть! Кто на войне не бывал, тот досыта Богу не маливался! А кому же я взмолился? А кто за меня стоял, держал под своим покровом в сорока сражениях, от вступления французов матушку Россию до самого занятия Парижа?
ПОДЗЕМНОЕ СЕЛО
– Подумаешь, Владимир-городок – Москвы уголок, и далече ли? Рукой подать: всего-то два-девяноста; и на большой дороге, и место торговое. А что-то Божьего благословения нет: никто во Владимире не разживался, истиннику не хватает; купцы перебиваются кой-как и живут, словно только в гости приехали; и город беден, нет там никому, что называется, ни наживы ни покою, ни дна ни покрышки.
– На все, братец ты мой, есть причина, – сказал другой собеседник, – давным-давно, еще, знать, при великих князьях, владимирцы согрешили перед Богом, посамовольничали, не приняли архипастыря, хотели своего, что ли, поставить… хоть и давно было, а вот даром не прошло: и поныне зовут их святогонами, и никакое дело у них не спорится. Отцы терпкое поели, а внукам оскомина пала…
– Нет, сударь ты мой, – начал третий, – вот Васильсурск городок, так уж на том, видимо, лежит гнев Божий. Город на двух судоходных, рыбных реках, место бойкое, самое торговое, рыболовство хорошее – кто сурской стерляди не знает? Она и в Питере, и в Москве в одной цене с шекснинскою; и сбыт на этом месте всякому товару; вниз и вверх по Суре места хлебородные, земли обильные, хлебная торговля и обороты в ней большие; проезд на все четыре стороны, разгон такой, что, казалось бы, одними постоялыми дворами надо городу разбогатеть. А нет тебе вот ничем-ничего; бедность такая, что разве только с голью потягается, город обнищал, народ измошенничался – голыш на плуте, плут на голыше да плутом и погоняет… А отчего? Нет Божья благословенья. Когда в старинные годы васильсурцы стали вдруг наживаться, как повалила им деньга со всех сторон, так они забыли Бога, забыли и добрых людей. Три церкви у них развалились, а им не до того было, чтобы, себя сберегая, позаботиться о Божьем доме; все три церкви до того развалились, что службу остановили. Вот и согрубили васильцы перед Господом и каются теперь. Что ни деется на свете, все по грехам нашим. За беззаконие и встарь погибали, ныне погибают, да, вишь ты, не верим. Господь долго терпит, да больно бьет. Вот послушайте бывальщину.
В Олонецкой губернии, в глухом бору, среди такого болота, что летом, почитай, езды туда не было, стояли рядом две деревеньки: одна таки коренная была, а другая выселок из нее, как стало тесно. Поляна выдалась чистая, сухая, травная, водопуск гребнем шел поперек, посередине, и только тут по нем и были каменья; а то все хорошая земля, хоть и не так много ее было; да там, брат, и клок доброй земли в диковину. Одна деревня, на изволоке, – по одну сторону водопуска, другая – по другую; из одной через гребень только виден крест деревянной церковки, которая стояла по ту сторону ската. То коренное село было, а это выселок. Вот как расселились мужички на этом приволье да как принялись бабы рожать детей, оно и опять тесно стало, и земли маловато, пришлось искать промысла. Питер под боком, заработки есть; стали ребята туда ходить, и сталось так, что из этих деревень пошли все столяры и конфетчики. Так и завелось: старики и бабы пашут, а молодцы все в Питере, в конфетчиках, да в столярах; а через год либо два идут домой с денежками, на поправку хозяйству; а побывал дома – опять в Питер. Эта шатущая жизнь их, видно, и поразбаловала, и пошло много ребят разгульных и пропойных.
Вот как-то по осени и воротилось их домой из Питера много; пришли ватагой, Богу не помолились, а за вино, за песни да пляски. Деньги с ними были, вот и задумали складчиной погулять. Оно, конечно, попировать и погулять после долгой отлучки можно, отпраздновать то есть благополучный приход и, пожалуй, угостить деревенскую братию, да знай час, и меру, и время; а они затеяли это в Господень праздник да с утра: поп в колокол, а они в ковши. Собрались они все в одну деревню, в село то есть, в ту, где стояла церковь, и все забились в одну избу. Пошла у них попойка такая, что дым коромыслом: празднословят, богохульствуют, перепились, себя не помнят, – а в церкви насупротив служба идет. Соблазнили, окаянные, весь мир: все, вишь, обрадовались приходу своих, никому не захотелось отстать от попойки, так церковь и осталась пустою. Как заблаговестили к достойной, то у них шум и крик поднялся пуще прежнего, инно в церкви слышно стало, и сам священник, смущаемый соблазном великим, оглянулся в ту сторону, откуда слышались крик и песни…
В это самое время вошел в избу к пирующим незваный гость, непрошеный, с кем дай Бог век не встречаться и в былях его не поминать: мохнатый, черный, как есть с рогами, со змеиным хвостом; вошел и наготы своей не прикрыл, только что большой порожний мешок у него под мышкой: не морочить, стало быть, пришел, а уж прямо за своим делом, с обухом. Пришел да и стал в дверях. Мужики мои, пьяны – не пьяны, а все отрезвились, хотят крест сотворить, ан уж и рука не подымается: больно врасплох их, сердечных, застал. Вот он и стал считать их: это мой, говорит, первой, и другой мой, и третий мой, а на которого пальцем укажет, тот и сидит, только головой мотает да глазками хлопает, а уж без рук, без ног, без языка. Пересчитав всех, достал он из-под мышки мешок, встряхнул его да взял вот этак в левую руку, а правой рукой и пошел хватать их да сажать в мешок; возьмет за голову, ровно кочерыжку, приподымет с места да живьем его мешок, а как, слышь, приподымет которого, то руки да ноги ровно плети болтаются…
– А кто ж тут чужой есть? – сказал он, осерчав. – Не нашим духом пахнет.
А на печи сидела девочка хозяйская, годов десяти. Она прижалась, ни жива ни мертва; а как только заревел он, что кто-то чужой есть, то она перекрестись, как мать учила, да кубарем с печи, да в окно, да давай Бог ноги, что есть духу; без оглядки прямо по дорожке бежит и сама не знает, не понимает куда, сама читает «Богородицу», хоть уж не всю, а сколько знала… за собою слышит она грохот, стук, голоса, крик, визг, хохот… Не оглядывается бедняжка, а бежит что есть духу, да, перевалясь через водопуск, все прямо и, прибежав в ту деревеньку, упала замертво.
Сошлись люди, сбежались соседи, кто не был у обедни, подняли девочку – через силу могла выговорить, что с нею сталось. Слушая ее, нехотя люди стали оглядываться на гребень, на село, да и дивуются: как так? не видать за горой церкви, куда она девалась? Вышли на гребень – нет деревни, нет ничем-ничего. Пар либо дым киселем стоит на том месте. Сдивовался народ, крестится, стоит и смотрит: что это будет?
Стал туман прочищаться, а посредине объявилась гора. Стоит, вот будто спокон веку, а ее не было прежде никогда. На горе сидит черный петух; он захлопал крыльями, прокричал трижды и пропал. Прочистился наконец туман: и места не знать, где деревня стояла, гора на этом месте, а вокруг горы кольцом разлилось озеро, а вокруг озера болото. Так они, мужики мои, поглядели, развели руками и пошли по домам.
Деревня пропала, а к горе и к озеру нет приступу: болото летом не пересыхает, зимою не замерзает. Петух по временам сидит на верхушке на горе, когда туман расстилается понизу, только молчит, не хлопает крыльями, не кричит. В праздники Господни в иную пору слышен звон колокола на озере: то ровно по покойнике перезванивают, то к обедне благовестят, а как зазвонят к достойной, то озеро и забушует, и забурлит… после опять все утихнет, будто ничего не бывало. Сказывают, что и колокол ину пору по ночам на берег выкатывается и опять уходит на дно; сказывают, будто вся гора на озере плавучая и что ветром подгоняет ее то ближе к одному берегу, то к другому; сказывают еще, будто раз как-то молитвами проходящего инока церковь стала было подыматься и крест уже выказался из воды, тогда петух опять появился на горе, а гора поплыла на то место, где выказался крест, и накрыла все… с тех пор никто более ни церкви, ни креста не видал; а только после сильной бури озеро выкидывает на берег, что выбьет водой из потонувшего села со дна озера: черепья, ночвы, деревянные ложки, берестянки, туески, обечайки. А изо всего села этого никто не спасся, ни одна душа, кроме этой девочки.








