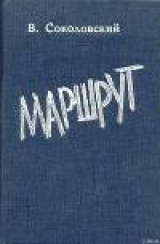
Текст книги "Ваня Карасов"
Автор книги: Владимир Соколовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
9
Время было дорого. Уже через сутки Ваня, тщательно проинструктированный и напутствованный Тиняковым и товарищем из разведотдела дивизии, топал по дороге, ведущей в сторону Марково. Первая остановка намечена была в Бородино, у тетки Агахи. Одинокая тетка, вдова, любившая всех карасовских детей, встретила его с пребольшой радостью:
– Ваничка-золотко-родимой-сладко-ой! Ты откудова набежал? Где ино был? Ведь тебя мамка-то с тятькой потеряли. Ой, возьму-ко я веник! Ой, отлуплю!
– Ты, тетка, – запыхтел намаявшийся на морозе гостенек, – чем шуметь на меня, лучше напои-ко, накорми да спать уложи. А утро вечера, как говорится, мудренее.
– Ух, да ты какой стал! – хохотала Агаха. – Как старшим-то зубатишь. Недаром, видно, слышь-ко, баяли про тебя, что ты большевистом стал. Давай ешь шаньги-те, Ванюшка.
Ваня наелся шанег, отогрелся и уснул на печке. Утром же, пробудившись, поучал тетку:
– Ты никому не сказывай, что я к тебе пришел. За это тебе от красных, когда придут, будет агромадная благодарность. А если хошь остатний век на богатинок спину гнуть, тогда ступай и доноси самому главному колчаку. Меня исказнят, а тебе пуд муки дадут или тридцать рублев. Как Иуде.
– Сам ты Иуда! – озлилась тетка, забегала по избе. – Ведь, нехристь, право, не постеснялся тетке родной такое выговорить! Я ли тебя не любила-а! Я ли тебя не холила-а!
– З-замолчь! – сурово сказал с печки юный разведчик. – Как ты можешь понимать военную регуляцию! Сказано тебе – я человек тайный, казенный, ну вот и все. Каки стоят в деревне войска?
– У нас никого, Ваня, нету. – Тетка успокоилась и стала замешивать квашню. – Каки стояли, дак ушли. У нас ведь деревня-то маленькая. Ушли, стрелили напоследок двух болезных – учителя да Ваську Наберуху, коновала. Учителя – чтобы не грамотничал, не умничал тут, а Ваську – почти что так просто. Кобылу ихнюю, слышь, взялся лечить, а она возьми да сдохни. Они и вырешили: дескать, нарочно, Васька, мол, вредитель. Господи! Да от него и сроду-то никакого толку никогда не было.
– Ты сбегай, теть, в Марково, – попросил Ваня. – Мамке с тятькой шепни: я, мол, здесь, пущай ждут. Да по дороге к Ерашковым загляни, я тебе чичас для Санка гумагу сочиню.
– Какую, Ваня, гумагу?
– Это тебе пока не положено знать. Ты еще на службе не состояла, а тут строгое военное наименование. Дай-ко карандаш.
Агаха нашла карандаш, ворча, достала из-за божницы четвертушку чистой бумаги, и Ваня, помаявшись над нею, сочинил послание:
«Санко здорово есть большое дело но пока надо увидецца ты бежи и никому не говори даже матере своей и никому ребятам, а мы договоримся вечно твой Иван Карас».
Эту бумагу он сложил так, чтобы она получилась как можно мельче, сам запрятал ее за подклад теткиной плюшевой душегреечки и внушил:
– Это есть наиважнейший секретный, тайный военный документ! Ты, если с ним все толком обладишь, будешь у меня самая что ни на есть распрекрасная революционерка!
– Ладно, ладно! Растыркался, тоже мне, – посмеялась, уходя, тетка. Однако Ваню заперла крепко, не велела никому открывать и наказала: – Ты, Ванюшка, смотри тут, тихонько! Люди-те, сам знаешь, какие разные бывают. Станешь по избе соваться без толку – ан кто-нибудь в окошко-то и узрит. Вот будет тебе тогда наиважнеюще… секретно… военно.
Агаха ушла, а вернулась уже в сумерках, вместе с другом-закадыкой Ваниным, Санком. Тот, войдя в выстывшую избу, заозирался было, отыскивая Ивана, да тетка помогла ему, подтолкнув к печке:
– Полезай наверх. Он ведь у нас теперя как начальство: лишний раз не покажется. Лезь, лезь, говорю, голова два уха!
– Ваньте, ты тамо, ли чё ли?
– Ага, – донесся из-за трубы толстый бас. – Лезь, Сано, ко мне.
– Сам слезай!
– Мне нельзя. Я человек тайный, военный.
– Вона что!
– Лезь, лезь давай!
На печке они сразу стали бороться, хихикать, подняли такую возню и пыль, что тетка заругалась:
– Ну-ко, бездельники, счас веником нахвостаю!
– Як дедушке отпросился, – рассказывал Санко. – У меня дедушко в Бородино живет. А про тебя мне Яшка Борисов да ромкинские ребята баяли: дескать, ты состоишь услужником при наиглавнейшем красном комиссарине. Еще говорили, будто ты к ним заезжал, когда красные отступали. А пошто ко мне не заглянул, а, Вань?
– Некогда было. Ладно, после расскажу. А Яшка врет, проклятый, и ромкинские ребята тоже врут! Никаких услужников у красных нет. Ни у комиссаров, ни у командиров. Есть адъютанты, ординарцы у большого начальства – ну, так это ведь совсем не то, это штука военная, без нее нигде нельзя! Да и тоже, Сано, под командой живут: нонче адъютант, а завтра снова боец или командир. А Тиняков, Иван Егорыч, с которым я тогда был, мне завроде старшего товарища, хоть я и под его начальством. Мужик хороший. Начштаба по разведке, понял?
– Кто, кто? – вскидывался любопытный Санко.
– Ктокало! Так и хошь, чтобы я тебе военную тайну выдал. А если хошь, тогда божись, что никому не расскажешь.
– Хос-споди исусе! – закрестился друг. – Я ведь, знашь, никогда… Чес-сна мамина могила!
– Ну вот, так-то лучше. Скажу, так и быть, как мужик мужику. Скоро начнется, Сано, наше наступление, и тогда уж колчаков погоним до самой Сибири, вот увидишь. А я послан красным командованием, чтобы разведать беляцкие военные силы. Понял?
– Не.
– Да чтобы воевать-то, надо знать, поди-ко, с кем да с чем! Какая часть супротив твоей стоит, какое у нее вооруженье, сколь пулеметов, орудий, где стоят и протче. Где в Марково, например, колчаки главную позицию держат?
– Это я знаю! – сказал Сано. – Они у леса, за деревней, всю землю лопатами, ломами да кирками изрыли, день и ночь там солдаты попеременке сидят. Посидят-посидят да в деревню идут. А на смену им другие из домов топают.
– Молодец! – похвалил друга Ваня. – Если не врешь, вынесу после успешного наступленья благодарность перед строем. У нас положено.
Санко Ерашков посмотрел на товарища уважительно.
– А только это одно мне мало знать! Где пулеметы, где пушки стоят, где основные, где запасные позиции, что за части, в каком доме штаб – вишь ты, сколь набирается!
– Штаб-от ихний, Вань, у Ромкиных в доме, там и офицеры толкутся, и караул стоит целые сутки. Сеньке Ромкину, слышь, погон подарили, дак он его на грудь нацепил, вроде как орден. Красу-уется!..
– Я ему покажу погон! Живо сниму. – Ваня сплюнул на пол.
– Ох, Ванька, Ванька, скажу отцу, надерет он тебя… – снова заворчала Агаха.
– Где пушки стоят, тоже знаю! – расходился тем временем Санко. – Солдаты мужиков-то деревенских не пущают, стрелить грозятся, а мы бегаем, нам хлебца иной раз дают да каши. Я ужо и иную прислугу знаю: фийверкеры там, ездовые… Четыре пушки знаю, где стоят. А пулеметов у них сколь-то там, в окопах и землянках, а сколь-то в селе. Когда ученье, их солдаты туда-сюда таскают. Солдат-то – штук триста, поди, а то и поболе.
– Побо-оле! Сколь поболе-то? Может, пятьсот?
– Может, и пятьсот, – подумав, ответил Ерашков. – Может, и пятьсот двадцать. Хотя нет, пятьсот двадцать не будет, поди…
Затопленная Агахой печка стала нажигать зад, Санко заерзал, хотел слезть, но Ваня удержал его:
– Э-э, ты куда?
– Пойду я к дедушку, а то он даст мне бучку, если поздно заявлюся. Не век ведь с тобой на печке-то сидеть, от людей прятаться. Даже в карты не поиграть.
– Я говорил, что мне нельзя? Говорил? А ты не понял? Ух, Сано! Ладно, завтра, когда еще не светло будет, забежишь за мной. В Марково пойдем.
– Ку-уда? – заполошилась тетка. – Только там и ждали тебя! Схватят – где и был!
– Обожди, не гуди. Ты мамке с тятькой сказала, что я здесь?
– Сказала, да тятьки-то не было дома, а мать… Еле отвязалась я от нее! Хотела за мной сюда бежать, пришлось наврать, что ты не у меня ночуешь, незнамо где. Уж не ходил бы ты туда, Ванюшка, солдаты с офицерами там ведь на каждом шагу шныряют. Иные таковы суровые, прямо страсть!
– Все равно, тетка. Как справный красный боец должен я теперь задание свое исполнять, а как примерный сын – мамку с тятькой проведать. Не так, что ли? Ну-ко, отвечай!
– Ох, Ваньша, Ваньша! Ты-то примерный сын? А кто из дому бегал?
– То другое дело. То дело революционное.
– Так оно… Да только сидел бы да сидел у меня, не ходил никуды. Вон Санко-то все узнает, завтра вечером набежит опять да и расскажет.
– Санко… – Ваня покрутил пальцем вокруг носа, словно закручивал ус, с высоты печки глянул на одевающегося друга. – Санко, конечно, мужик свой, неплохой, красноармейской породы. Однако разведчицкое дело еще не постиг. Как я могу одному ему довериться? Возьмет да наврет или еще что-нибудь не то узнает. А мне потом за это перед товарищем Тиняковым, Иван Егорычем, ответ держать? Была нужда.
Дружок Санко покряхтел немного – обиделся – и сказал:
– Ты, Ваньша, с утра со мной лучше не ходи. Увидит тебя кто-нибудь в деревне да и побежит в ромкинский дом, офицерам доносить. Знают ведь, где ты, Офоня с бабой да батюшка Илларион всем расшумели. Ты давай-ко лучше вечерком, я тебя за нашей оградой ждать буду. А днем я по позиции на лыжах пробегу, еще раз те пушки посмотрю. И у ребят поспрошаю, у кого в избе пулеметы стоят. Так ведь лучше будет, а, верно, Вань?
Подумав, Ваня согласился.
– Ты только и вечером поосторожничай, Вань, – попросил его, уходя, Санко. – У нас в избе, слышь-ко, два солдата стоят, а у вас тоже солдат. Так что ты тихонько давай.
– Да что ты, Санко. Нам ведь это, разведчикам, не впервой. Вот зажмурю глаза, скажу: «Эх, честная разведчицка праматерь, Акулина-троеручица, выводи-ко давай!» – так все и будет ладно.
Разведчицкую матерь Акулину любил поминать – во гневе ли, благодушии – товарищ Тиняков.
10
На другой день, лишь стемнело, Ваня Карасов отправился в Марково. Через ворота он проходить не стал, потому что там дежурил белогвардейский пост, а, увязая в снегу, забрал немножко влево, к лесу, перелез изгородь и оказался в родном селе. Дальше на улицу было махнуть – пара пустяков. А вот и Санушков дом, милого друга.
– Э-эй, Сано!
– Здесь, здесь я, Вань! Иди-ко быстрей.
Они зашептались за оградой. Ерашков обсказывал все так толково, что Ваня аж подивился вслух его наблюдательности и сообразительности.
– Да ты, глянь, совсем бедовый, Санко! Тебе бы самый след разведчиком быть.
Тот гордо, солидно выпрямился, вздернул подбородок и вытащил из рукава латаной-перелатаной, расползающейся шубейки сложенную бумагу.
– Карандашиком, Вань, начеркал, как да чего. И где пушки стоят, и как окопы нарыты. И где пулеметы по избам. Сколь офицеров у Ромкиных, у кого сколь солдат на постое. Лошади, да что да…
Ваня сунул бумагу себе в шапку, крепко пожал другу руку:
– Спасибо, Сано, побегу я. Мамке с тятькой надо показаться. А ты у меня будешь распрекрасный большевицкий боец!
Сторожась, прижимаясь к домам, Ваня поспешил к своей избе. Зашел сбоку, отыскал чистое место в покрытом морозным рисунком стекле, глянул внутрь. Отец сидел на лавке, возил куском вара по скрученным суровым ниткам – собирался, видно, чинить валенок. На кованом сундуке, под лоскутным одеялком, спала сестра Анька. Братья Гришка и Петька со страшным ревом молотили друг друга на полу. «Ужо я вас!» – топала на них мать и замахивалась. Братья – ноль внимания. Младший, Васька, сидел в зыбке и сосал кулачок. От радости, что видит опять всех, у Вани слезы защипали глаза, и он сипло закашлял, удерживая плач. Стало жарко в носу, в висках; непослушной рукой он застучал в замерзшее окошко.
– Кто там? – мать метнулась к стеколку.
Ваня махнул ей рукой и побежал на крыльцо.
– Ой! Ты ли, Ванюшка? – вскрикнула Фекла.
– Я, мамка, я! – забормотал он.
Фекла снова ойкнула и тоже заплакала. Так они стояли, обнявшись, пока не вышел отец и не спросил:
– Кого бог принес, мать? – И потом так же растерянно стоял рядом, не зная, как вести себя с внезапно объявившимся сыном. Только губы прыгали.
– Вот так дело! Вот так Ваньтё – тормози лаптем? Ты откуль, Ванюш?
– Да оттуль! От красных. Солдат-то где ваш? Сказывали, солдат у нас в избе стоит, а я его в окне не видел.
– Лешак его знат, – сказала мать. – Он не каждый раз ночует у нас. А утром толковал – отправляют-де его куда-то, до завтрашнего дня. Пойдем скорее в избу, сынушко!
– Нет, мамка. В избу я не пойду. Мало ли… ребята увидят, разболтают, – самим же плохо будет. В Бородино-то мне уж поздно теперь бежать, ты вынеси хлебца, да сала, да картошки, я в конюшне с Игреней заночую.
– Замерз ведь, иди хоть погрейся.
– Нет, нельзя. Вы за меня не беспокойтесь, мы, красные бойцы, ко всему привычны. Нас не замай! Как-нибудь уж… хлебушка только принесите.
– Ты надолго ли сюда, Ванюш? – робко спросил отец.
– Я, тять, рано поутру убегу. А там – ждите красные войска с победой, скоро прогоним к лешакам ваших сатрапов.
– Но-но… А кто это такие, сатрапы?
– Да колчаки, кто!
– Но-но…
У Игрени в конюшне было, конечно, уже не так холодно, как на улице, но и не больно тепло. Наевшись и напившись молока, Ваня отогрелся и задремал, однако к утру холод пробрал его окончательно, он то быстро ходил из угла в угол конюшни, то грел руки на теплой лошадиной шее, то садился на кобылу и прижимал ноги к ее теплым бокам.
11
Утром стукнула, заглянула мать:
– Ой, Ванюш, да ты ведь весь замерз! Идем-ко в избу хоть ненадолго, там самовар кипит, я тебе и сахарку к чаю дам, у меня есть маленько за божничкой. Пойдем, пойдем, родимой.
Ваня колебался минуту, но соблазна преодолеть не мог; притом – как побежишь до Бородино к тетке Агахе такой стылый? Упадешь, замерзнешь по дороге – только и видел тебя тогда товарищ Тиняков! И он пошел в избу.
Сел на лавку возле стола в горнице, поглядел на спящих в разных углах избы братьев и сестру. О горячую кружку с чаем согрел пальцы. Скинув зипунчик, стал есть картошку с конопляным маслом. Вкусно! Ел и ел, настукивая ложкой по миске. Мать, посидев напротив, снова затопталась возле печки, готовя еду для семейства: так, занятые своим делом каждый, они прослушали, как стукнуло на крыльце, кто-то пробежал по сенкам и толкнул дверь избы.
– Охти, охти! – успела только рыднуть Фекла. – Ходила за водой, не закрыла дом-от я, тетеря! Прячься, Ванюшка!
Сын вскочил, опрокинув лавку, растерялся на мгновение и увидел: в избу с клубами пара вкатилась толстая Офониха.
– Ойе! – вскричала она. Аж присела – так удивилась. – У тебя тут, Феклуха, гостенек дорогой. А я за скалкой забежала: моя-то пропала, никак не могла найти – или Яшка куда задевал, или Ромкины угланы опять украли. Беда с ними! Ну, Ванюшка, какой ты стал баскоо-ой. Вот она, военная-то служба. Да ведь все, поди-ко, у красных состоишь? При том самом комиссаре. Ага, Вань?
– Не болтай! – угрюмо сказала Фекла. – Не видишь – домой сынок пришел, тятьку с мамкой проведать. И ни у кого он не служит теперя. Ну-ко скажи ей, сынушко!
Ваня промолчал, исподлобья сверкнул глазами на Офониху. Ведь экая пустая баба, а уж злющая и хитрая – такой поискать. Он еще не мог забыть обиду, нанесенную ему в борисовском доме, когда заезжал туда попросить водицы раненому товарищу Тинякову.
Уже не обращая внимания на Карасевых, Офониха вдруг рванулась обратно в дверь.
– Скалку возьми! – крикнула ей вдогонку Фекла.
Но та уже исчезла в сенях и дробно скатилась – тум-тум-тум – с крылечка.
В избе на короткое время словно замерло все. Мать и сын – каждый со страхом – глядели друг на друга. Завозился на полатях Петро, шумнул, свесив вниз голову:
– Эй, Ваньтё! Тормози лаптем! Ты уходишь, что ли, сынушко? Давай-ко хоть оладей горяченьких, что ли, ему напеки, мать.
– Замолкни ты, идол! – взвопила с плачем Фекла. Побежала к вешалке, сдернула Ванюшкину одежку, рассыпала скороговоркой испуганные слова: – Ты давай, Ванюшка, давай… чтобы ладно было… ладом все… Ух, змеина… выследила, вынюхала… Ты давай-ко, сынушко, скорея, скорея… Да бегом беги, не оглядывайся… чтобы ладом все было, ладом…
Отец, ничего не понимая, слез с полатей и бестолково завертелся по избе, тычась в углы, усиливая внезапно возникшую толкотню.
– Что, что? – спрашивал он.
Мать застегивала Ванину одежку, а сам он рвался к двери. Так торопился, что, вылетев из избы, поскользнулся на крылечке и угодил в сугроб – прямо головой, аж плечи впечатались в снег. Выкарабкался, покрутил шеей – кажись, еще цел маленько! – поднялся и пошагал по улице. Было еще довольно темно, и он хотел так же, как вчера, перед воротами уйти в сторону, огибая белогвардейский пост, перебраться через ограду и выйти на дорогу в Бородино. Шел быстро, не глядя по сторонам и не сторожась, и это подвело его: лишь только он миновал дом батюшки Иллариона, как кто-то отделился от стены, схватил сзади за локоть и сказал:
– А ну-ка стой!
От крика этого, от внезапности, непоправимости случившегося Ваня ощутил цепкий льдистый ужас, рванулся, но тут же другой солдат забежал вперед и, приставив к его груди штык, пробубнил:
– Куды-куды, ты постой, товарищок…
Ваня остановился, оглянулся беспомощно по сторонам и увидал ныряющий в сугробах, несущийся прочь от этого места темный ком: это Офониха бежала домой после сделанного ею доноса на сына соседки, который еще совсем недавно дневал и ночевал в ее избе. И ничем не омрачилась после этого ее душа. Она и дома всем рассказала о своем поступке и встретила одобрение домашних и иных пришедших на скорый слух деревенских богатинок: «Так-де ему и надо, Ваньке, краснопузому». И отец Илларион возбужденно гомонил среди них: «Тако, тако! Наказать, сугубо взыскать богомерзейшего отступника Ваньку, да под розгами и подпустить ему: „Ладно ли тебе, чадо? Бога-то не вспомнил ли? Ну-ко давай-ко, вспоминай“. Вспомнит, вспомнит, увидите, запросит сей отрок у мира пощады и покаяния…»

12
А Ваня тем временем сидел в амбаре большого дома деревенского богатея Ромкина, где размещался штаб белогвардейского отряда, и ждал решения своей участи. Вместе с ним сидел там еще колчаковский солдат, арестованный за кражу валенок из обозной повозки. Вор сначала заинтересовался соседом, спросил, нет ли еды и курева; умяв же ковригу сунутого матерью Ване на дорогу хлеба, сыто отдулся и рассказал о своем преступлении. На вопрос, какого ждет наказания, ответил вяло:
– Шомполков, поди-ко, пожалуют. Ну, да я уж бит. Как-нибудь, бог даст… Сам-то кто, в чем виновен?
– Ни в чем я не виновен. У тятьки с мамкой гостил, да и схватили.
– Тады сиди спокойно. Ежли не расстреляют, так выпустят, – ухмыльнулся солдат.
– А почему ни о чем не спрашивают? – забеспокоился Ваня. – Сколь мне можно здесь сидеть? Поди-ко, уж день настал, а я все сижу да посиживаю!
– Обожди, не торопись. Господа офицеры с утрева кофий да какаву попивают. Дойдет твоя очередь!
В амбаре было холодно, почти так же, как в конюшне у Игрени. Ванюшка чакал зубами, совал ладони в рукава, пытаясь согреться.
Не согрелся, задремал от усталости и отчаяния и почти сразу был позван в избу конвойным солдатом. Его провели по длинненькому, похожему на сени коридорчику между большой печью и стеной. Ваня думал, что окажется в комнате, где Ромкины устраивали совместные трапезы, однако солдат велел подниматься на второй этаж, и там он оказался в обширной горнице. В ней за столом сидели, о чем-то переговариваясь, два офицера – подпоручик и штабс-капитан. Знаки различия белогвардейской армии Ваня знал хорошо.
– Подойди к столу, голубчик, – сказал штабс-капитан, отпустив конвойного. Он был значительно старше подпоручика, рыхл и голубоглаз, со вздернутым носом, и китель на нем сидел мешковато, как-то не шибко по-военному. Встретишь такого где-нибудь ненароком и подумаешь: добрецкий дядька! – Как тебя зовут, говоришь? Ну, молчи, молчи, я все равно знаю. Иван, верно? Имя-то какое хорошее, самое русское.
Хмурый, чернявый, подтянутый подпоручик неопределенно кивнул, дрыгнул ногой в тонком блестящем сапоге, ударив носком по ножке стола.
– А кто же тебя, истинно русского мужичка, учит, что надо революцию непременно делать? Господ свергать? В расположении войск крутиться?
– Ни по чему я не крутился.
– Ну вот, еще и лжешь.
Вдруг дикий вопль раздался под окнами избы. Толстяк поморщился, а подпоручик встал, глянул:
– Это, Евгений Павлович, Федоркина порют.
– Так драли бы его где-нибудь на огороде, что ли. А то нашли место – прямо перед штабом!
– Нет, клянусь честью, это-то как раз и не плохо. Вид публично наказуемого устрашает. Не воруй! Демонстрация, демонстрация нужна, демонстрация! – Офицер так взглянул на Ваню, что тот съежился, и на лбу выступил мелкий пот.
«Ой, сколь страховидный! Всех бы, поди, убил», – подумал он. И вслух заканючил жалобно:
– Отпустите меня, дяденьки-и… Не знаю никого, ничего…
– Лжешь, лжешь, голубчик, – штабс-капитан опять скривился от донесшегося с улицы неистового воя. – Нам доподлинно известно, что ты служил у красных, причем добровольно, а не по мобилизации. Впрочем, какая может быть мобилизация для мальчишки? Ну, это неважно. Так вот: одного факта твоей службы у большевиков достаточно, чтобы расстрелять тебя без суда и следствия.
Крики внезапно прекратились, и наступила тишина. За окнами стоял ясный, солнечный морозный день.
«На лыжах бы сейчас», – мелькнуло в голове у Вани.
– Но если ты сейчас подробно ответишь на некоторые наши вопросы насчет твоей службы в Красной Армии, а после публично раскаешься перед своими земляками в совершенном преступлении, мы, так сказать… сможем смягчить наказание…
– Какие еще вопросы?
– Ну вот, молодец. Вопросов у нас будет много: к какой части относишься, кто тебе дал задание, какое, круг командиров, с которыми общался… Не молчи, не молчи, это тебе не на пользу. Может быть, ты дал им какую-то присягу, или клятву, или вообще какое-нибудь слово, и теперь боишься его нарушить? Стойкость и верность слову – качество, конечно, отменное, но имей в виду, что любая клятва относительно тех, кто тебя послал, – пустой звук. Ибо однажды они уже преступили присягу, данную богу и царю. Значит, кем мы можем их считать? Христопродавцы, клятвопреступники – вот и все слова…
Заржали кони, загикали люди под окнами: видно, шел обоз. Эх, завалиться бы на дровенки, на мягкую соломку…
– Врете вы все! – сказал Ваня. – Все вы врете.
– Так-так-та-ак! – удивленно вскинул руками штабс-капитан. – Что же это мы врем? Интере-эсно! Просим пояснить.
– Никакие они не клятвопреступники, вот! И никого они не продали, дяденьки!
Пронзительные глаза подпоручика снова уперлись в Ваню, а штабс-капитан воскликнул:
– Вот они, наши мужички! Мы-то думали, он после нашего разговора со Христом побежит в свою избенку – сеять и жать хлеб, кормить коровку, молиться о властях предержащих, а он…
– Что говорить, Евгений Павлович! Долиберальничались мы с ними. Мало драли в свое время, надо было больше драть, мало Столыпин за пожары в усадьбах вешал, надо было больше вешать.
– Нет, вы обождите! – Ване кровь бросилась в лицо, и порозовело в глазах. – Только, видать, и знаете – драть да вешать! А мужик на вас за это работай – со Христом, да? Коровку корми? Да еще на своих богатинок гни шею? Ладно, если до весны хлебушка-то хватит! А нет – опять иди Ромкину в ноги кланяться. Он даст, у него много. Да только за хлеб-от за этот сколь на него робить надо! Разве ж это правильная была власть? Чего мужику за нее молиться-то?
– Э, да ты, братец, еще и агитатор? Не могу стерпеть, надо поучить тебя…
Штабс-капитан вскочил со стула и, кряхтя, кинулся к Ване. Мальчик отскочил к двери, толкнулся в нее, но она оказалась закрыта. Подбежавший подпоручик завернул ему за спину руки, а толстяк, ухватив мясистой сильной рукой Ванино ухо, скрутил его. Ваня зажмурился – так велика была боль. Что-то треснуло – и сразу стало жарко, торкнуло в виски, и только тогда он закричал.
Штабс-капитан будто опомнился от этого крика, сразу отпустил ухо, поглядел брезгливо на обрызганные кровью пальцы, достал платок и стал аккуратно вытирать их.
– Пойду я, Сергей, – сказал он устало и подавленно. – Что-то… нехорошо мне стало. А этого малолетнего Робеспьера возьмите уж на себя. Только я прошу – без этих ваших пытошных методов. Мы ведь не Шешковские, не Малюты Скуратовы.
– Полагай – решим все без формальностей, по законам военного времени? – спросил подпоручик за Ваниной спиной.
– Да, разумеется, голубчик! Составьте такую небольшую бумагу… для отчета. Я подпишу.
Когда за ним закрылась дверь, подпоручик громко выругался, гаркнул:
– Либерал! Долиберальничались, просадили Россию. Ручки боится запачкать!
Потом он бил Ваню. Устал, вытащил за шиворот в сенки, бросил на стылый пол, сказал часовому:
– На место его!
Тот – пожилой, усатый – сел перед мальчиком на корточки:
– Ах, вашбродь, вашбродь… Ну, вставай ино, малой, потихоньку… Вот так… вот так…
Обнял мальчика, потащил по сенкам. Ваня мутно видел, как навстречу им попались братья Ромкины, друзья по детским делам. Они куда-то торопились, разговаривали и вдруг быстро, как мышата, метнулись вбок и припали к стене. Лица у них были испуганные. Конвоир проволок Ваню мимо них.
Возле открытой двери в амбар сидел на чурбаке только выпущенный оттуда вор-солдат, тот самый, что сказал Ване утром: «Ежли не расстреляют, так отпустят». Солдат постанывал от боли; при виде мальчика он охнул, хлопнул руками по коленям и заплакал. Конвоир согнал его с чурбака:
– Ступай отсель, Федоркин. Получил свое и иди, не мути людей.
Солдат убрел, стеная, волоча за собой холщовый мешок. А Ваню конвоир ввел в амбар, посадил возле стены, достал из кармана маленький, облепленный табачными крошками кусок сахара:
– На, пососи хоть чуток, легче станет.
Вышел и стал закрывать дверь на толстый деревянный засов. Ваня пососал сахар, но легче ему не стало, вроде еще сильней заболело тело. Да еще ухо горело, и от этого страшно ныла голова. Он пополз в угол, где стояла маленькая бадейка с водой, наклонил над ней лицо, стал жадно пить, затем свалился на пол и забылся.
То ли во сне, то ли наяву – появлялся в амбаре беркут-подпоручик, снова пинал его, орал: «Ну-ка рассказывай всю подноготную! А то перестреляю на глазах всю твою родню-блудню!» А он лежал перед офицером, распростертый, как кукла, и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.
Лишь к вечеру отошел, со стоном перевалился на живот, попытался встать; заглянувший на шум часовой дал ему кусок хлеба:
– Ешь, болезной.
Он ел и чувствовал, что голова снова становится чистой и уже не так ноет тело. Нагреб в угол соломы, попробовал снова забыться – и не мог. Не добраться теперь по доброй воле ни до мамки, ни до тятьки, ни до тетки Агахи, ни до товарища Тинякова… А как было бы хорошо!
В то, что его казнят, Ваня не верил – как в детстве вообще никто не верит в собственную смерть. Поползал в темноте по амбару, покуда не нашел выброшенную при обыске из дорожной котомки дудочку-жалейку, подаренную некогда Михеем. Утром его обыскивали солдаты-доброхоты в караулке, но лишь сверху, очень нетщательно, потому что начальник караула был пьяный, лыка не вязал. Самое главное – не нашли тогда бумажку, спрятанную Ваней в шапку, бумажку, где верный друг Санко Ерашков нарисовал расположение белогвардейских позиций и написал о вооружении и численности марковского гарнизона. Ваня эту бумажку свернул и утыкал в мох амбара между бревнами. Теперь проверил, на месте ли они. На месте-то на месте, да что теперь от нее толку? Нет уж, не попадет она к товарищу Тинякову до того самого времени, покуда Марково не освободят красные войска и его не выведут из этого проклятого амбара на бел-свет. Тогда подойдет к нему Иван Егорыч и скажет сурово: «Выходит, не получилось твое разведчицкое дело, боец Карасов. Жалко, жалко. А я было на тебя понадеялся…» И проедет дальше на лошади, только пыль задымится за ним. Ваня всхлипнул. Вспомнил песенку:
Ох ты, Ваня, разудала голова,
Сколь далеко отъезжаешь от меня,
На кого же оставляешь ты меня?
Аль на братца, аль на друга своего?
Братца нету, друга в очи не видать,
С кем прикажешь теплым летичком
Со весною мне гулять?
– Гуляй, гуляй, моя милая, одна,
Не забывай обо мне-ка никогда…
Приложил ко рту берестяную дудочку – подарок красноармейца, душевного друга Михея – и попробовал выдувать легонько мелодию. Легонько, совсем тихо – выдувалось неплохо, но стоило подуть сильнее – жалейка начинала хрипеть.
На плоту было, плоточке,
Ладо, ладо, на плоточке.
Девица мыла чеботочки…
– Хороший был мужик дядя Михей! Хорошие пел песни.
Возня, сдавленное фырканье послышались за амбарной стеной. Это братья Ромкины пробрались к амбару и запели:
Ох ты, Ванька ты Карас,
Ты попался в эфтот раз,
Теперь, Ванька, не балуй,
Посиди да покукуй!
Часовой солдат завозился на чурбаке, цыкнул, топнул на них:
– Пошли отсель, шалыганы! Вот стрелю теперь, как ведено по уставу, – будете знать!
Ребята убежали.
«Ничего, погодите, надерет вас вечером отец – тогда запоете…» – со злорадством подумал Ваня. Ромкин порол своих вороватых сыновей каждый вечер – для порядка.
Вскоре появился сам Ромкин с отцом Илларионом и Офоней Борисовым.
– Слышь, служивый! Открой нам амбар-от. Страсть охота Ваньку Караса поглядеть – што он за такая стал птица?
– Не положено! – угрюмо отвечал солдат. – Ежли вы без пароля, без начальственного позволения – тогда без разговору должон я в вас стрелить!
– Ой, ой! – заторопился Ромкин. – Ты обожди! Нам сами их благородие, господин штабс-капитан, позволили. Давай, отпирай амбар-от, он в моем, поди, доме или нет?
Солдат, ворча, отодвинул засов, и вся компания, нагибаясь, проникла в амбар. Офоня Борисов угодливо держал керосиновую лампу, а кривобокий пегобородый Ромкин с толстым батюшкой ходил вокруг пленника.
– Што, Ваня, не глядишь на нас? – спросил поп. – Или стыд тебя одолел?
– Была мне нужда глядеть на вас, мироедов! – раздался суровый ответ.
– Гляньте-ко, мужики, – сказал Ромкин, – большевичок у нас Ванька-то, истинно большевичек! Комиссар! Ну-ко я его! – И он сильно пнул мальчика в бок. Тот повалился на пол.
– Вот я вас! – застучал прикладом часовой. – Не своевольничать мне тут! Тебя бы так-то стукнуть. Убирайтесь живо! Насмотрелись, поди!
Полупьяный батюшка протрубил еще на прощанье:
– Уйми, Ваньша, гордыню! Вот отдерут тебя батогами на миру, тогда, истинно говорю тебе, отвратишься ты от богомерзких своих комиссарских дел. Не верю я в столь глубокую твою порчу. Одумайся!
Они ушли.
«Поди-ко, ночь уже», – подумал Ваня, услыхав, что снаружи, перед амбаром, стали меняться часовые. Прежний был дядька неплохой: он все сидел, ворочаясь, на чурбаке, смолил, видно, цигарку да гудел что-то под нос. А новый оказался ретивый: ходил, ходил перед амбаром, а когда Ваня попросил его:
– Дяденька, скажи, времечка сколь? – злобно рыкнул:
– Я те не пономарь на колокольне, часы-те возглашать, мизгирь красноармейский!








