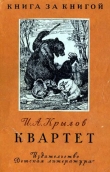Текст книги "Брестский квартет"
Автор книги: Владимир Порутчиков
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Слоним был немецким уже несколько дней и отступающим на восток советским частям ничего не оставалось, как обтекать город южнее и севернее, через поля и холмы, где их уже поджидали вражеские танки и врывшиеся в землю пулеметчики… Там горела специально подожженная немцами рожь: выкуривать прячущихся среди высоких стеблей красноармейцев, и оттуда гнали к городу первых пленных…
Горел и Слоним. Вся западная часть города была охвачена пожаром и ветер нес дым в сторону белоснежного костела, и дальше за реку Щару к синеющему на противоположном берегу лесу…
Но, несмотря на пожар, до которого пока не доходили руки у новой власти, на непрекращающиеся вокруг бои, немцы чувствовали себя в городе почти в полной безопасности, и расслабленность, свойственная тыловой жизни, уже сквозила во всем… Поэтому никто поначалу не обратил внимания на тяжелый русский танк, вдруг выкатившийся на главную площадь и прямой наводкой долбанувший по окнам большого старинной постройки здания, в котором только вчера днем расположилась фельджандармерия. Словно маленькое солнце на мгновение вспыхнуло и разорвалось внутри, и все потонуло в клубах черного дыма. Из окон стали выпрыгивать люди, затрещали автоматные очереди, a KB, выпустив по зданию еще один снаряд, загромыхал дальше но городу, давя гусеницами встречные машины и мотоциклетки… Судя по выбранному направлению, он стремился к реке.
Тем временем в радиоэфире уже взволнованно кричали о прорвавшемся в Слоним противнике, в штабах яростно крутились ручки полевых телефонов, и командир нацеленной на другой берег Щары батареи, дыша в трубку перегаром и мгновенно трезвея, в расстегнутом мундире, получал приказ срочно развернуть пушки навстречу русскому танку…
Успели, развернули, подпустили близко: чтобы наверняка, и засадили бронебойными со всех стволов. Но снаряды просто разорвались на надвигающейся махине, не причинив ей видимого вреда…
«О, майн гот!» – только и успел сказать молоденький артиллерийский офицерик, отпрыгивая в сторону. В следующее мгновение грохочущие гусеницы подмяли под себя и его орудие, и расчет, и покатились дальше, круша позиции батареи. С хрустом лопались под многотонной громадой стальные пушечные колеса на резиновом ходу, гнулись еще горячие от выстрелов стволы, а в разбегающиеся дерганые фигурки артиллеристов безжалостно били три пулемета русского танка: курсовой и два башенных…
Уничтожив батарею, KB устремился к мосту, но тут из близлежащего переулка, ломая нависшие над заборами ветки яблонь и сшибая на броню, под рвущие землю гусеницы еще недозрелые плоды, вдруг вылетел немецкий танк PZ IV. Чуть притормозил, повернул квадратную башню и бабахнул: аккурат в подставленный под выстрел бок русского. Четко и красиво, как на стрельбах. Торжествующими улыбками охотников осветились лица наводчика и командира, со звоном полетела на клепаный железный пол обожженная пороховыми газами гильза, радостно закричали припавшие к земле артиллеристы…
Но вместо того, чтобы выбросить вверх огненно-дымный столб, KB словно стряхнул с себя облачка разрыва, продолжая движение к мосту, только уже с нацеленной в сторону немецкого танка пушкой… «Задний ход, быстрей! На-за-а…!» Слова, внезапно обретя вязкость, так и застряли в горле командира PZ IV. Страшное, бездонное в своей черноте жерло смотрело прямо в его расширенные зрачки, и это было последнее, что он увидел в своей жизни…
– Хилый мост… Боюсь, наш бегемот его просто раздавит. Ну да ладно – деваться все равно некуда… Попробуем с разгона… Давай, Вася! – кричал в переговорное устройство и не слышал своего голоса Тарасов. Из его носа текла кровь – последствия удара о прицел… Не лучше выглядели и остальные…
Деваться было действительно некуда: ревущий двигатель сжирал последние литры солярки, и мост оставался единственной надеждой прорваться на соседний берег. А там спасительный лес, и наши… В том, что на соседнем берегу, за лесом должна находиться линия русской обороны, товарищи не сомневались…
Взревев во всю мощь своего двигателя, KB вылетел на мост… Затрещали бревна под многотонной громадой, и от этого треска, как струны, напряглись нервы у сидящих в танке людей, словно от их внутреннего напряжения сейчас зависело, выдержит мост или нет…
Мост не выдержал, когда они были уже на середине… Проломив настил, KB обрушился вниз, увлекая за собой обломки бревен и перекрытий… Упал на самый край песчаной отмели, с которой чуть сполз назад и тылом уперся в речное дно. Весь моторный отсек ушел под воду, а передняя часть танка вздернулась кверху. Гусеницы намертво впечатались в несколько смягчивший удар песок…
– П… – приехали! – процедил сквозь зубы старшина, когда затих стон потревоженного металла и разгневанный натиск речной воды сменился умиротворяющим плеском. – Ну что, теперь пора выбираться… из этой бронированной могилы.
– Быть может, лучше дождаться темноты, – предложил вдруг Крутицын, прижимая ладонью разбитый лоб…
– Что говоришь!? Подождать!? – лицо Тарасова сразу стало злым. – Быть может и лучше… Да только немцы успеют за это время очухаться и обложить нас как зверя со всех сторон… Тогда точно – шансов уйти уже не будет никаких… Кто не согласен – может оставаться здесь до ночи, – старшина задрал голову и крикнул в башню. – Эй, Коромыслов, давай-ка сюда кормовой пулемет… Будем уходить через аварийный люк: первым пойду я – буду прикрывать отход. За мной Коромыслов, Пригожин и… все остальные!.. Желающие!.. Вася, пойдешь последним!
Чибисов хотел было возразить, но Тарасов его перебил:
– Здесь я, лейтенант, командир и решать буду тоже я… И вообще, у нас мало времени… Так что «шнеле», как говорят наши немецкие друзья, едрить их через пень налево!..
Прижавшись щекой к отполированному землей траку, Тарасов бил короткими очередями по кромке соседнего берега, по нависшим над водой остаткам моста, где тоже замелькали было немецкие каски, бил, выигрывая драгоценные минуты для своих товарищей, которые уже успели добраться до деревянных, заросших ивняком опор за его спиной и теперь под их прикрытием лихорадочно карабкались наверх… «Давай, родимые, давай, хорошие!.. Поспешай!» – кричал старшина и расстреливал последние патроны…
Несколько брошенных с берега гранат упали совсем рядом, но взметнувшие воду взрывы и яростно пробарабанившие по броне осколки не достали спрятавшегося за гусеницей танкиста… «Хрен вам, сволочи!» – прокричал в ответ старшина и обернулся назад… За опорами, как ему показалось, уже никого не было, лишь в самом верху у перил еще чуть покачивались растревоженные беглецами ветки ивняка… «Дай бог, чтобы успели… Они просто обязаны были успеть… А то зря я здесь что ли кувыркаюсь!» Тарасов, отбросил в сторону бесполезный теперь пулемет и расстегнул кобуру… «Капитан корабля, покидает судно последним… Прощай, бегемот», – прошептал он и, погладив шершавую броню своей КВ-ки, всю в оспинах от прямых попаданий немецких снарядов, осторожно выглянул из-за гусеницы… С немецкой стороны сразу же затрещали автоматы. Свинец лупил по танку, и тот отзывался глухим, недовольным гулом, словно и взаправду был живым. Одна из пуль царапнула Тарасова за щеку. В запарке боя он ни разу не подумал о смерти, а тут вдруг… Нет, старшина не испугался, просто мелькнуло в голове: вот сейчас тебя могут убить. Так просто и нереально. Убить, убит, погиб – будничные глаголы войны… Тарасов чертыхнулся, размазывая по щеке кровь. Выстрелил, не целясь, несколько раз в сторону немцев и что есть мочи бросился к спасительным опорам моста… Бежать было недалеко: каких-нибудь десять, от силы пятнадцать шагов по следам, оставленным его товарищами на мокром речном песке… В следующее мгновение старшину словно огрели по правой ноге железным прутом, и он едва не упал, вскрикнув от внезапной боли. Чудом сохранил равновесие. «Пожалуй, не добежать… Надо бы назад к танку. Отсидеться…» Но было уже поздно… Еще несколько пуль ужалили в спину, навылет прострелили руку, сжимавшую пистолет. Успел перехватить, обернулся, зло оскалившись, и упал боком в неожиданно быстро надвинувшийся песок…
24Никакой нашей обороны на другой стороне Щары не было… Об этом товарищи узнали чуть позже, когда, углубившись в спасительный лес, вдруг натолкнулись, – их задержало сторожевое охранение, – на большую группу красноармейцев – числом около батальона. Все из разных частей и родов войск, даже кавалерии. Командовал этой разношерстной группой невысокий подполковник с красными от недосыпа глазами…
Первыми были допрошены танкисты. Услышав о разгроме немецкой батареи, подполковник пришел в сильнейшее волнение… – Эх, вам бы прошлой ночью к мосту подойти! – вырвалось у него… Как оказалось, в ту ночь он со своими бойцами пытался прорваться на противоположный берег реки, но, попав под мощный огонь пулеметов и артиллерии противника, был вынужден отойти в лес…
– Значит, через город дороги тоже нет… – подвел печальный итог подполковник. – Спасибо, товарищи за сведения!.. Можете пока идти отдохнуть… К сожалению, накормить не могу… Нечем… Сами уже второй день на подножном корму. Он повернулся к остальным задержанным… Узнав, что документов ни у кого, кроме Крутицына, нет, нахмурился. Спросил сухо: – При каких обстоятельствах потеряны?.. Почему не сохранили? Внимательно выслушал объяснения, переводя колючий взгляд, то на Чибисова, то на Соловца с Брестским, на их осунувшиеся заросшие многодневной щетиной лица. Выдержал паузу… и махнул вдруг устало рукой: – Ладно… Верю. На диверсантов, вроде бы, не похожи… Мы все тут, как говорится, в одной лодке… В общем, товарищи, ситуация такова…
Наши войска отступали не только от границы. Барановичи, куда так стремился Чибисов, были давно уже заняты немцами. Более того, пал и Минск.
– Да-да, товарищи, мы в глубоком немецком тылу… В окружении… – подтвердил самые страшные предположения Федора подполковник. – Большой массой нам, увы, не пройти. Все попытки прорваться в течение вчерашней и сегодняшней ночи успеха не имели. И думаю, уже бессмысленны… Только понапрасну людей положим… Поэтому!.. приказываю всем разделиться на небольшие отряды: по три – пять человек, и самостоятельно выходить из окружения…
Поздно вечером четверка друзей двинулась в леса и далее через Пинские болота (по совету Крутицына) в сторону Гомеля. Из окружения они вышли лишь через месяц… Что сталось дальше с танкистами, подполковником и остальными собранными в лесу бойцами, друзья так никогда и не узнали…
25– Кто может подтвердить Вашу личность? – спросил капитан особого отдела, исподлобья глядя на Чибисова.
Федор назвал несколько фамилий, в том числе капитана Буланова и полковника Алехно – всех, кого знал, кого смог вспомнить, выдерживая пристальный, недобрый взгляд энкэвэдэшника и чувствуя, что ему не верят. Хоть повались он сейчас в ноги или ударь себя кулаком в грудь. Все равно – не поверят. Чибисову вдруг показалось, что комната наполнена каким-то свинцовым зыбким туманом, от которого стало трудно дышать… Особист ухмыльнулся краешком рта, словно зная что-то такое, чего не знал еще лейтенант и что делало вину последнего очевидной…
– Полковник Алехно говоришь?.. Застрелился твой полковник, как последний… Покончил жизнь самоубийством… Избежал, так сказать, ответственности за судьбу своей дивизии… А остальные, о ком говоришь, судя по всему, погибли или попали к вам в плен. Иначе откуда тебе, шпионская морда, знать про ту пограничную часть и полковника Алехно? – особист скрипнул зубами и ударил кулаком по столу. Тоненько звякнул крышечкой графин с водой. Чибисов, глядя на всплеснувший крошечными волнами водяной овал, аккурат посреди графина, облизнул пересохшие губы. – А может, ты – засланный к нам диверсант? Вон, вчера у переправы полроты саперов перестрелял и… Немецкий десант. И все, заметь, были одеты в нашу форму… Ну рассказывай, гад, как был завербован и где?! А может, тебя из-под самого Берлина к нам заслали? А?!
У Федора гулко застучало в висках и стол вместе с капитаном вдруг накренился куда-то вбок… «Только не хватало еще в обморок здесь грохнуться» – мысленно разозлился на себя лейтенант и обхватил руками голову… Особист, воспринявший это как жест отчаянья, торжествующе осклабился… «Плохо дело» – подумал Чибисов…
– Плохо дело, – повторил несколько раз Крутицын, прохаживаясь из конца в конец подвала, в котором был заперт вместе с Соловцом и Брестским (Чибисова первым вызвали на допрос). Как глупо все это: избежать немецкого плена, пробраться через захваченную врагом территорию, натерпевшись всевозможных лишений и страхов, чуть не потонуть в болоте, и все для того, чтобы оказаться в застенках Черезвычайки… Неужели они знают о том неудавшемся аресте утром 22-го? Неужели у них так хорошо поставлена информация?
На Диму, сидевшего в углу на куче несвежей соломы, Крутицын старался не смотреть, потому как считал себя прямым виновником его несчастий. «Да-а… Надо было распрощаться с парнем еще в N. Нет же, обрадовался старый хрыч, что в попутчики набивается… Вот теперь, Сергей Евграфович, думай, что делать. Думай…» Морячок сидел в углу, и лицо его было скрыто в тени.
– Сергей Евграфович, а вы боитесь смерти? – донеслось неожиданно оттуда…
– Боюсь, – честно ответил счетовод и вздохнул: жалко было наградного револьвера и опасной бритвы (Машин подарок), отобранных при обыске.
– А вдруг они нас расстреляют?… Не поверят и расстреляют? – не унимался Костя. Судя по всему, этот вопрос занимал сейчас все его мысли.
– Ну, это уж вряд ли, – бодро начал Крутицын, стараясь хоть как-то ободрить паренька. – С чего бы им нас стрелять… Разберутся, Костя! Запросят твой корабль… Там уж точно подтвердят, что ты – это ты. И вообще, люди-то фронту нужны… Не время сейчас ими разбрасываться. Разберутся!
– Как же, разберутся! – горько усмехнулся Брестский. – Поставят вертухаи к стенке, и полетим в заоблачные дали, к праотцам, прабабкам всем скопом… Эх, ведь чувствовал же!.. Отомстить захотел. Господи, и за что мне все это!..
– Бог не попустит больше, чем человек может вынести… – Крутицын резко повернулся к Брестскому. – И, вообще, хватит паниковать. Ведь не зря же через такое прошли и выжили. Дай бог, и сейчас все обойдется… А если не обойдется, то умереть, Дима, надо достойно, как и подобает мужику, а не распускать сопли…
Он не договорил: громыхнул засов и дверь в подвал распахнулась. На пороге в слепящем глаза световом прямоугольнике возникла фигура охранника… За спиной винтовка с примкнутым штыком… Напряженно вглядываясь в подвальный полумрак он крикнул: – Арестованные, все трое, на выход! Да поживее!..
Когда Чибисова вели по коридору, он вдруг, еще не веря своим глазам, увидел майора Андреева, идущего им навстречу. Под фуражкой белели бинты… Каким чудом ему удалось вырваться из той смертельной мясорубки? Вспомнит ли он сейчас лейтенанта Чибисова, которого и видел-то в общей сложности не больше получаса? Федор даже закашлялся, чтобы привлечь внимание поравнявшегося с ними майора, но тот равнодушно скользнул взглядом по лицам конвоира и задержанного и прошел мимо…
– Товарищ майор! – в отчаянии крикнул Чибисов… Андреев вздрогнул и обернулся. Всмотрелся в лицо арестованного…
– Лейтенант, ты что ли? Не может быть! Боец, а ну-ка подожди! Куда вы его?
– Обратно в подвал, товарищ майор! – отчеканил конвоир, грохнув прикладом об пол. – Приказ капитана Стоцкого…
– Обожди, обожди-ка… Дай-ка мне с лейтенантом парой фраз перекинуться…
Чибисов, пунцовый от волнения, как мог кратко рассказал о произошедшем.
– А как же вы, товарищ майор, как же вы тогда? – не удержался, спросил он под конец, – Я думал, что вы…
– И правильно думал, ибо шансов у нас тогда, если помнишь, никаких уже не было… Нас, Чибисов, в тот день наш самолет спас. Истребитель. Я тому летчику по гроб жизни обязан буду… Откуда он появился, с какого боевого задания возвращался – не знаю… Но вылетел он вдруг из-за того самого леска, к которому мы даже не отступали, бежали. – Лицо майора вдруг потемнело, дрогнули губы. Он словно заново переживал свое позорное (Андреев несколько раз повторил это слово, болезненно сморщившись) бегство, разгром полка. – Вылетел и давай строчить из всех своих пулеметов, отсекая немцев от нас. Их от нас… Не помню, как мы добежали до леса… Человек сорок– пятьдесят – все, что осталось от полка. Дней десять пробирались лесами и болотами, пока не вышли к нашим… Вот такая история, лейтенант. Самое главное, что знамя полка вынесли. Спасли полк… А то бы расформировали нас… Да сейчас не об этом!.. – спохватился вдруг он. – С тобой и твоими орлами надо бы разобраться. Лихие у тебя друзья, как посмотрю… Как говоришь: некому личность твою подтвердить?… Ждите меня здесь – я мигом! – приказал он растерянно переминающемуся конвоиру и широким шагом направился к кабинету особиста. Коротко стукнул и, не дожидаясь ответа, скрылся за дверью…
Время вдруг показалось Чибисову густым, как смола. Лейтенант неотрывно смотрел на латунную дверную ручку, которая наконец медленно поплыла вниз и дверь приоткрылась. Федор увидел майорский кулак, сжимающий латунь с другой стороны, нашивки на рукаве, услышал окончание произнесенной Андреевым фразы: «Спасибо, Миша! Я твой должник…». Особист что-то ответил, но Федор не разобрал. А майор уже шел к нему навстречу широко улыбаясь: – Ну, все в порядке, лейтенант: все недоразумения улажены.
– А как насчет моих товарищей? Что будет с ними?
– И с ними тоже все в порядке, – успокоил Андреев. – А вы, боец, зайдите к капитану для получения дальнейших распоряжений? – Когда растерянный конвоир скрылся в кабинете особиста, майор положил руку на плечо Чибисова: – Ну что, лейтенант, пойдешь ко мне в полк?
– А ребят, моих можно будет взять? Я ведь с ними из-под самого Бреста топаю и хотелось бы и дальше не расставаться… Надежные ребята! Все трое!
– Э-э, да ты, как я посмотрю, – засмеялся майор, – квартет себе набираешь? Ну что ж… Я думаю, и этот вопрос мы уладим, если твои орлы, конечно, не против будут… Ладно, пойдем ко мне. Опрокинем за встречу и все поподробнее обсудим… А ребят твоих попозже приведут. Не переживай!.. Брестский квартет, понимаешь!
Часть вторая
1Движутся тени в ночи, под сотнями обутыми в валенки ног поскрипывает спрессованный снег. Меж теней едва слышно шелестят голоса.
– Говорят, на соседнем участке целый батальон на высоте замерз…
– Да ну?!
– Вот тебе и ну!.. Прибыл, говорят, проверяющий из штаба армии и приказал взять эту самую, будь она неладна, высоту. А мороз, сам знаешь…. – голос вдруг осекся, закашлялся, продолжил чуть сдавленно:
– Фрицы-то их на высоту-то пустили, а поднять головы не дают и обратно тоже не пускают: огнем от своих отрезали… Так, почитай, всю ночь на этой высоте и пролежали. Все замерзли, сердешные, до единого!.. Комбат ихний, как узнал, что весь его личный состав подчистую замерз, пустил себе пулю в рот… Не вынес… Вот такие, брат, дела.
– Да, жизнь наша солдатская никчемушная – дешевле этого снега… Эх.
– Разговорчики в строю! Шир-ре шаг!
Хрустит под ногами снег, и слева и справа идут войска, спешат в сторону фронта. Где-то слышится шум моторов, гусеничный лязг – невидимые во мраке танки рвут траками землю, выходя на исходные позиции. А чуть дальше уже никакого видимого движения – там передовая. Тянутся бесчисленные ходы сообщений, пробитые солдатиками в промерзшей земле, от землянки к землянке, от дозорного к дозорному. А за нахохлившимися в своих окопчиках дозорными – заснеженный прямоугольник поля, на другом краю которого немцы. Постукивают из пулеметов да пускают с равными интервалами осветительные ракеты. Ракеты долго-долго спускаются на парашютиках к земле и тогда в их нереальном мертвенном свете видны ряды колючей проволоки, воронки и на нейтральной полосе заледенелые трупы наших бойцов – последствия вчерашней атаки.
Борются с тяжелеющими веками дозорные, стирают иней с заиндевевших ресниц, напряженно вглядываясь в ночь. Когда-то на противоположном конце поля тепло горели, манили и обнадеживали запоздалого путника огни деревеньки, а теперь там черно, неприветливо… Подвалы добротных крестьянских домов превращены в дзоты, нарыты перед ними полнопрофильные, обшитые тесом окопы и насыпаны снежные валы – не подступиться.
Холодно ночью дозорным: не спасает ни ватник, ни шинель. Мороз пробирает до самых костей, и в желудках только крошки от каменных сухарей да горький махорочный дым, и смены, кажется, не будет вечно, как вечны эта январская ночь и стужа и равнодушные звезды, ясно проглядывающие в небесных полыньях.
Но бывают, даже здесь бывают минуты нехитрого солдатского счастья – приход долгожданной смены, тепло прокуренной землянки и котелок каши, заботливо оставленной товарищами около печурки. Когда в землянке есть такая вот печурка да дровишки еще потрескивают в ней, да есть несколько часов на сон – то, значит, в этом безумном мире все-таки еще есть частичка чего-то нормального, человеческого, живого…
Землянка у Крутицына была сработана на совесть: добротная в три наката крыша, разбить которую можно было лишь прямым попаданием снаряда, просторная – в ней легко разместился весь взвод, и самое главное – в ней была раскаленная от жара, потрескивающая дровишками печурка. И сладко, господа-товарищи, было сидеть подле нее, смотреть на огонь и думать о чем-то своем, о мирном, куда уж, поверьте, нет доступа ни войне, ни смерти. Только вот беда – воспоминания тоже изнашиваются вместе с человеком – остаются лишь пестрые лоскуты. И оттого они еще дороже, еще ценнее.
Чаще всего, конечно, вспоминался дом, Маша. Вспоминалось, как читала вслух стихи, забравшись с ногами в старенькое, продавленное кресло подле письменного стола с аккуратной стопочкой школьных тетрадок. На коленях томик стихов еще дореволюционного, с ятями, издания. Свет от настольной лампы мягко ложится на щеку с золотистым пушком, на выбившуюся из собранной в тугой пучок, самой, что ни на есть учительской прически, прядку волос, на высокой лоб.
И стихи-то, собственно, никогда Крутицын не жаловал, считал ненужными военному человеку сантиментами, а тут вдруг стали вспоминаться, приходить на ум, особенно любимые Машенькой Бунин и Тютчев. Стал читать их по памяти вслух. А бойцы просили еще и еще. И в эти минуты Крутицын становился вдруг прежним мягким счетоводом, и васильковые глаза светились тогда невыразимой нежностью, ибо был в этот момент бывший поручик далеко-далеко, рядом со своей ненаглядной, маленькой и такой недостижимой сейчас Машей. И хотя стихи были в основном грустными, осенними, как говорила жена, слушали их, затаив дыхание, и часто просили повторить.
– Это у меня жена – мастерица стихи читать. Она у меня их много знает. Учительница, – нежно тянул Крутицын и довольно щурил глаза. И снова читал «Черный бархатный шмель, золотое оплечье» и «Над чернотой твоих пучин, горели дивные светила…» и «От жизни той, что бушевала здесь…» и многие другие, как он сейчас во всей полноте ощутил чудесные, проникновенные строчки, которые неожиданно для самого поручика прочно осели в его цепкой памяти.
Вспоминались ему и лихие слова старой фронтовой песенки, незнамо кем сочиненной, с той самой первой, далекой уже войны:
Идут тевтоны,
Блестят погоны,
Сейчас их встретим,
Штыком пометим…
Хотя Крутицыну все чаще казалось, что война эта, – ведь все равно проклятая лезет в мысли, не дает забыться, – начатая давным-давно еще другой страной, никак не кончается, и землянка, и это заснеженное поле – все когда-то уже было в его не самой длинной, но, как быстро выясняется на передовой, не самой короткой жизни. Две войны пережил Крутицын, две большие страшные войны и вот теперь третья. Не много ли на одну человеческую жизнь? В начале века все ждали конца света, поговаривали про пророчества, цитировали «Апокалипсис», но вот уже к середине подходит век, а все стоит мир, и кровь все льется и льется… Для чего все эти мучения, жертвы? За какие грехи человеческие? Ведь не может быть, чтобы не было искупления, чтобы это все не вело ни к чему?
Закружила война Крутицына, измотала донельзя и занесла, вместо дома с уютной лампой и стареньким креслом, в заснеженные поля Среднерусской возвышенности, где, скрючившись на нарах в землянке, коротал он в окружении товарищей еще одну тревожную фронтовую ночь…
«Идут тевтоны, блестят погоны…» Сон мягко наваливается на разомлевшего от тепла поручика, и уже не так тоскливо завывает снаружи ветер, и плевать на войну и снег, что уже час как идет, и все сыплет и сыплет, заметая поле, темные линии окоп и, кажется, весь белый свет от моря и до моря.
И уже никуда не идут замерзающие в легком обмундировании тевтоны, и под их платками и полушубками, отнятыми у местного населения, давно скрыты тускло поблескивающие серебром погоны. Отброшенные на сто с лишним километров от Москвы, зарылись они глубоко в землю, понастроили дзотов – приготовились зимовать. Как говорилось в приказе немецкого командования, войскам надлежало «перегруппироваться, собраться с силами для решающего, последнего броска на Восток».
И все, казалось, было у немцев в порядке. Бравые командиры выглядели все так же браво, так же надменно поблескивали в глазах их монокли и горделиво возвышались над околышами не по зимнему щеголеватых фуражек высокие тульи с орлом и свастикой. Но червоточинка сомнения уже поселилась в солдатских завшивевших душах, и в письмах домой было все больше грусти и мечты о простом человеческом счастье.
На короткое время стабилизировался фронт. Только изредка завязывались бои местного значения, тревожили обе стороны налеты разведчиков, да постукивали пулеметы, и то большей частью немецкие – наши берегли патроны. Словно и не было горячки, ужаса, отчаянья лета и осени 1941 года, когда околдованные языческой свастикой тевтоны ударили так, что зашатались кремлевские звезды и показалось затаившему дыхание миру – сочтены дни большевиков…
Полк Андреева входил в состав одной из стрелковых дивизий, прикрывавших Гомель. За город дрались отчаянно, но немцы напирали и напирали, прокладывая себе дорогу при помощи артиллерии, танков и полностью господствующей в воздухе авиации, и командование, дабы избежать окружения, отдало приказ на отход к новому рубежу обороны.
Плановое отступление потихоньку превращалось в беспорядочное бегство. Еще по наведенным понтонам текли, огрызаясь огнем, последние части прикрытия, а с высокого берега реки, скрывшего город и срезавшего половину неба, уже во всю рычали немецкие машиненгеверы и белозубые пулеметчики с закатанными до локтей рукавами не успевали менять желтопатронные ленты.
Ах как весело пели пули, выбивая пыль из высушенной жарким солнцем земли, пролетая мимо и жаля откатывающиеся от города части Красной армии. Большинство из отведавших веселого свинца людей уже никуда не спешили, а, припав к земле, исходили красной густой водицей и навсегда замирали там, где настигала их смерть.
А потом были новые изматывающие бои, постоянная угроза окружения и плена. Пятились с боями к самой Москве, где за старинной кремлевской стеной заседал вождь…
И падал пепел со знаменитой трубки на сухие строчки секретных донесений, скупо сообщавших об ужасной катастрофе, постигшей его армию, о тысячах убитых и сдавшихся в плен, о «котлах», в которых варилось, уваривалось до смерти «пушечное мясо» – солдатики и их командиры, а с огромной, занимающей весь стол карты неумолимо наступали с запада, щетинились, целились в самое сердце хозяина жирные синие стрелки. И таяло как воск время, исходило слезами, стремительно обесценивая кумачовые лозунги и ослабляя железную хватку партии, и казалось, еще немного – способно было покуситься, страшно сказать, на самого хозяина, на его несгибаемое имя – короткое и жесткое, как удар молота по наковальне, как блеск красноармейского штыка, как гул мартеновских печей, в которых плавилась и горела в сто солнц сталь.
И вот на смену партийно-бесполому «товарищ» из черных тарелок и жестянок репродукторов вдруг зазвучало на всю страну православное «братья и сестры». И пошли на фронт ополченцы: пожилые рабочие, артисты, учителя в толстых роговых очках, интеллигентные юноши из еврейских семей и вчерашние школьники с тонкими кадыкастыми шеями, пошли туда, где мешался день с ночью и взрывы безостановочно калечили землю, где безжалостная рукотворная машина с нечеловеческой легкостью перемалывала человеческие вселенные, их мысли и чувства, нервы и жилы, и откуда торопились вглубь страны забитые ранеными санитарные поезда. Но фронт съедал, проглатывал все без остатка. И было мало.
И с каждым днем бледнели, вытягивались лица у кремлевских вождей, и до утра горел в главном кабинете страны за плотными шторами светомаскировки ослепительный электрический свет, и валились, обрывались в никуда головокружительные карьеры, и вдруг возвращались из лагерного небытия, обретая кровь, плоть и командные голоса, чьи-то тени. И таяло, как воск время…
В конце осени все чаще стало звучать в кремлевских коридорах неудобное громоздкое слово «эвакуация». Вначале полушепотом, а потом все громче и громче. Покатились прочь от столицы составы, груженные секретными документами и ценностями. Поговаривали даже, что на запасных путях уже давно стоит под парами особый литерный поезд, готовый в любой момент увезти из города самого хозяина.
Но все-таки устояли. Устояли обескровленные, измотанные в боях войска, курсанты подмосковных военных училищ, москвичи-ополченцы на схваченных неверным осенним морозцем разъездах, высотках и рубежах, ногтями, зубами вгрызаясь в промерзлую землю, когда уже казалось, что все кончено и вот-вот лопнет выгнутая крутой дугой, растянутая на шестьсот с лишним километров линия фронта, и хлынут в город осатаневшие от ожесточенных боев и холода тевтоны.
А потом случилось и вовсе невероятное. Немецкое хорошо смазанное и технически совершенное ружье, приставленное прямо к сердцу русского зверя, внезапно дало осечку. И оказалось, что упирается оно не в беззащитную, истерзанную в клочья грудную клетку, а в стальной кулак, который вдруг отвел дуло в сторону и коротко и страшно ударил тевтона под дых, да так, что не спасла последнего добротная выкованная немецкими оружейниками броня, а гул от удара пошел далеко на Запад, до самого украшенного красными нацистскими флагами Берлина, и нехорошее предчувствие вдруг сжало сердце нервного человека с гладкой зализанной на лоб прядью…
Закружила война Крутицына, измотала донельзя и занесла в заснеженные поля Среднерусской возвышенности. Значит, судьба твоя такая, поручик. Судьба! А что она есть такое? Стечение жизненных обстоятельств, давно предопределенный жизненный путь, Божья воля? «Судьба – это индейка», – хохотнул кто-то смутно знакомый в закоулках крутицынской дремы. Звонко щелкают античные заржавленные ножницы, треплет ветер обрезанные безвозвратно концы.