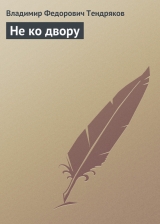
Текст книги "Не ко двору"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
5
На окраине села Кайгородище, рядом с усадьбой МТС, стояло здание бывшей школы. Оно было построено еще в годы, когда начинался поход за ликвидацию неграмотности в деревне. Тот, кто строил эту школу, считал, верно, что детям нужно больше солнца, больше воздуха, дети должны жить среди зелени. Окна в школе были огромные, потолки очень высокие, а сама школа стояла далеко за селом, среди поля. Но этот строитель не учел такой житейской мелочи, как печи. В классах с огромными окнами и высокими потолками были поставлены маленькие круглые печки с дверками, как кошачий лаз. Летом, при солнце, бьющем сквозь обширные окна, стояла жара, зимой – холод. Да и малышам было тяжело ходить за село по занесенному снегом полю. Учителя, работники роно кляли строителя до тех пор, пока в центре села не поставили двухэтажное здание десятилетки с обычными окнами, с обычными потолками, с хорошими печами. А старую школу передали МТС. Половину ее переоборудовали под квартиры директора и старшего механика, в другой половине устроили общежитие для трактористов.
С обеих сторон вдоль стен бывшего класса шли широкие, лоснящиеся от масла нары. На самой середине стояла бочка из-под горючего, превращенная в печку-времянку. От нее вдоль потолка тянулась черная железная труба. На нарах лежали новенькие, всего несколько дней назад приобретенные матрасы. Для подушек пока по приказу директора закупали перо.
Весь день Федор ни разу не вспомнил ни о Стеше, ни о доме. Но когда он, примостив под голову свой полушубок, лег, уставился на железную трубу, бросавшую при свете электрической лампочки ломаную тень на стены и потолок, то с тоской подумал, что сегодня только понедельник. Пять дней до воскресенья, пять дней не бывать дома, не видеть Стешу!
За мокрыми стеклами широких окон стояла черная ночь. В одном углу пиликала гармошка. Гармонист разводит одно и то же: «Отвори да затвори…» У столика ужинают трактористы, разливая по кружкам кипяток из прокопченного чайника. А Стеша, верно, сидит сейчас на койке, морщась расчесывает густые волосы – одна в комнате… И пестрый половичок на сундуке, и стол под белой скатеркой, и приемник – вспомнился недорогой уют, свое гнездышко, освещенное пятнадцатилинейной лампой. «Абажур надо купить завтра, по магазинам поискать. Не поскупиться, подороже который…»
Но на следующий день он так и не сбегал в магазин, не купил. Пришли из деревень еще трое трактористов его бригады. Разобрали мотор, Федор присматривался к ребятам. Забыть про абажур не забыл, а все было некогда, все откладывал.
Чижов молчал, не поднимал глаз, но не перечил, слушался.
Трактор КД, или, как звали в обиходе, «кадушечка», был хоть и подзапущен, но новый, не проходивший по полям и года. Ремонт пустяковый: подчистить, отрегулировать, сменить вкладыши…
Угрюмость Чижова, кругом еще плохо знакомые люди, все одно к одному – домой бы! Успокоиться, а там можно обратно, не сиднем же сидеть подле жены…
– Товарищ Соловейков!
Пряча в беличий воротник подбородок, стояла за спиной Машенька-секретарша.
– Идите в контору.
– За вами, Машенька, хоть на край света.
– Пожалуйста, без шуточек. Вас жена ждет. – Машенька дернула плечом и отвернулась.
В новых валенках, в новом, необмятом полушубке, и пуховом платке, из-под которого выглядывал матово-белый нос и краешки румянца на щеках, сидела в конторе Стеша.
При людях они поздоровались сдержанно.
– У нас с маслозавода машина пришла, так я с ней… – Стеша боялась оглянуться по сторонам.
– С чем машина-то? – серьезно, словно это ему было очень важно знать, спросил Федор.
– Да ни с чем, пустая, тару нам привозила… Они вышли из конторы, и Стеша тяжело привалилась к его плечу.
– Федюшка, скучно мне одной-то… Только ведь поженились, а ты сбежал. Работа-то тебе, видать, дороже жены.
– Сам воскресенья не дождусь. Ты хоть дома, а я на стороне…
– Отпроситься нельзя ли на недельку? Сорвался, поторопился, пожить бы надо.
Добротная, широкая, теплая какая-то, она глядела на него снизу вверх, и не было в ее взгляде прежней девичьей уверенности: «Никуда не уйдешь, тебе хорошо со мной…» Вот ушел, тревожится, может, – даже думает: не загулял ли на стороне, характер соловейковский ненадежный. Обнять бы, прижаться, в ресницы пугливые расцеловать – нельзя, день на дворе, народ кругом.
«Верно, Стешка, верно. Рано сорвался, пожить бы надо!»
Целый час они ходили по эмтээсовскому двору, говорили об абажуре на лампу, о том, что заболел подсвинок, плохо стал есть… Говорили о пустяках.
Вечером Федор сидел в кабинете директора и доказывал, что надо съездить на недельку домой.
– Молодая ждет? – понимающе подмигнул директор.
– Молодая не молодая, а ремонт-то кончаем, делать мне здесь вроде и нечего.
– Мeтил я тебя над шибановской бригадой шефом поставить. Ты ведь почти на готовенькое пришел. Тракторы в твоей бригаде новые.
– Анастас Павлович!..
– Да уж ладно, знаю. Поедешь домой, только не на отдых. Ты знаком с сухоблиновским председателем?
– С теткой Варварой? Слышал много раз про нее, но но встречался пока.
– Человек честный, но старого колхозного уклада. Ты думаешь, старое только то, что до коллективизации было? То уж быльем поросло. Есть колхозный старый уклад. Председатель, что без машин, без тракторов жизни себе не представляет, тот – нового уклада. А кто на своих лошадок больше надеется, нам кланяться не любит, натуроплаты больше сатаны боится: мы, мол, сами как-нибудь, – это, помни, корешок со старым запахом. Он еще живет где-то около тридцатых годов, когда в колхозах не густо машин было. Тетка Варвара из таких. Залежи навоза у нее, а норовит вывезти на лошадях. Поедешь к ней, вывезешь навоз… Но покуда свой ремонт не кончишь, не отпущу! Уж серчай не серчай, я, брат, тоже человек с характером.
Все спали в общежитии. За столом лишь сидел и ужинал Чижов, макал крутым яйцом в соль на бумажке.
Федор выложил привезенную женой снедь: ватрушки, пряженики в масле, пироги с яйцами.
– Кипяток-то остыл? – спросил он.
– Остыл.
– Плохо… А ты, друг, можешь к моим харчам пристроиться, лично я не возражаю. Может, только тебя от моих пирогов стошнит, тогда уж, конечно, поостерегись.
– Да нет, спасибо.
– Брось-ко дуться-то. Пробуй, пробуй, не заставляй кланяться. Где ж так долго загулял? Чижов покраснел.
– Да в кино ходил, на «Подвиг разведчика».
– Один?
– Да н-нет… с ребятами…
Федор не стал его расспрашивать. А ходил тот в кино с секретаршей Машенькой, и та целый вечер толковала ему – какой нехороший его бригадир Федор Соловейков.
В этот вечер спать Федор с Чижовым устроились рядом.
6
Вместе с тестем они попарились в бане, после чего хлебнули бражки. Сейчас Федор лежит на кровати и читает.
Свежее белье обнимает остывшее тело. Едва-едва слышно шипит фитиль у изголовья. Наволочка на мягкой подушке холодит шею. Она настолько чиста, что кажется, даже попахивает снежком. Хорошо дома!
Федор читает, а сам, настороженно отвернув от подушки ухо, прислушивается – не стукнет ли дверь, не пойдет ли Стеша: «Ну-ка вставай, поужинаем. Ишь прилип, не оторвешь…» Она вроде недовольна, голос ее чуточку ворчлив… А как же без этого – жена! Нет, не слышно, не идет. Он снова принимается за книгу.
Когда Федора спрашивали: «Что больше любишь читать?» – он отвечал: «Толстого Льва, Чехова…» Или завернет «Гюстава Флобера» – вот, мол, с каким знакомы, хвати-ко нас голыми руками! Но кривил душой, больше любил читать Жюля Верна или Дюма.
Шипит фитиль лампы. Под стекло подплывают акулы, заглядывают внутрь лодки, медузы качаются в зеленоватой воде… Стеша сейчас на кухне, войдет – только что от печи, все лицо в румянце, если прижаться – кожа горячая… Что-то долго она там?
Хорошо дома! Хорошо даже то, что приходится уезжать, жить в МТС, ночевать на нарах… Каждый день здесь – мягкие подушки, скатерки, теплая постель – пригляделось бы все, скучновато бы показалось, поди б, и жена не радовала. А как побегаешь по мастерским, с недельку поворочаешься на эмтээсовском тюфяке, повспоминаешь Стешу с румянцем после печного жара… тут уж простая наволочка на подушке, и от той счастливый озноб по всему телу, все радует, в каждой складочке половика твое счастье проглядывает. Хорошо дома!
Федор уронил на грудь книгу, улыбнулся в потолок…
Мягко ступая чесаночками, вошла Стеша.
– Ну-ка вставай, поужинаем…
Федор не ответил. Жестковатые кудри упали на лоб, на обмякшем лице задержалась легкая, неясная улыбка. Он спал.
7
Дорожка от калитки к крыльцу расчищена от снега, у колодца срублен лед. Тесть, Силантий Петрович, с топором в руках стоит посреди двора и внимательно из-под лохматой шапки разглядывает поперечину над воротами. У ног его лежит сосновое бревнышко.
Утро только началось, а уж он разбросал снег, подчистил у колодца, сейчас целится поставить вместо осевшей новую поперечину на ворота. Федору немного совестно – он-то спал, а старик работал – неуемная душа, хозяин.
Приходилось уже замечать: идет тесть от соседей, несет спрятанную в рукав стертую подкову. Он ее нашел на дороге и не оставил, поднял, принес домой. В сенцах, в углу, стоит длинный, как ларь, дощатый ящик. Весь он разгорожен внутри перегородками на отделения – одни широкие, вместительные, другие узкие, глубокие, рукавицей можно заткнуть. В одно из этих отделений и попадет старая подкова. Она, может, и не пригодится при жизни старика, а может, кто знает, и в ней случится нужда. Пусть лежит, моста не пролежит. Федор знал – стоит только попросить: «Отец, свинья переборку раскачала, скобу надо вбить…» или: «Гвоздочек бы, Стеша под зеркало карточки прибить хочет…» – и тяжелая скоба, и крохотные, еле пальцами удержишь, гвоздики сразу же появятся из ящика Силантия Петровича.
Старик легко поднял за один конец бревнышко и скупыми, расчетливыми ударами начал отесывать его топором. Федор задержался на крыльце, невольно залюбовался: «На весу ведь. У меня силенки побольше, а не сумею…» С мягким, вкусным стуком врезался топор в дерево, за ним слышался легкий треск, и на белый снег падали желтые, как масло, щепки.
– Может, помочь, отец? – спросил Федор. Силантий Петрович отбросил кряж, сдвинул с потного лба шапку.
– Нет, парень, справлюсь. На полчасика и работы-то. Иди по своим делам.
Высокий, плечистый, стать как у молодого, движения сдержанны и скупы. «Трудовой мужик, – уходя, думал про него Федор, – да и вся-то у них семья работящая. Смотри, Федор, не покажись среди них увальнем».
В конторе правления председателя не оказалось, Федор пошел искать по колхозу.
«Незавидно живут, далеко им до хромцовских». Около скотного, в каких-нибудь шагах двадцати от дверей, лежит, прикрытая снегом, гора навозу. «Неужели и летом сюда навоз скидывают? Смрад, вонючие лужи, тучи мух… Хозяева!»
Тут же рядом с навозным бунтом разгружали воз сена. Работали женщины. Одна, невысокая, без рукавиц, с красными на морозе руками, стояла на возу, деревянными вилами охапку за охапкой пропихивала сено в чердачное окно.
– Вот так! Вот так-то, без ленцы! – покрикивала она, а две другие топтались около воза.
– Труд на пользу! – весело поздоровался Федор. – Не видали Варвару Степановну?
Подавальщица на возу остановилась.
– А тебе на что ее? – сипловатым голосом спросила она.
– Дело есть.
– Ну-ка, Прасковья, возьми вилы.
Придерживая подол, она неуклюже сползла с воза. Стряхнула с плеч сенную труху, повернулась к Федору, с валенок до шапки оглядела его. При взгляде на нее вблизи против воли готово было сорваться одно слово: «Крупна!» Роста маленького, чуть ли не по плечо Федору, а лицо широкое, грубое, мужичье. Тяжеловатость и крупноту черт еще более выделяли мелкие серые глазки. Взгляд их тверд и насторожен. Крупны у нее и руки, размашиста и в плечах: из тех – неладно скроена, да крепко сшита.
– Я – Варвара Степановна. Выкладывай дело. – И усмехнулась, заметив заминку Федора. – Аль не похожа?
В Хромцове председатель Пал Поликарпыч был седенький, щуплый и очень вежливый. Даже самая походочка у него вежливая – аккуратно, цапелькой выступает высокими сапожками, голос тихий, ко всем одинаковое обращение: «Дитя ты мое милое…» Но уж коль скажет, то это «дитя», какой-нибудь дремучий бородач, годами, случается, и старше Пал Поликарпыча, сразу краснеет или от радости за похвалу, или от стыда за упрек. Где уж там похожа – этот лесовик в юбке! Но Федора было не учить за словом в карман лазить.
– На себя-то, что ли? – ответил он. – Я не гордый и на слово поверю – похожа.
– Э-э, да ты веселый! Откуда такой молодец? Молодые-то парни нашего колхозу сторонятся.
– Бригадир тракторной бригады Федор Соловейков.
– Зять Силана Ряшкина, что ли?
– Он самый.
Еще раз пристальнее, как будто недружелюбно оглядела Варвара Степановна Федора.
– Ловкий они народ, сумели такого молодца залучить! Да и то: Стешка – девка видная, гладкая, на медовых пышках выкормленная. Чай, доволен женой-то?
– Да покуда нужды не имею на другую менять.
– Ну и добро. Выкладывай, что за дело.
– Навоз-то лежит, – кивнул Федор на навозную гору.
– Вывезем.
– Без нас! По договору-то мы вам обязаны сто тонн вывезти. Договор скромный, можем и перевыполнить.
– Ишь удалец! Нет, уж лучше не перевыполняйте. Сами как-нибудь. Вывезете кучку, а напишете воз. Кто будет навоз вывешивать да проверять! Потом за ваши тонна-километры расплачивайся из колхозного кармана.
– Варвара Степановна, есть председатели колхозов старого уклада, есть нового… – Федор отбросил шутливый тон, заговорил деловито, наставительно.
Председатель слушала его молча, глядела невесело в сторону.
– С вашей МТС постареешь. Ладно, действуйте… Но смотри у меня! За каждым возом сама буду доглядывать. Чтоб накладывали как следует.
– Вот это разговор! На какие поля возить, я уже знаю от участкового агронома. Мне б сейчас лошадку какую-нибудь, проехать, дороги обсмотреть.
– Иди к конюшне, скажи, что я Василька нарядить разрешила.
В сторожке у конюшни чадила потрескавшаяся печка. Какой-то ездовой и Силантий Петрович, оба разомлевшие в своих бараньих полушубках, добавляли к печному чаду махорочный дым. Пахло распаренной хвоей. Дома суровый, внушительный, Силантий Петрович здесь скромненько пристроился на краешке скамейки, лицо скучноватое, неприметное.
– Как бы Василька получить? Варвара разрешила, – спросил Федор.
– Пойди да возьми. Седло-то, должно быть, здесь, под лавкой. Тут вся справа, – ответил тесть.
Федор нагнулся: оброти, чересседельники, веревочные вожжи – все, перепутанное, цепляющееся одно за другое, потянулось из-под лавки.
– Ну и базар! У нас в селе дед Гордей разным ржавым хламом торгует, у него и то порядка больше. Перекинули бы здесь вдоль стены жердь и развесили.
– Не наказано нам, – спокойно произнес Силантий Петрович.
– Уж так и не наказано… А чего наказов ждать! Жерди на дворе лежат. Стрижена девка косы заплести не успеет. Я вроде посторонний, да и то мигом сколочу.
– Ну, ну, засовестил! Выискался начальник. Ездовой, с любопытством приглядывавшийся к Федору, поднялся.
– Верно, пока не ткнут да не поклонятся, зад не оторвем… Дай-ко, Силан, твой топор, пойду приспособлю, что ли…
– У меня свои руки есть. Без тебя обойдется.
Силантий Петрович сердито встал, а через минуту, впустив в раскрытую дверь морозный пар, внес холодную, скользкую от тонкого слоя льда жердь.
– Ты, Федька, не учи меня – молод! Ишь распорядитель какой! – говорил он, в сердцах остукивая пристывший к жерди снег.
Выезжая за село на низкорослом, лохматом, как осенний медвежонок, Васильке, Федор недоумевал про себя: «Ведь он куда как ретив на хозяйство, дома-то ни минуты не посидит… А тут раскуривает, спокойнешенек…»
Вернулся с полей затемно. Поставил лошадь, соломенным жгутом обтер спину и пахи, с пахнущим конским потом седлом на плече двинулся к выходу.
Голос тестя, доносившийся с воли через приоткрытые двери, заставил остановиться Федора:
– Нет, ты уж хоть десяток соток, да запиши. Что я, задарма вам старался? Бог знает что творилось в сторожке – вся снасть под ногами путалась. Теперь – как в магазине: приходи – выбирай.
Невеселый басовитый голос совестил Силантия Петровича:
– На два гвоздя жердь прибил и выпрашиваешь…
– Не выпрашиваю, ты мне отметь мою работу, положено! Никто рук не приложил, а тут вместо благодарности оговаривают.
– Уж лучше бы не делал.
Федору стало неловко: а вдруг тесть заметит, что он тут стоит, подслушивает. Осторожно вышел в другие двери, обогнул разговаривавших.
Но Силантий Петрович и не собирался скрывать свой разговор. Дома, вечером, сердито расстегивая крючки полушубка, он заговорил:
– Вот, Федька, больно старателен-то, не жди, премию не выпишут. Они глядят, чтоб на дармовинку кто сделал.
Алевтина Ивановна, выносившая пойло корове, задержалась посреди избы с ведром.
– Чтой опять стряслось? – спросила она.
– Да ничего. Старая песня. Снова охулки вместо благодарности. Руки приложил, а записать на трудодень отказались.
– И не прикладывал бы.
– Все помочь хочется, совесть не терпит.
– Не терпит… Совестлив больно. Варвара небось с совестью-то не считается. Как она тебя поносила, вспомни-ка, когда ты сани с подсанниками делать отказался?
– Всегда в нашем колхозе так: сделай – себя обворуешь, не сделай – нехорош.
– Уж вестимо.
По угрюмому лицу тестя Федор чувствовал, что тот недоволен им. Было стыдно за этого серьезного, рассудительного человека: «Из-за грошового дела в обиду лезет!» Федор тайком посматривал на Стешу: должно, и ей стыдно за отца? Но та, словно и не слышала этого разговора, как ни в чем не бывало застилала рыжей скатеркой стол, собирала ужинать. Она, уже заметил Федор, никогда не спорила с родителями – послушная дочь.
Он ушел на свою половину и до позднего вечера сидел у приемника, слушал передачу из московского театра. Мягкая поступь Стеши за его спиной успокаивала: «С нею жить… Пусть себе ворчат – старики, что и спрашивать…»
8
Все пригляделось, все стало привычным.
Своими стали тесные, неуютные мастерские Кайгородищенской МТС. Своим – другом и приятелем – стал Чижов.
Привык и к сухоблиновскому председателю, тетке Варваре. Сперва удивлялся: строга, народ ее уважает и побаивается, а в колхозе на каждом шагу непорядок. Если бы не он, Федор, с его тракторами – лежать бы навозу кучами около скотного и до сих пор. Сперва удивлялся, потом понял: Степановна строга, ее побаиваются, а бригадиров не слушают, нету у председателя хороших помощников, всюду сама старается поспеть, своим глазом доглядеть, все своими руками готова сделать, да глаз всего пара и рук не тысяча.
Привык Федор даже к тому, что дома постоянно приходилось слышать обиды: «Охулки вечные… С нашей-то совестливостью…» Привык, старался не обращать внимания: «Старики, что с них спрашивать…» Силантия Петровича в деревне недолюбливали, звали за глаза Бородавкой.
Все пригляделось, ко всему привык и только к одному не мог привыкнуть.
Как в первые дни, так и теперь, возвращаясь из МТС домой, он по-прежнему радовался покойной тишине, чистым наволочкам после бани, румяным щекам оторвавшейся от печки Стеши.
А Стеша что ни день, то красивее – какое-то завидное дородство появилось в ее фигуре, в ее движениях (сразу видно: не девка – жена). Повернет Стеша голову, на крепкой шее вьются темные кудряшки, через высокую грудь спадает коса. «Федя, дров принеси…» – «Ах ты лебедушка!» – даже не сразу сорвется Федор с места.
Разве можно привыкнуть к этому? Счастье не надоедает, к нему не привыкнешь. Потому-то, может, и прощал Федор старикам их воркотню. Со Стешей жить, не со стариками.
Сама Стеша никогда не ворчала, да и ворчать ей было не о чем. Как бы там ни было, а старики все ж работали в колхозе. Стеше же он – сторона. За селом стоит старый дом с навесом и коновязью перед окнами. Это маслобойка; за неимением других на селе предприятий, ее зовут громко – маслозавод. Каждое утро позднее Федора Стеша уходила туда, не по разу на день забегала домой, а вечером уже она встречала Федора заботливыми хлопотами по хозяйству – бегала из погребца в сенцы, замешивала пойло корове. Тихая работа у Стеши, и говорить о ней она не любила, редко когда перед сном, позевывая, вспоминала: «Сегодня из Лубков с молоком приезжали, воротить пришлось… Холода-то какие, а проквасили, летом-то что будет?» Федор временами забывал, что она работает.
Так дожили до полной весны.
Серьезный, не падкий до шуток и пустяковых дел, Силантий Петрович в один солнечный день подставил к старой березе лестницу, кряхтя, взобрался по ней и снял скворечник; сосредоточенно покусывая кончик усов, по-хозяйски оглядел его. Скворечник – не детская забава, частица хозяйства. Двор без скворечника – все одно что колхозная контора без вывески: знать, некрасно живут, коль вывеску огоревать не могут. Ежeли и скворечник исправен – считай, все, до последнего гвоздя, исправно в хозяйстве. Силантий Петрович с самым серьезным видом стал ремонтировать покоробившийся от непогоды птичий домик.
А у колхоза с весной новая беда.
Тетка Варвара зазвала в контору Федора, села напротив, подперев щеку тяжелым кулаком, пригорюнилась по-бабьи.
– Выручил ты нас, Феденька, однова, свозил навоз, честно работал, не придерешься, выручи и в другой раз. Прошлый-то год, сам знаешь, какова осень была, не за тридевять земель жил… При дожде убирались. Зерно сушили – вода ручьями текла. Такое и на семена засыпали.
Всю-то зимушку нас этот госсорт, чтоб им лихо было, за нос водил, всю зимушку гадали над нашим зерном бумажные душонки – то ли можно сеять, то ли нет… Сказали б загодя – нет, а то теперь выезжать пора, а они – всхожесть низка, не разрешаем! Да провалиться им!.. Семена-то есть, выделил нам райисполком, хорошие семена, так их достать надобно со станции. Выручи, Феденька, оговори у начальства разрешение один трактор послать на станцию. Два выезда сделаете и спасете колхоз.
Федор слушал и прикидывал про себя: до станции более сорока километров, дороги размыло, с порожними, из цельных бревен вырубленными санями и то трудно пробираться трактору, а тут с грузом… Да и горючего уйдет уйма.
– Нет, Степановна, не помогу, – сказал он. – Да ты подумай – сама не согласишься. На такие дороги малосильную «кадушечку» не пошлешь, не вытянет воз «кадушка» по таким дорогам.
– Ну, а этого, большого?.. Пятьдесят же сил в нем, звере, черта своротит.
– Дизелем рисковать не буду. Ни ты, ни я не поручимся, что в такое непроезжее время он где-нибудь посередь дороги не сломается. Он у нас один, ему не сегодня-завтра на клеверища выходить. И семена будут, а все одно сорвем сев. Ненадежный выход, Степановна.
– Как же быть, ума не приложу?
– Всех лошадей бросай на вывозку! Всех до единой! Тетка Варвара и с надеждой, и с недоверием долго разглядывала Федора.
– Всех лошадей… Выход-то немудреный. Я и сама о нем думала. Всех?.. То-то и оно, побаиваюсь всех-то… Замучаем их, а – по прошлому году сужу – на ваше тракторное племя с головой положиться нельзя. Не тебе в обиду будь сказано… День работали, два дня в борозде стояли трактора-то. Трактористы от села к эмтээс мыкались, запасные части искали. Лошадки-то меня всегда выручали. С открытым сердцем тебе говорю, Федор, – боязнь берет без лошадей в сев остаться.
– Тетка Варвара, плохо ты знаешь бригадира Соловейкова! Иль, может, клятву особую тебе дать? Будут работать тракторы, ручаюсь! Бросай лошадей на семена! Управимся без них на полях! Десять лет я при тракторах, без малого полжизни! Мне слово тракториста дорого.
– Ой ли?..
Но по тому, как это «ой ли» было сказано, Федор понял: согласилась Степановна, не то чтоб совсем поверила, – согласилась, другого не придумаешь.








