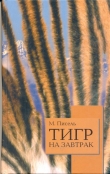Текст книги "Два рассказа бывшего курсанта"
Автор книги: Владимир Дроздов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Дроздов Владимир
Два рассказа бывшего курсанта
Владимир Дроздов
ДВА РАССКАЗА БЫВШЕГО КУРСАНТА
авт.сб. "Над Миусом"
1. ПУСТЬ МЕДВЕДИ ЛЕТАЮТ
Конечно, теперь чуть ли не все летчики имеют высшее образование-диплом инженера. А в тридцатых годах кое у кого за душой даже школы-семилетки не было.
Однако и тогда уже становилось ясно: одного могучего здоровья пилоту мало. И вот среди студентов-комсомольцев провели набор в летчики. Я попал в школу пилотов имени Пролетариата Донбасса с первого курса университета. Но кое-кто из моих будущих однокашников-со второго или третьего. А Чернов – в свои двадцать шесть лет-даже с четвертого курса института.
Перед началом Занятий нам объяснили, что мы являемся для авиации очень ценными кадрами (это слово было тогда в большом ходу). Поэтому нас будут терпеливо и внимательно учить летать. Никого не станут отчислять по неуспеваемости.
Тут начальник школы улыбнулся и спросил:
– Знаете старую пословицу: если зайца долго бить, он спички зажигать научится?
Мы засмеялись, закричали:
– Знаем,знаем!
И он продолжал все так же весело:
– Ну, вас, конечно, никто бить не собирается, здесь своя поговорка: и медведи летают! Это значит, что те, кто получше окончит школу, попадут в истребительную авиацию, а кто похуже – ну, медведи – вторыми пилотами на тяжелые бомбардировщики.
Мы переглянулись. Уже знали: вторым пилотам разрешается держаться за штурвал только в воздухе, посадку им не доверяют. Нет, ни мне, ни моим друзьям не хотелось прослыть медведями. И действительно, первую учебную машину, знаменитого "кукурузника", наш выпуск освоил без потерь. Кое-кому из нас за отличные успехи даже повесили на рукав гимнастерки птицу-такую в то время носили настоящие летчики боевых частей.
Теперь-то всем ясно: "кукурузник" – простая в управлении машина. На нем, наверно, и впрямь можно научить летать филатовских медведей. Ездят же они на мотоциклах. Но это теперь. А тогда я ужасно гордился птицей всерьез ощущал себя настоящим летчиком.
И вот впервые сел в кабину "эр-первого", боевого самолета, совсем недавно снятого с вооружения. Инструктор сказал:
– Ну что тебе объяснять, сам все знаешь-ты же летчик. Взлетай, только построже ногами держи.
И я взлетел. Набрал нужную высоту для первого разворота. И разворот сделал нормально. Конечно, радовался – все так хорошо получилось...
Но вдруг на самой простейшей прямой между разворотами "эр-первый" принялся рыскать носом из стороны в сторону. Я усердно боролся с этим виляньем самолета, нажимая на ножные педали. Увы, ничего не выходило.
Казалось, машина внезапно взбесилась, вышла из подчинения. И тут я услышал в наушниках тихий смех.
И понял: инструктор помогал мне при взлете, а теперь, на менее ответственном участке полета, бросил управление.
Конечно, с меня соскочило все мое школярское зазнайство. И мне понадобилось еще шестьдесят провозных полетов с инструктором, прежде чем я смог вылететь самостоятельно. Но у Леши Семенова вылет состоялся всего лишь после сорока семи полетов с инструктором.
И Коле Тарасову потребовалось только пятьдесят четыре. .. А вот Чернову дали двести шестьдесят семь, однако выпустить его одного так и не решились.
Опять же поначалу мы только хохотали. Очень уж уморительно залезал Чернов в кабину: неловко оскользаясь на плоскости, умудряясь застревать носком сапога между расчалками... А когда наконец оказывался на сиденье, лицо его как-то странно менялось. Может быть, он боялся? Все знали, что, в отличие от учебной машины, "эр-первый" не прощает летчику ни малейшей ошибки.
Целиком деревянный (даже стойки и ось шасси, даже сами колеса), он был хрупок. На посадку следовало заходить строго в плоскости ветра. Садиться хотя бы при крохотном боковом дуновении было равносильно самоубийству "эр-первый" не выносил сноса. Шасси немедленно складывалось под фюзеляж, и машина принималась кувыркаться через голову, на глазах разламываясь в щепки. И при разбеге на взлете вплоть до отрыва от земли надо было во что бы то ни стало удерживать самолет на идеальной прямой. Даже небольшой отворот в сторону грозил катастрофой. А все-таки никого из курсантов не отчисляли – возили, что называется, до победы.
Инструктор еще только подавал Чернову команду:
"Выруливай!" – как уж нелепо перекашивался, уходил на сторону рот Чернова, закатывались, даже полузакрывались его глаза, нос и подбородок задирались кверху.
Чернов переставал видеть и слышать – впадал в какой-то транс. Правда, при этом он не забывал брать ручку управления и прямо-таки бульдожьей хваткой вцеплялся в сектор газа. Рывком Чернов толкал его вперед. Конечно, мотор не выдерживал грубости – захлебывался, глох.
Инструктор изощрялся в весьма нелестных выражениях.
Л нам, сопровождающим у крыла, приходилось снова и снова дергать за винт – в десятый, в двадцатый раз заводить мотор.
И вскоре спектакль надоел всем. Мы уже не смеялись-кляли Чернова, старались под любым предлогом увильнуть от сопровождения его самолета. Потом попробовали бросать жребий, наконец установили строгую очередность... Нет, этот медведь явно не собирался вылетать самостоятельно.
Чтобы окончательно убедиться в полной неспособности Чернова к летному делу, с ним полетел командир отряда Брок. Мне нравился Брок, я подозревал в нем романтическую натуру. Высокий, худой, подтянутый и немногословный, он казался похожим на одного из моих любимейших героев-на лейтенанта Шмидта. Во всяком случае, Брок был великолепным летчиком.
И вот Чернов и Брок ушли в далекую зону – над лесничеством. С аэродрома мы видели, как они набрали две тысячи метров, как начали делать мертвую петлю... Однако не кончили-в верхней точке свалились на крыло.
Ну да чего хорошего можно было ждать от Чернова!
Кое-как он все же вывел самолет, снова вроде пошел на петлю, неэнергично, вяло. С земли нам даже показалось-без мотора, вовсе неграмотно. Конечно, самолет не дотянул до верхней точки, завис, покачался беспомощно с крыла на крыло и вдруг свалился в штопор. Мы насторожились. Последовательность выполнения фигур пилотажа не совпадала с полученным на земле заданием.
Да и штопор тогда внушал особое почтение. И мы не понимали: почему Брок позволяет Чернову ломать порядок задания? Но радиостанции на самолетах еще не былона аэродроме не услышишь, о чем говорят в воздухе Брок с Черновым. Зато мы все видели. И вскоре догадались:
случилась беда. С удивительным однообразием повторялось одно и то же: едва выйдя из штопора, самолет снова шел на петлю, вяло, нерешительно. Да к тому же еще и без мотора! И всякий раз, не дойдя до верхней точки петли, зависал, пошатываясь словно пьяный, пока не сваливался в новый штопор. Создавалось впечатление: им никто не управляет! Однако машина с каждым витком штопора теряла высоту, приближалась к земле...
Сначала кто-то из курсантов еще считал витки: десять, двенадцать... На него шикнули, он притих. На наших глазах стремительно и неотвратимо приближалась трагическая развязка. Нам оставалось только гадать: заклинило управление, оборвались тросы? Мы ясно ощущали свое бессилие и молчали.
Продолжая снижаться, самолет скрылся за вершинами леса. Руководитель полетов подал санитарной машине знак следовать к месту катастрофы. И без команды, само собой прервалось движение на старте. Я горестно переживал эту огромную несправедливость: из-за Чернова погиб Брок!
И вдруг мы увидели на фоне леса самолет! Он шел почти над самой землей – бреющим, быстро приближался. И не взмыл, чтобы совершить круг перед посадкой, – сел с ходу и мастерски. Вот покатился по посадочной полосе, вырулил на нейтральную. Мы все сгрудились, завороженные, и по-прежнему молчали. Я готов был принять этот "эр-первый" за какого-то воздушного "Летучего голландца"... Но из задней кабины легко и ловко выпрыгнула стройная фигура в черном кожаном реглане.
И я вздохнул с облегчением: Брок! Живой!
А командир отряда уже не спеша снимал очки, шлем, перчатки... Но вдруг словно что-то взорвалось в нем – он сложил все эти вещи вместе, швырнул их на выжженную траву летного поля и почти крикнул:
– Ну, пусть медведи летают!
Твердым шагом, высокий и прямой, Брок шел от нас в раздевалку. Мы смотрели вслед, однако к его очкам, шлему и перчаткам еще долго никто не притрагивался...
Мы ждали, что Чернов тоже вылезет из самолета, расскажет, как же это было. А он даже не шевелился. Лежал, привалившись к борту кабины головой. Его вытащили, привели в чувство. Он бессмысленно озирался, мычал что-то невнятное...
Позже выяснилось: из-за слишком большой слабины привязных ремней Чернов на первом же зависании вверх колесами оторвался от сиденья и повис в воздухе. А когда самолет вышел из петли, этот горе-летчик, вместо того чтобы опуститься на свое сиденье, попал между приборной доской и ручкой управления! Его весьма грузное тело (поесть Чернов любил) мешало Броку отдать полностью от себя ручку управления (только так можно было вывести "эр-первый" из штопора, в который самолет непроизвольно свалился). К тому же Чернов перепугался до полной потери соображения – впал в свой дурацкий транс. Он не слушал ни советов, ни команд Брока, молча жал всей тяжестью тела на ручку – в обратную необходимой для вывода из штопора сторону. И тогда Брок решился на крайнее средство. Вытащил из гнезда свою ручку (благо управление двойное), встал в задней кабине на сиденье и, перегнувшись через козырек, трахнул Чернова ручкой по башке. Потом приподнял бесчувственное тело под мышки, водрузил его на сиденье передней кабины, подтянул слабину ремня – и все-таки успел вернуться к себе в заднюю кабину, вставить ручку в гнездо и вывести "эр-первый" из штопора у самой земли.
С неделю Брок не приходил на аэродром.
Потом все же пришел. Молча сел в свою машину, один улетел в ту самую зону – над лесничеством.
Целый час он рисовал в небе узоры наиболее сложных фигур высшего пилотажа – отводил душу? И несколько раз, словно бы невзначай, сваливался после выхода из мертвой петли в штопор. И удивительно изящно выводил из него "эр-первый" в горизонтальный полет.
Припоминал, как все это было? Или что-то преодолевал в себе?
Наверно, тогда, глядя на его каскады, многие из нас давали обещание: научиться пилотировать не хуже нашего командира отряда.
А с Черновым, нашим первым медведем, мне все же случилось поговорить до отчисления его из школы.
В тот день я был настроен лирически. Только что прочел книжку о жизни Миклухо-Маклая на Новой Гвинее.
До школы пилотов я учился на географическом факультете Московского университета, мечтал о путешествиях, открытиях, не думал, что придется стать летчиком. Но вот начал летать – и приохотился к своей новой профессии. Как говорится, если не удалось делать то, что любишь, люби то, что делаешь. А все-таки книга о МиклухоМаклае вызвала приступ тоски. Хотя странно вообще-то было бы накануне окончания летной школы сожалеть о неосуществившемся. Тем более что наш мир в то время уже представлялся мне полностью открытым, и новым Ливингстонам, Миклухо-Маклаям или Пржевальским, казалось, больше нечего было в нем делать.
Слоняясь по зданию школы, я, несколько размагниченный, забрел в Красный уголок. Там сидел Чернов – читал какой-то учебник. Заметив меня, он весело сообщил, что надеется скоро вернуться если не на четвертый, то хоть на третий курс своего института.
– От силы год потеряю, – добавил он торжествующим тоном.
Я страшно возмутился. Значит, Чернов не просто бесталанный медведь, а хитрый обманщик, который притворялся, чтобы добиться отчисления?! И при этом чуть не погубил такого великолепного мастера, как Брок!
Я уже готов был взорваться, еще немного, и Чернов схлопотал бы у меня по заслугам. К счастью, я вовремя засомневался. Ведь полет Чернова с Броком только случайно, из-за большой слабины ремней, получился столь драматичным. И Чернов самого себя едва не угробил.
А хитрецы никогда своей шкурой рисковать не станут.
Ну, и сейчас Чернов, скорее всего, пытается бравадой спастись от всеобщего презрения... Его дело, но не мне облегчать ему задачу. Я сказал с оттенком брезгливого сожаления:
– Видно, мало еще тебе досталось– ничего ты так и не понял.
2. ПРАВО НА ПАССАЖИРА
По правде говоря, нашим инструкторам и командирам все-таки редко приходилось проявлять героизм. Ведь не медведей же в самом-то деле обучали они умению летать. И большинство наших курсантов вылетали самостоятельно, получив гораздо меньше провозных, чем нам полагалось по норме. К числу таких, как у нас потом шутили, "выдающих" принадлежал и курсант Пасынков.
Я обратил на него внимание еще в самом начале учебы. Надо сказать, что старшинами курса, отряда и звена к нам были присланы уже послужившие в армии, но не очень-то грамотные ребята. Им трудно давались теоретические дисциплины. Пасынков кое-кому помогал.
На первом построении мы довольно долго препирались: устанавливали, кто выше, а кто ниже ростом. Наконец разобрались по ранжиру. И я изумился: на правый фланг старшина поставил в качестве самого высокого. .. Пасынкова. Я-то думал, что Мелихов выше. Но широкий и плотный всегда кажется ниже худого и тонкого.
И вот старшина Ефименко скомандовал:
– Равняйсь!
Для ясности он добавил:
– Грудь вперед, живот убрать!
А немного подумав, уточнил:
– Стоять так, шоб видеть грудь четвертого человека!
Строй пришел в движение. Мы равнялись как умели – не очень-то хорошо. Стараясь поправиться, делали полшага вперед и тут же отступали на те же самые полшага. В результате наш строй напоминал синусоиду или плывущего по воде ужа. Старшина Ефименко кричал:
– Шо у вас за танцы в строю! Равняться не можете!
Его, конечно, удивляла наша бестолковость.
Ефименко забежал сбоку, стараясь увидеть грудь четвертого человека. Увы, тщетно – за слишком высокой, слишком выпуклой грудной клеткой Пасынкова не просматривался не только плоскогрудый Мелихов, стоявший четвертым, но и вообще никого не было видно. Даже Парневского, уже прозванного благодаря своим ста двадцати килограммам – Дядя Пуд.
Странное нарушение привычной формулы ("грудь четвертого"), видимо, поразило старшину еще больше, чем наша неловкость. Не сразу сообразив, как исправить непорядок, Ефименко сначала заставлял курсантов одного за другим чуть-чуть выступать вперед. Вместо синусоиды получилась дуга. Да иначе выйти и не могло – чтобы углядеть кого-нибудь из-за Пасынкова, надо было обладать рентгеновидением.
Наконец Ефименко это понял. Подошел к правофланговому, спросил тихо:
– Та шо вы так выпялились, як на параде?
– Вы же сами приказали: грудь вперед, живот убрать.
Минуту или две Ефименко постоял около Пасынкова молча. Мы незаметно переглядывались. Вдруг старшина ожил и скомандовал:
– Курсанту Пасынкову – вольно! Остальным – равняйсь!
С тех пор Пасынков неоднократно привлекал всеобщее внимание. И не то чтобы он к этому специально стремился – само собой получалось.
В первую осень и зиму мы не летали-проходили теоретический курс. И Пасынков по всем предметам неизменно получал пятерки. Конечно, соображал он неплохо. Однако обладал еще и обаянием – нравился преподавателям. Фамилия "Пасынков" закрасовалась на доске Почета. Затем и школьная многотиражка стала печатать его портреты и призывать курсантов "учиться, как Пасынков!". Вначале вся эта шумиха меня коробила – казалось, что Пасынков просто очень честолюбив.
Но постепенно мое отношение к нему стало меняться.
Еще ранней осенью начались у нас всевозможные соревнования, главным образом по легкой атлетике. Помню, Пасынков занял первое место на стометровке. Его поздравляли, так как в оставшихся забегах должны были состязаться какие-то совсем невзрачные ребята. И вдруг один из них показал лучшее, чем у Пасынкова, время!
Мы даже не хотели верить судьям. Но Пасынков первый подошел к победителю со своей обаятельной улыбкой, поздравил его. Правда, в беге на дальние дистанции уже никто не мог сравниться с Пасынковым. Разве что братья Знаменские. А он скромничал:
– Это не сам я бегу-мои легкие меня несут.
И выпячивал свою удивительную грудную клетку.
– Тебе, может, и самолета не надо? Надуешься пошибче, так и полетишь? хихикали присяжные шутники.
Но Пасынков не боялся и над самим собой посмеяться-весело подхватывал:
– А что? Можно попробовать! Если еще куда-нибудь пропеллер вставить...
Все мы тогда очень любили бороться. И Пасынков не составлял исключения. Наверно, потому, что был силен и ловок. Строгим правилам мы не следовали, считали побежденным того, чьи лопатки касались пола, травы или снега. И хотя довольно быстро у нас установилась своя табель о рангах, все-таки попытки побежденных победить победителей не прекращались. Особенно донимали ребята Парцевского. Дядя Пуд не был обижен силой, но явно не блистал ловкостью. И часто более легкие, зато верткие, хваткие неплохие гимнасты Леша Семенов и Коля Тарасов забавлялись: подножкой или другим неожиданным приемом бросали Парцевского на пол в самый неподходящий момент, под всеобщий хохот. Ронять Парцевского-стало у них чем-то вроде любимой игры.
Дядя Пуд сделался нервен-то и дело озирался, опасаясь внезапного нападения из-за угла. И вообще... кому приятна роль футбольного мяча?
Но в игру неожиданно вмешался Пасынков. Как только Семенов или Тарасов начинали забавляться, он хватал одного из шутников в объятия, из которых ни тот ни другой при всей их ловкости вырваться не могли. И, ласково воркуя, успокаивая пленника разными нежными словами, относил во двор, на снег – поостудить пыл. Над остужаемыми смеялись – они оставили Парцевского в покое.
Перед Новым годом мы отправились в лыжный поход на двести километров. Почти все время лыжню прокладывал Пасынков. Добровольно взял на себя самую трудную работу. А погода выдалась вьюжная. Снегу намело много, да еще и неровно: то по насту легко скользишь.
То еле-еле через сугробы пробиваешься. Неоднократно несколько сильных ребят, хороших лыжников, предлагали Пасынкову смену. Он только улыбался, пожалуй смущенно:
– Ничего, я еще не устал.
Вроде бы извинялся? И как ни в чем не бывало шел дальше. Да знал ли он вообще, что такое усталость?
Однажды весь дневной переход тащил кроме своих еще винтовку и вещмешок Мелихова-тот с непривычки едва волок ноги. В другой раз Пасынков ненадолго оставил свое место прокладчика лыжни, чтобы устроить на сани Семенова-наш лучший гимнаст умудрился растянуть себе связки, а Пасынков заметил, что Лешка захромал.
Несмотря на то что шел впереди, он, как вожак собачьей упряжки, успевал следить за всеми и каждым в отдельности, а главное-вовремя помочь, если нужно. И когда но окончании лыжного похода наша школьная многотиражка назвала Пасынкова лучшим ударником, меня это уже не покоробило.
В ту первую нашу зиму Пасынков стал чемпионом летной школы по шахматам. Его не включили в число участников турнира – нас еще не знали. И мы лишь в качестве зрителей толпились в актовом зале. Но вот инструктор Рулев (он после четырех туров набрал наибольшее количество очков), красиво обыграв своего соперника, встал из-за стола под наши дружные аплодисменты. И победители щедры – предложил любительскую с кем-нибудь из новичков. Мы почти насильно вытолкнули Пасынкова. Случилось чудо – на двенадцатом ходу Рулев сдался. Конечно, потребовал реванша. И-проиграл вторую! Ее уже смотрел вместе со всеми начальник штаба школы-главный устроитель и один из участников турнира. Он спросил Пасынкова:
– Не отстанете в учебе, если включим в турнир?
– Постараюсь не отстать, товарищ комбриг.
Тут и мы бурно выразили свою поддержку, как бы
Поручились за нашего избранника. Казавшийся строгим, комбриг рассмеялся:
– Ну, прямо глас народа-глас божий! Давайте начнем с меня-я сегодня в турнире свободный.
Красивой жертвой ферзя Пасынков выиграл у начальника штаба. И вообще, не проиграл ни одной партии, не сделал ни одной ничьей. А ведь этак на голом честолюбии не выплывешь. Нет, просто во всем отчетливо ощущался огромный избыток жизненных сил, которыми этот человек был богато одарен. Они как бы сами естественно рвались из него, а он только искал (и с успехом находил) им все новое и новое применение.
Вот начал летать, и опять на него с первых же полетов посыпались пятерки. Оба инструктора-и учебного "кукурузника", и полубоевого "эр-первого" – нарадоваться не могли на своего курсанта. Пасынкову прочили блестящую карьеру по окончании школы. И как-то я спросил:
– А что ты сам думаешь по поводу этих предсказаний?
– Да как сказать... люди хотят добра... Только они, должно быть, до сих пор не заметили во мне большой недостаток. Тебе я могу его открыть похоже, ты и сам такой. С удовольствием и в полную силу тружусь лишь над тем, что нравится. Например, не люблю работу на матчасти-устранение неисправностей, профилактический ремонт... И хотя, конечно, делаю все, что положено, однако без души-отбываю номер. А в жизни (умом я это понимаю) нельзя заниматься только приятным. ..
– Во всяком случае, к этому надо стремиться! – перебил я Пасынкова.
Он только улыбнулся снисходительно:
– Какое же ты еще дитя!
Сильнее обидеть меня было невозможно-я надулся.
По молодости лет я не понимал, что человек, которому не чужды сомнения в собственных достоинствах, безусловно стоит большего, чем самоуверенный любых оттенков. Но вскоре один случай с Пасынковым навел меня на эту мысль.
У наших инструкторов существовало твердое убеждение: курсант вырабатывает собственный летный почерк между тридцатью и тридцатью пятью самостоятельными полетами на "эр-первом". В начале же он лишь рабски подражает – копирует почерк инструктора. И для того чтобы тот мог вовремя обнаружить проявление индивидуальности курсанта, мы должны были делать первые тридцать самостоятельных полетов в полном одиночестве.
А чтобы центровка самолета не нарушалась (инструктора нет – новый разнос грузов), во вторую кабину сажали "Иван Иваныча" – пятипудовый мешок с песком, крепко привязывая его к сиденью. И если на тридцатом полете курсант не "козлил", не ломал подкрыльных дужек, не подходил на посадку со сносом – вообще не откалывал никаких опасных номеров, то он приобретал "право на пассажира". Из задней кабины убирали "Иван Иваныча", и туда садился свободный курсант – чаще всего друг того, кто собирался лететь.
Однако в то утро Пасынкову предстоял всего лишь пятнадцатый самостоятельный полет с "Иван Иванычем". Но инструктор все отодвигал его очередь, выпускал в воздух других курсантов группы. Ветер заметно усиливался – возможно, инструктор хотел дать отлетаться тем, кто послабее? Пасынков беспокоился: вдруг из-за резкого усиления ветра полеты вообще закроют и ему так и не придется сегодня летать?
Лето, еще очень жаркое, уже шло на убыль-приближалась наша третья, и последняя, осень в летной школе. А в тех местах осень-время внезапных и резких смен погоды. Так что опасения Пасынкова не были беспочвенны. Однако и тактика инструктора казалась нам справедливой, даже давала право немного погордиться: в более сложной погодной обстановке последними инструктор выпустит тех, в ком больше уверен. Наконец, около десяти утра, подошла очередь Пасынкова. Я подумал: "Как ему было нелегко ждать почти шесть часов, а ведь сдерживался, не показывал виду..." Все мы уже летали самостоятельно, но еще с "Иван Иванычем", и, конечно, инструктор не преминул напомнить Пасынкову:
– Смотри, повнимательнее!
Да и я сам, стоя у крыла, готовясь сопровождать самолет на старт, слышал, как тревожно свистят на ветру расчалки "эр-первого", видел, как мечется, рвется с мачты над метеостанцией разбухшая от ветра полосатая "колбаса". Этот матерчатый усеченный конус, надетый на неравного диаметра обручи, предназначался для того, чтобы указывать направление и силу ветра. И флажки, обозначающие линию старта, неистово трепыхались вокруг своих древков. Казалось, их вот-вот вырвет из закаменевшего чернозема, понесет по аэродрому, словно перекати-поле поздней осенью.
Пасынков взлетел строго по прямой – отлично вел самолет. И после отрыва от земли дольше, чем обычно, выдерживал машину над самыми макушками трав-запасал скорость, перед тем как уйти в набор высоты, – так он подготовился к одолению сильного ветра. Однако успел набрать лишь около ста метров. Заметил только, что уже вышел за пределы летного поля, что летит над глубоким оврагом с крутыми склонами. И вдруг почему-то вспомнил: вчера вечером, гуляя по этой балке, встретил гадюку и засек ее прутиком тальника. Тотчас мелькнуло насмешливое: атавистическая ненависть обезьян к змеям!
И тут в лицо Пасынкову из левых патрубков мотора неожиданно полыхнуло пламя. Обычно еле видные, язычки огня неестественно удлинились, расширились и, словно флаги на ветру, заполоскались своими алыми полотнищами, охватили козырек, ворвались в кабину...
Немедленно в памяти всплыла строка наставления: выключить зажигание, закрыть бензокран и садиться прямо перед собой. Это нужно, чтобы при развороте не задеть крылом землю или не свалиться в штопор.
Пока все это вспыхивало в мозгу, левая рука сама выключала зажигание, перекрывала нижний бензокран.
Внезапно его озарило: под ним еще и овраг – добавка высоты больше трех размахов! А прямо крутой склон – не избежать лобового удара. И опять, пока мысли проносились в голове, руки и ноги продолжали действовать.
Да, надо было развернуться на сто восемьдесят градусов – назад, к аэродрому. И, конечно, делать разворот с небольшим подскальзыванием. Зато сразу пришло облегчение, пламя сползло с козырька, перестало рваться в кабину. Нет, оно не потухло. Просто его теперь относило в сторону, сдувало с мотора. Чтобы продлить это счастье, чтобы не слишком быстро терять высоту, Пасынков старался держать наивыгоднейший крен – сорок пять градусов – так было гораздо меньше риска задеть крылом за край оврага.
Должно быть, именно в эти мгновенья Пасынков заметил: отсоединилась или лопнула резиновая трубка, идущая вниз по стойке центроплана. Это из нее струя бензина хлещет на патрубки мотора. А только что закрытый им кран расположен куда ниже места разрыва!
Вот почему пожар не потух, хотя мотор встал после выключения зажигания. И ведь огонь может подобраться к баку... тогда-взрыв! Эх, будь высоты побольше! Пасынков сорвал бы пламя резким скольжением на правое крыло, остудил бы мотор встречным током воздуха.
Позже выяснилось: в резиновую трубку была вставлена стеклянная, чтобы лучше видеть, идет ли бензин в мотор из верхнего бака самотеком. Эта стеклянная трубка как раз и выскочила из резиновой во время взлета – от тряски.
Пасынков продолжал полого разворачиваться, а в голове уже рождался новый план – садиться на нейтральную полосу, между взлетной и посадочной. Там легче избежать столкновения с взлетающими или идущими на посадку самолетами. Лишь бы никто не рулил в эту минуту по нейтральной...
Однако руководитель полетов и финишер тоже не зевали: выложили крест запрет посадки всем садящимся. И, размахивая флажками, энергично расчищали нейтральную и посадочную. Конечно, и стартер запретил взлет экипажам, приготовившимся идти в воздух. Те же, что рулили, шарахались во все стороны, а идущие на посадку давали газ – уходили на второй круг... Пасынкову вся эта суматоха показалась даже смешной... Правда, лишь пока длился разворот.
Он понимал: пламя опять может перехлестнуть через козырек, ворваться в кабину, помешать при посадке, как только самолет выйдет на прямую. Однако оно явственно затухало. Струю бензина сдуло с выхлопных патрубков, и она ударилась о противоположную стойку, разлетелась брызгами. А теперь они гасли в воздухе, бензин больше не долетал до патрубков, не загорался вновь. И когда нос "эр-первого" наконец нацелился на нейтральную – пожар потух.
Брызги бензина еще били в козырек, мешали следить за быстрым приближением земли. Пасынков чуть-чуть высунулся из-за козырька, так, чтобы бензин все же не попадал на очки. И тут земля приковала все его внимание.
Ведь очень сильный попутный ветер требовал производить посадку обязательно на три точки. Он не простил бы даже самого небольшого недотягивания ручки на себя – мог перевернуть самолет в случае торможения о землю одними колесами. И Пасынков тянул ручку быстрее, чем обычно. И одновременно парировал крены – еще в зачатке. Да, это была одна из тех его посадок, которой он вправе был гордиться.
Только сразу после приземления возникли у Пасынкова новые заботы: при попутном-то ветре, да еще таком сильном, пробег неизбежно удлинится. А хватит ли аэродрома? И бензин продолжал хлестать из резиновой трубки лился вдоль стойки. Значит, достаточно случайно высечь искру во время пробега, и самолет вспыхнет, взорвется? Правда, Пасынков видел: впереди техники растаскивали все, что может ему помешать, – катись хоть до самых ангаров. Да и заискрить на цельнодеревянном "эр-первом" не так-то просто.
И все-таки, продолжая очень строго держать машину, не позволяя самолету сойти с прямой, Пасынков расстегнул привязные ремни – приготовился в крайнем случае выскочить на ходу. Но повезло: "эр-первый" остановился, не добежав до ангаров добрых ста метров. Техники тотчас бросились к нему на помощь, а Пасынков одним рывком выметнулся из кабины на плоскость и зажал проклятую резиновую трубку выше места разрыва – бензин перестал течь.
Конечно, курсант Пасынков заработал очередную благодарность командования школы и как бы сдал экзамен на собственный летный почерк: спокойствие, находчивость, умение не доверяться бездумно авторитетам, всякий раз трезво оценивая неповторимо-новую обстановку в воздухе. И заслужил "право на пассажира" всего лишь после пятнадцати самостоятельных полетов – в следующий раз уже пошел в зону не с "Иван Иванычем", а с Володькой Морозовым.
И вот, спустя несколько десятилетий, я вспоминаю наш разговор перед этим пожаром на взлете. Не знаю, кем стал Пасынков. Но мне кажется, он должен был добиться многого.
1973-1974