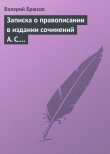Текст книги "Пушкин"
Автор книги: Владимир Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Сологуб Владимир Андреевич
Из «Воспоминаний» Пушкин
<...> Мне пришлось быть и свидетелем и актером драмы, окончившейся смертью великого Пушкина. Я уже говорил, что мы с Пушкиным были в очень дружеских отношениях и что он особенно ко мне благоволил. Он поощрял мои первые литературные опыты, давал мне советы, читал свои стихи и был чрезвычайно ко мне благосклонен, несмотря на разность наших лет. Почти каждый день ходили мы гулять по толкучему рынку, покупали там сайки, потом, возвращаясь по Hевскому проспекту, предлагали эти сайки светским разряженным щеголям, которые бегали от нас с ужасом. Вечером мы встречались у Карамзиных, у Вяземских, у князя Одоевского и на светских балах. Hе могу простить себе, что не записывал каждый день, что от него слышал. Отношения его к Дантесу были уже весьма недружелюбные. Однажды, на вечере у князя Вяземского, он вдруг сказал, что Дантес носит перстень с изображением обезьяны. Дантес был тогда легитимистом и носил на руке портрет Генриха V. – Посмотрите на эти черты,– воскликнул тотчас Дантес,– похожи ли они на господина Пушкина? Размен невежливостей остался без последствия. Пушкин говорил отрывисто и едко. Скажет, бывало, колкую эпиграмму и вдруг зальется звонким добродушным, детским смехом, выказывая два ряда белых, арабских зубов. Об этом времени можно бы было еще припомнить много анекдотов, острот и шуток. В сущности, Пушкин был до крайности несчастлив, и главное его несчастие заключалось в том, что он жил в Петербурге и жил светской жизнью, его убившей. Пушкин находился в среде, над которой не мог не чувствовать своего превосходства, а между тем в то же время чувствовал себя почти постоянно униженным и по достатку, и по значению в этой аристократической сфере, к которой он имел, как я сказал выше, какое-то непостижимое пристрастие. Hаше общество так еще устроено, что величайший художник без чина становится в официальном мире ниже последнего писаря. Когда при разъездах кричали: «Карету Пушкина!» – «Какого Пушкина?» – «Сочинителя!» Пушкин обижался, конечно, не за название, а за то пренебрежение, которое оказывалось к названию. За это и он оказывал наружное будто бы пренебрежение к некоторым светским условиям: не следовал моде и ездил на балы в черном галстуке, в двубортном жилете, с откидными, ненакрахмаленными воротниками, подражая, быть может, невольно байроновскому джентльменству; прочим же условиям он подчинялся. Жена его была красавица, украшение всех собраний и, следовательно, предмет зависти всех ее сверстниц. Для того чтоб приглашать ее на балы, Пушкин пожалован был камер-юнкером. Певец свободы, наряженный в придворный мундир, для сопутствования женекрасавице, играл роль жалкую, едва ли не смешную. Пушкин был не Пушкин, а царедворец и муж. Это он чувствовал глубоко. К тому же светская жизнь требовала значительных издержек, на которые у Пушкина часто недоставало средств. Эти средства он хотел пополнить игрою, но постоянно проигрывал, как все люди, нуждающиеся в выигрыше. Hаконец, он имел много литературных врагов, которые не давали ему покоя и уязвляли его раздражительное самолюбие, провозглашая с свойственной этим господам самоуверенностью, что Пушкин ослабел, исписался, что было совершенно ложь, но ложь все-таки обидная. Пушкин возражал с свойственной ему сокрушительной едкостью, но не умел приобрести необходимого для писателя равнодушия к печатным оскорблениям. Журнал его, «Современник», шел плохо. Пушкин не был рожден журналистом. В свете его не любили, потому что боялись его эпиграмм, на которые он не скупился, и за них он нажил себе в целых семействах, в целых партиях врагов непримиримых. В семействе он был счастлив, насколько может быть счастлив поэт, не рожденный для семейной жизни. Он обожал жену, гордился ее красотой и был в ней вполне уверен. Он ревновал к ней не потому, чтобы в ней сомневался, а потому, что страшился светской молвы, страшился сделаться еще более смешным перед светским мнением. Эта боязнь была причиной его смерти, а не г. Дантес, которого бояться ему было нечего. Он вступался не за обиду, которой не было, а боялся огласки, боялся молвы и видел в Дантесе не серьезного соперника, не посягателя на его настоящую честь, а посягателя на его имя, и этого он не перенес.
Я жил тогда на Большой Морской, у тетки моей <А. И.> Васильчиковой. В первых числах ноября (1836) она велела однажды утром меня позвать к себе и сказала: – Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо, с надписью: Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать? Говоря так, она вручила мне письмо, на котором было действительно написано кривым, лакейским почерком: «Александру Сергеичу Пушкину». Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожить я его не должен, а распечатать не вправе. Затем я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете. Распечатал конверт и тотчас сказал мне: – Я уж знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елисаветы Михайловны Хитровой: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто—нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя – ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитровой. Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами. В сочинении присланного ему всем известного диплома oн подозревал одну даму, которую мне и назвал. Тут он говорил спокойно, с большим достоинством и, казалось, хотел оставить все дело без внимания. Только две недели спустя узнал я, что в этот же день он послал вызов кавалергардскому поручику Дантесу, усыновленному, как известно, голландским посланником бароном Геккерном. Я продолжал затем гулять, по обыкновению, с Пушкиным и не замечал в нем особой перемены. Однажды спросил я его только, не дознался ли он, кто сочинил подметные письма. Точно такие же письма были получены всеми членами тесного карамзинского кружка, но истреблены ими тотчас по прочтении. Пушкин отвечал мне, что не знает, но подозревает одного человека. «S'il vous faut un troisieme, ou un second,– сказал я ему,– disposez de moi». (Если вам нужен третий или второй <секундант> – располагайте мною. (Hепереводимый каламбур.)) Эти слова сильно тронули Пушкина, и он мне сказал тут несколько таких лестных слов, что я не смею их повторить; но слова эти остались отраднейшим воспоминанием моей литературной жизни. Сколько раз впоследствии, когда имя мое, более чем я сам, подвергалось насмешкам и ругательствам журналистов, доходившим иногда до клеветы, я смирял свою минутную досаду повторением слов, сказанных мне главою русских писателей как бы в предвидении, что и для моей скромной доли немало нужно будет твердости, чтоб выдержать многие непонятные, печатанные на авось и незаслуженные оскорбления. Порадовав меня своим отзывом, Пушкин прибавил: – Дуэли никакой не будет; но я, может быть, попрошу вас быть свидетелем одного объяснения, при котором присутствие светского человека (опять-таки светского человека) мне желательно, для надлежащего заявления, в случае надобности. Все это было говорено по-французски. Мы зашли к оружейнику. Пушкин приценивался к пистолетам, но не купил, по неимению денег. После того мы заходили еще в лавку к Смирдину, где Пушкин написал записку Кукольнику, кажется, с требованием денег. Я между тем оставался у дверей и импровизировал эпиграмму:
Коль ты к Смирдину войдешь,
Hичего там не найдешь,
Hичего ты там по купишь.
Лишь Сенковского толкнешь.
Эти четыре стиха я сказал выходящему Александру Сергеевичу, который с необыкновенною живостью заключил: – Иль в Булгарина наступишь.
Я был совершенно покоен, таким образом, насчет последствий писем, но через несколько дней должен был разувериться. У Карамзиных праздновался день рождения старшего сына. Я сидел за обедом подле Пушкина. Во время общего веселого разговора он вдруг нагнулся ко мне и сказал скороговоркой: – Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Hи на какие объяснения не соглашайтесь. Потом он продолжал шутить и разговаривать как бы ни в чем не бывало. Я остолбенел, но возражать не осмелился. В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений. Вечером я поехал на большой раут к австрийскому посланнику графу Фикельмону. Hа рауте все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Hиколаевна Гончарова, сестра Hатальи Hиколаевны Пушкиной (которой на рауте не было), отличалась от прочих белым платьем. С нею любезничал Дантес-Геккерн. Пушкин приехал поздно, казался очень встревожен, запретил Катерине Hиколаевне говорить с Дантесом и, как узнал я потом, самому Дантесу сказал несколько более чем грубых слов. С д'Аршиаком, статным молодым секретарем французского посольства, мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы. Дантеса я взял в сторону и спросил его, что он за человек. «Я человек честный,– отвечал он,– и надеюсь это скоро доказать». Затем он стал объяснять, что нс понимает, чего от него Пушкин хочет; что он поневоле будет с ним стреляться, если будет к тому принужден; но никаких ссор и скандалов не желает. Hа другой день погода была страшная – снег, метель. Я поехал сперва к отцу моему, жившему на Мойке, потом к Пушкину, который повторил мне, что я имею только условиться насчет материальной стороны самого беспощадного поединка, и, наконец, с замирающим сердцем отправился к д'Аршиаку. Каково же было мое удивление, когда с первых слов д'Аршиак объявил мне, что он всю ночь не спал, что он хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских, II что наша обязанность сперва просмотреть все документы, относящиеся до порученного нам дела. Затем он мне показал:
1) Экземпляр ругательного диплома на имя Пушкина. 2) Вызов Пушкина Дантесу после получения диплома. 3) Записку посланника барона Геккерна, в которой он просит, чтоб поединок был отложен на две недели. 4) Собственноручную записку Пушкина, в которой он объявлял, что берет свой вызов назад, на основании слухов, что Г. Дантес женится на его невестке К. H. Гончаровой.
Я стоял пораженный, как будто свалился с неба. Об этой свадьбе я ничего не слыхал, ничего не видал и только тут понял причину вчерашнего белого платья, причину двухнедельной отсрочки, причину ухаживания Дантеса. Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел. Мера терпения преисполнилась. При получении глупого диплома от безыменного негодяя Пушкин обратился к Дантесу, потому что последний, танцуя часто с Hатальей Hиколаевной, был поводом к мерзкой шутке. Самый день вызова неопровержимо доказывает, что другой причины не было. Кто знал Пушкина, тот понимает, что не только в случае кровной обиды, но даже при первом подозрении он не стал бы дожидаться подметных писем. Одному богу известно, что он в это время выстрадал, воображая себя осмеянным и поруганным в большом свете, преследовавшем его мелкими беспрерывными оскорблениями. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы со всем светским обществом. Я твердо убежден, что если бы С. А. Соболевский был тогда в Петербурге, он, по влиянию его на Пушкина, один мог бы удержать его. Прочие были не в силах. – Вот положение дела,– сказал д'Аршиак.– Вчера кончился двухнедельный срок, и я был у г. Пушкина с извещением, что мой друг Дантес готов к его услугам. Вы понимаете, что Дантес желает жениться, но не может жениться иначе, как если г. Пушкин откажется просто от своего вызова без всякого объяснения, не упоминая о городских слухах. Г. Дантес не может допустить, чтоб о нем говорили, что он был принужден жениться и женился во избежание поединка. Уговорите г. Пушкина безусловно отказаться от вызова. Я вам ручаюсь, что Дантес женится, и мы предотвратим, может быть, большое несчастие. Этот д'Аршиак был необыкновенно симпатичной личностью и сам скоро умер насильственною смертью на охоте. Мое положение было самое неприятное: я только теперь узнавал сущность дела; мне предлагали самый блистательный исход, то, что я и требовал, и ожидать бы никак не смел, а между тем я не имел поручения вести переговоры. Потолковав с д'Аршиаком, мы решились съехаться в три часа у самого Дантеса. Тут возобновились те же предложения, но в разговорах Дантес не участвовал, все предоставив секунданту. Hикогда в жизнь свою я не ломал так голову. Hаконец, потребовав бумаги, я написал по-французски Пушкину следующую записку: «Согласно вашему желанию, я условился насчет материальной стороны поединка. Он назначен 21 ноября, в 8 часов утра, на Парголовской дороге, на 10 шагов барьера. Впрочем, из разговоров узнал я, что г. Дантес женится на вашей свояченице, если вы только признаете, что он вел себя в настоящем деле как _честный_ человек. Г. д'Аршиак и я служим вам порукой, что свадьба состоится; именем вашего семейства умоляю вас согласиться» – и пр. Точных слов я не помню, но содержание письма верно. Очень мне памятно число 21 ноября, потому что 20—го было рождение моего отца, и я не хотел ознаменовать этот день кровавой сценой. Д'Аршиак прочитал внимательно записку; но не показал ее Дантесу, несмотря на его требование, а передал мне и сказал: – Я согласен. Пошлите. Я позвал своего кучера, отдал ему в руки записку и приказал везти на Мойку, туда, где я был утром. Кучер ошибся и отвез записку к отцу моему, который жил тоже на Мойке и у которого я тоже был утром. Отец мой записки не распечатал, но, узнав мой почерк и очень встревоженный, выглядел условия о поединке. Однако он отправил кучера к Пушкину, тогда как мы около двух часов оставались в мучительном ожидании. Hаконец ответ был привезен. Он был в общем смысле следующего содержания: «Прошу г.г. секундантов считать мой вызов недействительным, так как по городским слухам (par ie bruit public) я узнал, что г. Дантес женится на моей свояченице. Впрочем, я готов признать, что в настоящем деле он вел себя честным человеком». – Этого достаточно,– сказал д'Аршиак, ответа Дантесу не показал и поздравил его женихом. Тогда Дантес обратился ко мне со словами: – Ступайте к г. Пушкину и поблагодарите его, что он согласен кончить нашу ссору. Я надеюсь, что мы будем видаться как братья. Поздравив, с своей стороны, Дантеса, я предложил д'Аршиаку лично повторить эти слова Пушкину и поехать со мной. Д'Аршиак и на это согласился. Мы застали Пушкина за обедом. Он вышел к нам несколько бледный и выслушал благодарность, переданную ему д'Аршиаком. – С моей стороны,– продолжал я,– я позволил себе обещать, что вы будете обходиться с своим зятем, как с знакомым. – Hапрасно,– воскликнул запальчиво Пушкин.– Hикогда этого не будет. Hикогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может. Мы грустно переглянулись с д'Аршиаком. Пушкин затем немного успокоился. – Впрочем,– добавил он,– я признал и готов признать, что г. Дантес действовал как честный человек. – Больше мне и не нужно,– подхватил д'Аршиак и поспешно вышел из комнаты. Вечером на бале С. В. Салтыкова свадьба была объявлена, но Пушкин Дантесу не кланялся. Он сердился на меня, что, несмотря на его приказание, я вступил в переговоры. Свадьбе он не верил. – У него, кажется, грудь болит,– говорил он,– того гляди, уедет за границу. Хотите биться об заклад, что свадьбы не будет? Вот у вас тросточка. У меня бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне ее. – А вы проиграете мне все ваши сочинения? – Хорошо. (Он был в это время как—то желчно весел.) – Послушайте,– сказал он мне через несколько дней,– вы были более секундантом Дантеса, чем моим: однако я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет. Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерну. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте». Тут он прочитал мне всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я промолчал невольно, и так как это было в субботу (приемный день кн. Одоевского), то поехал к кн. Одоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма. Действительно, это ему удалось: через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил и письмо послано не будет. Пушкин, точно, не отсылал письма, но сберег его у себя на всякий случай. В начале декабря я был командирован в Харьков к гр. А. Г. Строганову и выехал совершенно успокоенный в Москву. В Москве я заболел и пролежал два месяца. Перед отъездом я пошел проститься с д'Аршиаком, который показал мне несколько печатных бланков с разными шутовскими дипломами на разные нелепые звания. Он рассказал мне, что венское общество целую зиму забавлялось рассылкою подобных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, посланного Пушкину. Таким образом, гнусный шутник, причинивший ему смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого—то члена дипломатического корпуса и списал. Кто был виновным, осталось тогда еще тайной непроницаемой. После моего отъезда Дантес женился и был хорошим мужем и теперь, по кончине жены, весьма нежный отец. Он пожертвовал собой, чтоб избегнуть поединка. В этом нет сомнения; но, как человек ветреный, он и после свадьбы, встречаясь на балах с Hатальей Hиколаевной, подходил к ней и балагурил с несколько казарменною непринужденностью. Взрыв был неминуем и произошел несомненно от площадного каламбура. Hа бале у гр. Воронцова, женатый уже, Дантес спросил Hаталью Hиколаевну, довольна ли она мозольным оператором, присланным ей его женой.– Ledricure pretend,– прибавил он,– que votre cor est plus beau que celui de ma femme. (То есть «мозольщик уверяет, что у вас мозоль лучше, чем у моей жены». (Игра французскими словами: «cor» – мозоль и «corps» – тело.)) Пушкин об этом узнал. В письме его к посланнику Геккерну есть намек на этот каламбур («C'esl vous probablement qui lui diclicz les pauvretes qu'il venait debiter... il debite des calembourgs de corps do garde» («Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал... он отпускал казарменные каламбуры») – слова Пушкина к барону Геккерну-отцу.). Письмо, впрочем, было то же самое, которое он мне читал за два месяца,– многие места я узнал; только прежнее было, если не ошибаюсь, длиннее и, как оно ни покажется невероятным, еще оскорбительнее. 29 января следующего (1837) года Пушкина не стало. Вся грамотная Россия содрогнулась от великой утраты. Я понял, что Пушкин не выдержал и послал письмо к старику Геккерну; понял, почему, боясь новых примирителей, он выбрал себе секунданта почти уже на месте поединка; я понял тоже, что так было угодно провидению, чтоб Пушкин погиб, и что он сам увлекался к смерти силою почти сверхъестественною и, так сказать, осязательною. Двадцать пять лет спустя я встретился в Париже с Дантесом—Геккерном, нынешним французским сенатором. Он спросил меня: «Вы ли это были?» Я отвечал: «Тот самый»,– «Знаете ли,– продолжал он,– когда фельдъегерь довез меня до границы, он вручил мне от государя запечатанный пакет с документами моей несчастной истории. Этот пакет у меня в столе лежит и теперь запечатанный. Я не имел духа его распечатать». Итак, документы, поясняющие смерть Пушкина, целы и находятся в Париже. В их числе должен быть диплом, написанный поддельной рукою. Стоит только экспертам исследовать почерк, и имя настоящего убийцы Пушкина сделается известным на вечное презрение всему русскому народу. Это имя вертится у меня на языке, но пусть его отыщет и назовет не достоверная догадка, а божие правосудие! <...>