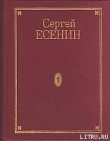Текст книги "Том 4. Москва и москвичи. Стихотворения"
Автор книги: Владимир Гиляровский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
И когда, к концу поста, у актеров иссякали средства, они питались только такими расстегаями.
Умер Спиридон Степанович. Еще раньше умер владелец ряда каменных домов по Петровке – Хомяков. Он давно бы сломал этот несуразный флигелишко для постройки нового дома, но жаль было старика.
Не таковы оказались наследники. Получив наследство, они выгнали Щербакова, лишили актеров насиженного уюта.
Громадное владение досталось молодому Хомякову. Он тотчас же разломал флигель и решил на его месте выстроить роскошный каменный дом, но городская дума не утвердила его плана: она потребовала расширения переулка. Уперся Хомяков: «Ведь земля моя». Город предлагал купить этот клок земли – Хомяков наотрез отказался продать: «Не желаю». И, огородив эту землю железной решеткой, начал строить дом. Одновременно с началом постройки он вскопал за решеткой землю и посадил тополя, ветлу и осину.
Рос дом. Росли деревья. Открылась банкирская контора, а входа в нее с переулка нет. Хомяков сделал тротуар между домом и своей рощей, отгородив ее от тротуара такой же железной решеткой. Образовался, таким образом, посредине Кузнецкого переулка неправильной формы треугольник, который долго слыл под названием Хомяковской рощи. Как ни уговаривали и власти, и добрые знакомые, Хомяков не сдавался.
– Это моя собственность.
Хомяков торжествовал, читая ругательные письма, которые получал ежедневно. Острила печать над его самодурством.
– Воздействуйте через администрацию, – посоветовал кто-то городскому голове.
Вызвали к обер-полицмейстеру. Предложили освободить переулок, грозя высылкой из Москвы в 24 часа в случае несогласия.
– Меня вы можете выселить. Я уеду, а собственность моя останется.
Шумела молодая рощица и, наверное, дождалась бы Советской власти, но вдруг в один прекрасный день – ни рощи, ни решетки, а булыжная мостовая пылит на ее месте желтым песком. Как? Кто? Что? – недоумевала Москва. Слухи разные, – одно только верно, что Хомяков отдал приказание срубить деревья и замостить переулок и в этот же день уехал за границу. Рассказывали, что он действительно испугался высылки из Москвы; говорили, что родственники просили его не срамить их фамилию.
А у меня в руках была гранка из журнала «Развлечение» с подписью: А. Пазухин.
Газетный писатель-романист и автор многих сценок и очерков А. М. Пазухин поспорил с издателем «Развлечения», что он сведет рощу. Он добыл фотографию Хомякова и через общего знакомого послал гранку, на которой была карикатура: осел, с лицом Хомякова, гуляет в роще…
Ранее, до «Щербаков», актерским трактиром был трактир Барсова в доме Бронникова, на углу Большой Дмитровки и Охотного ряда. Там существовал знаменитый Колонный зал, в нем-то собирались вышеупомянутые актеры и писатели, впоследствии перешедшие в «Щербаки», так как трактир Барсова закрылся, а его помещение было занято Артистическим кружком, и актеры, день проводившие в «Щербаках», вечером бывали в Кружке.
Когда закрылись «Щербаки», актеры начали собираться в ресторане «Ливорно», в тогдашнем Газетном переулке, как раз наискосок «Щербаков».
С двенадцати до четырех дня великим постом «Ливорно» было полно народа. Облако табачного дыма стояло в низеньких зальцах и гомон невообразимый. Небольшая швейцарская была увешана шубами, пальто, накидками самых фантастических цветов и фасонов. В ресторане за каждым столом, сплошь уставленным графинами и бутылками, сидят тесные кружки бритых актеров, пестро и оригинально одетых: пиджаки и брюки водевильных простаков, ужасные жабо, галстуки, жилеты – то белые, то пестрые, то бархатные, а то из парчи. На всех этих жилетах в первой половине поста блещут цепи с массой брелоков. На столах сверкают новенькие серебряные портсигары. Владельцы часов и портсигаров каждому новому лицу в сотый раз рассказывают о тех овациях, при которых публика поднесла им эти вещи.
Первые три недели актеры поблещут подарками, а там начинают линять: портсигары на столе не лежат, часы не вынимаются, а там уже пиджаки плотно застегиваются, потому что и последнее украшение – цепочка с брелоками – уходит вслед за часами в ссудную кассу. А затем туда же следует и гардероб, за который плачены большие деньги, собранные трудовыми грошами.
С переходом в «Ливорно» из солидных «Щербаков» как-то помельчало сборище актеров: многие из корифеев не ходили в этот трактир, а ограничивались посещением по вечерам Кружка или заходили в немецкий ресторанчик Вельде, за Большим театром.
Григоровский, перекочевавший из «Щербаков» к Вельде, так говорил о «Ливорно»:
– Какая-то греческая кухмистерская. Спрашиваю чего-нибудь на закуску к водке, а хозяин предлагает: «Цамая люцая цакуцка – это цудак по-глецески!» Попробовал – мерзость.
Актеры собирались в «Ливорно» до тех пор, пока его не закрыли. Тогда они стали собираться в трактире Рогова в Георгиевском переулке, на Тверской, вместе с охотнорядцами, мясниками и рыбниками.
Вверху в этом доме помещалась библиотека Рассохина и театральное бюро…
Между актерами было, конечно, немало картежников и бильярдных игроков, которые постом заседали в бильярдной ресторана Саврасенкова на Тверском бульваре, где велась крупная игра на интерес.
Здесь бывали и провинциальные знаменитости. Из них особенно славились двое: Михаил Павлович Докучаев – трагик и Егор Егорович Быстрое, тоже прекрасный актер, игравший все роли.
Егор Быстров, игрок-профессионал, кого угодно умел обыграть и надуть: с него и пошел глагол «объегорить»…
«Яма»
…С Тверской мы прошли через Иверские ворота и свернули в глубокую арку старинного дома, где прежде помещалось губернское правление.
– Ну вот, здесь я и живу, зайдем.
Перешли двор, окруженный кольцом таких же старинных зданий, вошли еще в арку, в которой оказалась лестница, ведущая во второй этаж. Темный коридор, и из него в углублении дверь направо.
– Вот и пришли!
Скрипнула тяжелая дверь, и за ней открылся мрак.
– Тут немного вниз… Дайте руку…
Я спустился в эту темноту, держась за руку моего знакомого. Ничего не видя кругом, сделал несколько шагов. Щелкнул выключатель, и яркий свет электрической лампы бросил тень на ребра сводов. Желтые полосы заиграли на переплетах книг и на картинах над письменным столом.
Я очутился в большой длинной комнате с нависшими толстенными сводами, с глубокой амбразурой маленького, темного, с решеткой окна, черное пятно которого зияло на освещенной стене. И представилось мне, что у окна, за столом сидит летописец и пишет…
Еще одно, последнее сказанье – И летопись окончена моя…-
мелькнуло в памяти… Я стоял и молчал.
– Нет, это положительно келья Пимена! Лучшей декорации нельзя себе представить… – сказал я.
– Не знаю, была ли здесь келья Пимена, а что именно здесь, в этой комнате, была «яма», куда должников сажали, – это факт…
– Так вот она, та самая «яма», которая упоминается и у Достоевского, и у Островского.
Ужасная тюрьма для заключенных не за преступления, а просто за долги.
Здесь сидели жертвы несчастного случая, неумения вести дело торговое, иногда – разгула.
«Яма» – это венец купеческой мстительной жадности. Она существовала до революции, которая начисто смела этот пережиток жестоких времен.
По древним французским и германским законам должник должен был отрабатывать долг кредитору или подвергался аресту в оковах, пока не заплатит долга, а кредитор обязывался должника «кормить и не увечить».
На Руси в те времена полагался «правеж и выдача должника истцу головою до искупа».
Со времен Петра I для должников учредились долговые отделения, а до той поры должники сидели в тюрьмах вместе с уголовными.
Потом долговое отделение перевели в «Титы», за Москву-реку, потом в Пресненский полицейский дом, в третий этаж, но хоть и в третьем этаже было, а название все же осталось за ним «яма».
Однажды сидел там старик, бывший миллионер Плотицын. Одновременно там же содержалась какая-то купчиха, пожилая женщина, с такой скорбью в глазах, что положительно было жаль смотреть.
Помню я, что заходил туда по какому-то газетному делу. Когда я спустился обратно по лестнице, то увидел на крыльце пожилую женщину. Она вошла в контору смотрителя и вскоре вернулась.
Я заинтересовался и спросил смотрителя.
– Садиться приходила, да помещения нет, ремонтируется. У нее семеро детишек, и сидеть она будет за мужнины долги.
Оказывается, в «яме» имелось и женское отделение!
В России по отношению к женщинам прекратились телесные наказания много раньше, чем по отношению к мужчинам, а от задержания за долги и женщины не избавились. Старый солдат, много лет прослуживший при «яме», говорил мне: – Жалости подобно! Оно хоть и по закону, да не по совести! Посадят человека в заключение, отнимут его от семьи, от детей малых, и вместо того, чтобы работать ему, да, может, работой на ноги подняться, годами держат его зря за решеткой. Сидел вот молодой человек – только что женился, а на другой день посадили. А дело-то с подвохом было: усадил его богач-кредитор только для того, чтобы жену отбить. Запутал, запутал должника, а жену при себе содержать стал…
Сидит такой у нас один, и приходит к нему жена и дети, мал мала меньше… Слез-то, слез-то сколько!.. Просят смотрителя отпустить его на праздник, в ногах валяются…
Конечно, бывали случаи, что арестованные удирали на день-два домой, но их ловили и водворяли.
Со стороны кредиторов были разные глумления над своими должниками. Вдруг кредитор перестает вносить кормовые. И тогда должника выпускают. Уйдет счастливый, радостный, поступит на место и только что начнет устраиваться, а жестокий кредитор снова вносит кормовые и получает от суда страшную бумагу, именуемую: «поимочное свидетельство».
И является поверенный кредитора с полицией к только что начинающему оживать должнику и ввергает его снова в «яму».
А то представитель конкурса, узнав об отлучке должника из долгового отделения, разыскивает его дома, врывается, иногда ночью, в семейную обстановку и на глазах жены и детей вместе с полицией сам везет его в долговое отделение. Ловили должников на улицах, в трактирах, в гостях, даже при выходе из церкви!
Но и здесь, как везде: кому счастье, кому горе. Бывали случаи, что коммерческий суд пришлет указ отпустить должника, а через месяц опять отсрочку пришлет – и живет себе человек на воле.
А другой, у которого протекции нет и взятку дать не на что, никаких указов дождаться не может – разве смотритель из человечности сжалится да к семье на денек отпустит.
Это все жертвы самодурства и «порядка вещей» канцелярского свойства, жертвы купцов-дисконтеров.
Ведь большинство попадало в «яму» из-за самодурства богатеев-кредиторов, озлобившихся на должника за то, что он не уплатил, а на себя за то, что в дураках остался и потерял деньги. Или для того, чтобы убрать с дороги мешающего конкурента.
Кредитор злобно подписывал указ и еще вносил кормовые деньги, по пять рублей восемьдесят пять копеек в месяц.
И много таких мстителей было среди богатого московского купечества, чему доказательством служило существование долгового отделения, в котором сидело почти постоянно около тридцати человек.
«Олсуфьевская крепость»
На Тверской, против Брюсовского переулка, в семидесятые и в начале восьмидесятых годов, почти рядом с генерал-губернаторским дворцом, стоял большой дом Олсуфьева – четырехэтажный, с подвальными этажами, где помещались лавки и винный погреб. И лавки и погребок имели два выхода на улицу и во двор – и торговали на два раствора.
Погребок торговал через заднюю дверь всю ночь. Этот оригинальной архитектуры дом был окрашен в те времена в густой темно-серый цвет. Огромные окна бельэтажа, какие-то выступы, а в углублениях высокие чугунные решетчатые лестницы – вход в дом. Подъездов и вестибюлей не было. Посредине дома – глухие железные ворота с калиткой всегда на цепи, у которой день и ночь дежурили огромного роста, здоровенные дворники. Снаружи дом, украшенный вывесками торговых заведений, был в полном порядке. Первый и второй этажи сверкали огромными окнами богато обставленных магазинов. Здесь были модная парикмахерская Орлова, фотография Овчаренко, портной Воздвиженский. Верхние два этажа с незапамятных времен были заняты меблированными комнатами Чернышевой и Калининой, почему и назывались «Чернышами».
В «Чернышах» жили актеры, мелкие служащие, учителя, студенты и пишущая братия.
В 1876 году здесь жил, еще будучи маленьким актером Малого театра, М. В. Лентовский: бедный номеришко, на четвертом этаже, маленькие два окна, почти наравне с полом, выходившие во двор, а имущества всего – одно пальтишко, гитара и пустые бутылки.
В квартире номер сорок пять во дворе жил хранитель дома с незапамятных времен. Это был квартальный Карасев, из бывших городовых, любимец генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова, при котором он состоял неотлучным не то вестовым, не то исполнителем разных личных поручений. Полиция боялась Карасева больше, чем самого князя, и потому в дом Олсуфьева, что бы там ни делалось, не совала своего носа.
Владелец дома, отставной штабс-капитан Дм. Л. Олсуфьев, ничего общего с графом Олсуфьевым не имеющий, здесь не жил, а управлял домом бывший дворник, закадычный друг Карасева, который получал и с него и с квартирантов, содержателей торговых заведений, огромные деньги.
Но не этот наружный корпус давал главный доход домовладельцам.
За вечно запертыми воротами был огромнейший двор, внутри которого – ряд зданий самого трущобного вида. Ужас берет, когда посмотришь на сводчатые входы с идущими под землю лестницами, которые вели в подвальные этажи с окнами, забитыми железными решетками.
Посредине двора – огромнейший флигель. Флигеля с боков, и ни одного забора, через который можно перелезть. Словом, один выход – только через охраняемую калитку.
А народу было тысячи полторы.
Недаром дом не имел другого названия, как «Олсуфьевская крепость» – по имени его владельца.
В промозглых надворных постройках – сотни квартир и комнат, занятых всевозможными мастерскими.
Пять дней в неделю тихо во дворе, а в воскресенье и понедельник все пьяно и буйно: стон гармоники, песни, драки, сотни полуголых мальчишек-учеников, детишки плачут, ревут и ругаются ученики, ни за что ни про что избиваемые мастерами, которых и самих так же в ученье били.
И ничего не видно и не слышно с улицы за большим двором, а ворота заперты, только в калитку иногда ныряли квартиранты, которые почище одеты. Остальные вечно томились в крепости.
«Мастеровщики» населяли все это огромное владение, а половина здешней мастеровщины – портные. Половина портных были, бездомные пьяницы и были самыми выгодными, самыми дешевыми и беззащитными работниками.
Пьянство здесь поддерживалось самими хозяевами: оно приковывало к месту. Разутому и раздетому куда идти? Да и дворник в таком виде не выпустит па улицу, и жаловаться некому.
«Раки» было общее название этих людей.
И сидели «раки» годами в своих норах, полураздетые, босые, имея только общие опорки, чтобы на двор выбегать, накинув на истлевшую рубаху какие-нибудь лохмотья. Мечтой каждого был трактир, средством достижения – баня. Покупалась на базаре дешевого ситцу рубаха, нанковые портки, и в канун праздника цербер-дворник выпускал «раков» за железные ворота как раз против Брюсовского переулка, в Стрельцовские бани. Здесь они срывали с себя лохмотья и, выпарившись, уже облеченные во все чистенькое, там же за пятак остригшись, шли в трактир Косоурова рядом с банями, а оттуда, в сопровождении трезвых товарищей, уже ночью исчезали в воротах «крепости».
Мастеровые в будние дни начинали работы в шесть-семь часов утра и кончали в десять вечера. В мастерской портного Воздвиженского работало пятьдесят человек. Женатые жили семьями в квартирах на дворе, а холостые с мальчиками-учениками ночевали в мастерских, спали на верстаках и па полу, без всяких постелей: подушка – полено в головах или свои штаны, если еще не пропиты.
К шести часам утра кипел ведерный самоварище, заблаговременно поставленный учениками, которые должны были встать раньше всех и уснуть после всех.
У всякого своя кружка, а то просто какая-нибудь банка. Чай хозяйский, а хлеб и сахар свой, и то не у всех. В некоторых мастерских мальчикам чай полагался только два раза в год – на рождество и на пасху, по кружке:
– Чтоб не баловались!
После больших праздников, когда пили и похмелялись неделями, садились за работу почти голыми, сменив в трактире единственную рубашку на тряпку, чтобы только «стыд прикрыть».
Кипяток в семь часов разливали по стаканам без блюдечек, ставили стаканы на каток, а рядом – огромный медный чайник с заваренным для колера цикорием. Кухарка (в мастерских ее звали «хозяйка») подавала по куску пиленого сахара на человека и нарезанный толстыми ломтями черный хлеб. Посуду убирали мальчики. За обедом тоже служили мальчики. И так было во всей Москве – и в больших мастерских, и у «грызиков».
Мастера бросали работу, частью усаживались, как работали, «ноги калачиком», на катке вокруг чашек, а кому не хватало места, располагались стоя вместе с мальчиками и по очереди черпали большими деревянными ложками щи.
Обедали не торопясь. «Хозяйка» несколько раз подливала щи, потом вываливала в чашку нарезанную кусочками говядину, и старший из мастеров стучал ложкой по краю чашки.
Это в переводе на человеческую речь значило: «Таскай со всем».
После этого тихо и степенно каждый брал в ложку по одному кусочку мяса, зная, что если захватит два кусочка, то от старшего по лбу ложкой влетит.
Ели молча, ложку после каждого глотка клали на каток и снова, прожевав мясо и хлеб, черпали вторую.
За кашей, всегда гречневой, с топленым салом, а в постные дни с постным маслом, дело шло веселей: тут уже не зевай, а то ложкой едва возьмешь, она уже по дну чашки стучит.
После обеда мальчики убирают посуду, вытирают каток, а портные садятся тотчас же за работу. Посидев за шитьем час, мастера, которым есть что надеть, идут в трактир пить чай и потом уже вместе с остальными пьют второй, хозяйский чай часов в шесть вечера и через полчаса опять сидят за работой до девяти.
В девять ужин, точнее, повторение обеда.
«Грызиками» назывались владельцы маленьких заведений, в пять-шесть рабочих и нескольких же мальчиков с их даровым трудом. Здесь мальчикам было еще труднее: и воды принеси, и дров наколи, сбегай в лавку – то за хлебом, то за луком на копейку, то за солью, и целый день на посылках, да еще хозяйских ребят нянчи! Вставай раньше всех, ложись после всех.
Выбежать поиграть, завести знакомство с ребятами – минуты нет. В «Олсуфьевке» мальчикам за многолюдностью было все-таки веселее, но убегали ребята и оттуда, а уж от «грызиков» – то и дело. Познакомятся на улице с мальчишками-карманниками, попадут на Хитровку и делаются жертвами трущобы и тюрьмы…
Кроме «мастеровщины», здесь имели квартиры и жили со своими артелями подрядчики строительных работ: плотники, каменщики, маляры, штукатуры, или, как их в Москве звали, «щекатуры». Были десятки белошвейных мастерских, портнишек, вязальщиц, были прачечные. Это самые тихие и чистенькие квартиры, до отказа набитые мастерицами и ученицами, спавшими в мастерских вповалку, ходившими босиком, пока не выйдут из учениц в мастерицы. Их, как и мальчиков, привозили из деревни и отдавали в ученье на четыре-пять лет без жалованья и тем прикрепляли к месту. Отбывшие срок учения делались мастерами и мастерицами и оставались жить у своих хозяев за грошовое жалованье. Некоторые обзаводились семьями.
В «Олсуфьевке» жили поколениями. Все между собой были знакомы, подбирались по специальностям, по состоянию и поведению. Пьяницы (а их было между «мастеровщиной» едва ли не большинство) в трезвых семейных домах не принимались. Двор всегда гудел ребятишками, пока их не отдадут в мастерские, а о школах и не думали. Маленьких не учили, а подросткам, уже отданным в мастерские, учиться некогда.
Взрослые дочери хозяев и молодые мастерицы, мальчики, вышедшие в мастера, уже получавшие жалованье, играли свадьбы, родня росла, – в «Олсуфьевке» много было родственников.
В большие праздники в семейных квартирах устраивали вечеринки. Но таких скромных развлечений было мало среди общего пьяного разгула. Поголовное пьянство обыкновенно бывало на масленице и на святках. Ходили из квартиры в квартиру ряженые, с традиционной «козой», с барабаном и «медведем» в вывороченном полушубке. Его тащил на цепи дед-вожатый с бородой из льна, и медведь, гремя цепью, показывал, как ребята горох в поле воруют, как хозяин пляшет и как барин водку пьет и пьяный буянит. Конечно, медведю подносили водки, и он уже после второй-третьей вечеринки сваливался и засыпал в сенях, а если буянил, то дворники отправляли его в подвал.
У скромной, семейной работающей молодежи «Олсуфьевской крепости» ничего для сердца, ума и разумного веселья – ни газет, ни книг и даже ни одного музыкального инструмента. Бельэтаж гагаринского дворца, выходившего на улицу, с тремя большими барскими квартирами, являл собой разительную противоположность царившей на дворе крайней бедноте и нужде. Звуки музыки блестящих балов заглушали пьяный разгул заднего двора в праздничные дни.
В семейных квартирках надворных флигелей были для молодежи единственным весельем – танцы. Да и только один танец – кадриль. Да и то без музыки.
В праздничные дни, когда мужское большинство уходило от семей развлекаться по трактирам и пивным, мальчики-ученики играли в огромном дворе, – а дома оставались женщины, молодежь собиралась то в одной квартире, то в другой, пили чай, грызли орехи, дешевые пряники, а то подсолнухи.
Разговоры вертелись только на узких интересах своей специальности или в области сплетен.
Молодежь начинала позевывать. Из отворенного окна бельэтажа гагаринского дворца послышалась музыка.
– Ну чего же вы? Там уже начали!..
С веселыми лицами вскакивают чистенько одетые кавалеры и приглашают принаряженных барышень.
– Позвольте вас пригласить на кадрель!
Мигом отодвигается в угол чайный стол, пожилые маменьки и тетеньки усаживаются вдоль стен, выстраиваются шесть пар, посредине чисто вымытого крашеного пола, танцующие запевают:
Во саду ли в огороде
Девица гуляла…
Все громче, веселее под эту песню проходят первые три фигуры всемирно известного танца. Четвертую и пятую танцуют под:
Шла девица за водой
За холодной ключевой…
У живших в «Олсуфьевке» артелей плотников, каменщиков и маляров особенно гулящими были два праздника: летний – петров день и осенний – покров.
Наем рабочих велся на срок от петрова до покрова, то есть от 29 июня до 1 октября.
В петров день перед квартирами на дворе, а если дождь, то в квартирах, с утра устанавливаются столы, а на них – четвертные сивухи, селедка, огурцы, колбаса и хлеб.
Первую чару пил хозяин артели, а потом все садились на скамейки, пили, закусывали, торговались и тут же «по пьяному делу» заключали условия с хозяином на словах, и слово было вернее нотариального контракта.
Когда поразопьются – торгуются и кочевряжатся:
– Андрей Максимов, а сколько ты мне положишь в неделю? – пьяным голосом обращается плотник к хозяину.
– Хошь по-старому – живи. А то, ежели что, и не надо, уезжай в деревню, – отвечает красный как рак хозяин.
– А ты надбавь! А то давай расщот!
– Как хошь! Получай сейчас и не отсвечивай! Орут, галдят, торгуются, дерутся всю ночь…
А через день вся артель остается у хозяина.
Это петров день – цена переряда.
У портных, у вязальщиц, у сапожников, у ящичников тоже был свой праздник – «засидки».
Это – 8 сентября.
То же пьянство и здесь, та же ночевка в подвале, куда запирали иногда связанного за буйство. А на другой день – работа до десяти вечера.
После «засидок» – с огнем.
У портных «засидки» продолжались два дня. 9 сентября к семи часам вечера все сидят, ноги калачиком, на верстаках, при зажженной лампе. Еще засветло зажгут и сидят, делая вид, что шьют.
А мальчишка у дверей караулит.
– Идет!
И кто-нибудь из портных убавляет огонь в лампе донельзя.
Входит хозяин.
– Что такое за темнота у вас тутотка?
– Керосин не горит!
– Почему такое вдруг бы ему не гореть?
– Небось сами знаете! Лампы-то ваши…
– Тэ-эк-с! Ну, нате, чтобы горел!
И выкидывает трешницу на четвертную и закуску.
Огонь прибавляют.
Через час четверть выпита: опять огонь убавили. Сидят, молчат. Посылают мальчишку к главному закройщику – и тот же разговор, та же четверть, а на другой день – все на работе.
Сидят, ноги калачиком, а руки с похмелья да от холода ходуном ходят.
Летние каникулы окончились. После «засидок» начиналась зимняя, безрадостная и безвыходная крепостная жизнь в «Олсуфьевке», откуда даже в трактир не выйдешь!