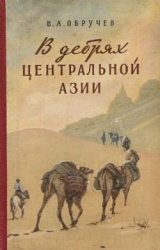
Текст книги "В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя)"
Автор книги: Владимир Обручев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Владимир Афанасьевич Обручев
В дебрях Центральной Азии


МОЕ ЗНАКОМСТВО С КЛАДОИСКАТЕЛЕМ
В мае 1905 г. я приехал в Чугучак, небольшой китайский городок, расположенный недалеко от границы Семиреченской области. Я собирался начать изучение соседней части Джунгарии, почти неизвестной в то время в геологическом и даже в географическом отношении обширной области Китая, несмотря на ее близость к нашей границе и легкую доступность.
Через Джунгарию проходили экспедиции Пржевальского, Потанина, Певцова, Роборовского и Козлова, направлявшиеся в глубь Центральной Азии или в Тибет или возвращавшиеся оттуда на Родину. Но отважные путешественники или торопились в эти далекие края, или возвращались оттуда усталые. В том и другом случае они уделяли мало внимания этому преддверию главной области своих работ, и оно оставалось слабо изученным.
Для моей экспедиции нужно было купить верховых и вьючных лошадей, нанять переводчика и проводника, заготовить седла, сухари и другую провизию и получить от китайских властей паспорт на свободный проезд по области. Поэтому я прежде всего отправился к русскому консулу Бокову, с которым познакомился еще 10 лет назад, возвращаясь из китайской экспедиции. Он был тогда секретарем консульства в Кульдже, а теперь сделался консулом в Чугучаке, и я предварительно списался с ним об условиях работы в Джунгарии.
Боков уже ждал меня и даже нанял для экспедиции квартиру в торговом предместье Чугучака, недалеко от консульского дома. Когда я пришел к нему, он вызвал местного жителя русской колонии, татарина Мусина, для помощи в закупках и снаряжении, а относительно паспорта уже начал переговоры с китайским даотаем – начальником уезда.
– А в качестве проводника и переводчика я могу рекомендовать вам здешнего старожила Кукушкина. Он совершил уже целый ряд экспедиций по Джунгарии, побывал в Урумчи, в Турфане, в пустыне Такла-макан и на Лоб-норе. Он говорит по-монгольски и по-киргизски, немного даже по-китайски
– Это было бы великолепно! – воскликнул я. – Но такой опытный проводник, пожалуй, запросит очень дорого, а у меня средств на экспедицию не так много.
– О, нет! Он очень скромный человек и большой любитель путешествий и приключений. Мы называем его кладоискателем.
– Какие же клады он искал в пустынях и горах Азии?
– Искал и находил золото в старых рудниках, древние монеты, утварь, драгоценности в развалинах древних городов. Живет безбедно в собственном домике. Боюсь только, что он не поедет. Ему далеко за семьдесят и он уже лет семь никуда не ездил. Но попытаемся. Во всяком случае, он даст вам хорошие сведения о дорогах, интересных местностях, поможет найти проводника.
Я, конечно, согласился и спросил, где живет кладоискатель.
– Сперва я узнаю, в городе ли он, – сказал консул. – За городом он арендует заимку с садом и огородом и летом большею частью живет там.
Весь день я был занят с Мусиным закупкой лошадей, а вечером опять посетил консула.
– Завтра Кукушкин будет дома. Я предупредил его, что мы придем, – сказал мне Боков.
На следующий день мы пошли к кладоискателю. Он жил недалеко. Через калитку в довольно высокой глинобитной стене мы попали в обширный двор, затененный несколькими старыми деревьями карагача [1] [1] Карагач (тюркск.) – берест, ильм – дерево из сем. ильмовых, вид вяза.
[Закрыть]. В глубине двора стоял одноэтажный домик из желтого кирпича с плоской крышей, покрытой не глиной, как у большинства домов в предместье, а листовым железом. По обе стороны входной двери было по два небольших окна с цветными наличниками и ставнями с букетами яркокрасных роз, придававшими домику нарядный вид. Справа вдоль стены двора стоял солидный амбар, а дальше вглубь – навес, под которым виднелись телега, небольшой тарантас и большая поленница дров, – свидетельство запасливости хозяина.

Слева в глинобитном скромном домике, очевидно, помешалась кухня и жилье прислуги, а из будки возле него выскочила и залаяла большая собака, гремя короткой цепью. Подальше у той же стены виден был навес с яслями и конюшня.
Лай собаки вызвал хозяина, появившегося в дверях домика.
– Здравствуйте, Фома Капитонович! – приветствовал его Боков, протягивая руку.
Кукушкин был среднего роста, худощавый и немного сутулый. Лицо бронзового цвета имело монгольский облик: узкие и чуть косые глаза, плоский нос, выдающиеся скулы, тонкие седые усы и жиденькая бородка. На голове китайская черная шапочка с красной шишкой, на плечах – поношенный халат китайского фасона из синей дабы [2] [2] Даба (монг.) – хлопчатобумажная ткань одного цвета без рисунков.
[Закрыть] и на ногах войлочные туфли на толстой подошве. Встретив Кукушкина на улице, я бы, несомненно, принял его за старого китайца.
Консул представил меня, и мы вошли в комнату, расположенную справа от небольшой полутемной прихожей. Это был кабинет хозяина. Простой письменный стол, покрытый зеленой клеенкой, пузырек с чернилами, несколько листов бумаги. Справа – кучка книг квадратного формата в странных переплетах из дощечек, скрепленных желтыми лентами – тибетских рукописных, как я узнал позже. Слева большая бронзовая статуэтка какого-то буддийского божка с круглым улыбающимся лицом и цветком в поднятой руке. Несколько тяжелых китайских кресел возле стола, на которые мы уселись. У задней стены небольшой кан, т. е. китайская теплая лежанка, но из цветных кафельных плиток и неширокая, на двух человек, покрытая хотанским ковриком с геометрическим узором. На кане – китайский ватный валик вместо подушки. На стене над каном висели две длинные китайские картины из сильно потемневшей шелковой материи с вышитыми на ней пейзажами, домами и людьми. Справа от кана – большая этажерка с книгами в переплетах и без них. На окнах белые кисейные занавески и горшки с какими-то странными, незнакомыми мне цветами.
Я успел рассмотреть всю обстановку комнаты, пока Боков рассказывал Кукушкину, кто я такой и с какой целью приехал в Чугучак.
– Вот бы вам, Фома Капитонович, вспомнить старые годы и проводить русскую экспедицию по Джунгарии. Наконец-то обратили внимание на то, что мы совсем не знаем эту пограничную область, – сказал Боков. – Вы ведь изъездили ее вдоль и поперек и могли бы оказать большую помощь.
Кукушкин вздохнул и покачал головой. – Поздно, Николай Иванович! Лет пять назад я бы поехал с большим удовольствием. Но одолел ревматизм. Сказались старые похождения. Вспомните, как долго я хворал зимой, не мог даже поздравить вас с светлым праздником.
– Знаю, знаю, – ответил консул. – Но я думал, что вы поправились к лету и сможете поехать. Не так ведь далеко, – в соседние горы.
– Я на коня-то уже не взберусь, Николай Иванович! Даже на заимку, совсем близко от города, в тарантасике езжу. В горы в нем не поедешь. И спать могу только на тёплом кане, в палатке не усну, всю ночь буду охать и стонать! Где уж мне ездить, наездился!
– Очень жаль, Фома Капитонович! Теперь бы ваши знания здешних гор очень пригодились. А ваш компаньон Лобсын не вернулся ли из Урги? Он ведь тоже знаток нашего края.
– Нет, еще не вернулся. Зимой с паломниками прислал мне письмо. Еще на год решил остаться в Урге, – он для нашего консула тибетские книги переводит.
– А кого вы могли бы указать профессору из здешних бывалых людей в качестве проводника и переводчика?
Кукушкин задумался. – А вот, татарин Мусин подойдет. Он по нашим горам много ездил, подряды у русско-китайской компании брал, уголь, лес, муку возил на их рудники.
– А как он насчет языков?
– По-киргизски хорошо объясняется, монгольского, правда, не знает. Но в наших горах больше киргизы живут.
– Я уже послал его к профессору помочь в покупке лошадей. А вы не сможете ли профессору указать, что знаете про здешние богатства, про золото, уголь, асфальт, про древний город. Он этим очень интересуется.
– С удовольствием, все, что смогу. Вечерком зайдите ко мне, господин ученый, я приготовлю записку и покажу вам свою рукописную карту. А Мусин знает дороги ко всем этим местам.
Боков поговорил еще с Кукушкиным насчет его заимки и сада, затем мы простились и вернулись в консульство. Вечером я посетил еще раз кладоискателя, получил список известных ему месторождений золота, угля и асфальта и даже с их оценкой, довольно фантастической, как мне показалось. Он показал мне и свою карту. Горы были нанесены на ней по китайскому методу в виде маленьких конусов друг возле друга по направлению их длины. Были показаны и дороги, и месторождения, но масштаба не было, и расстояния указаны приблизительно вдоль дорог в верстах. Эту карту он согласился дать мне до следующего утра, и я успел ее скопировать. В дополнение к списку она была полезна для ориентировки.
Консул во время наших свиданий по делам и за обедами сообщил мне следующие сведения о Кукушкине.
Фома Капитонович был родом с Алтая, куда его отец был сослан по делу декабристов, менее видных и потому не удостоенных ссылки на каторжные работы в Нерчинский край. Поселившись в живописной долине реки Бухтармы, он женился на торгоутке монгольского племени, от которой его сын унаследовал монгольский облик и знание языка. Отец завел там пчельник и маральник [3] [3] Марал (тюркск.) – олень, из рогов которого, «пантов», вырабатывается лекарство «пантокрин»; разводится в неволе на Алтае в «маральниках». Прежде сушеные панты, которые спиливались у маралов каждый год, очень ценились китайцами как лекарство.
[Закрыть], оставлявшие ему много свободного времени для чтения и размышлений. Он дал своему единственному сыну хорошее образование, приучил его к чтению книг по естествознанию и о путешествиях, которые получал с родины. Мальчик помогал ему в работах, в уходе за пчелами и маралами, осенью сопровождал его в Семипалатинск, куда они сплавляли по Иртышу партию меда и маральих рогов, привык к передвижению, к наблюдению явлений природы. Когда отец умер, Фоме было лет около 20; его мать с двумя дочерьми продала пчельник и маральник и уехала на родину, к озеру Марка-куль, вернулась к кочевой жизни, по которой тосковала в деревне.
Фома нашел место приказчика в Устькаменогорске у купца, торговавшего красным товаром в Монголии, сделался у него подручным и привык к путешествиям. Но сидение в лавке в течение весны и лета оставляло много свободного времени, и он продолжал заниматься чтением книг, которые брал в библиотеке, а у купца вел всю переписку и отчетность. Несколько лет спустя он перебрался в Чугучак, где служил также переводчиком в консульстве при разборе торговых дел между монголами и китайцами.
– Поэтому я его хорошо знаю, – заметил консул Боков. – Он образованный человек, берет у меня газеты и журналы, которые я получаю, а сам покупает книги, когда ездит в Семипалатинск за товарами, даже выписывает их из Москвы. На старом руднике в горах он откопал золото, забытое во время дунганского восстания, построил себе домик, который вы видели, сам развозил товары по монгольским улусам и монастырям с помощью молодого монгола [4] [4] Русские в Джунгарии местных монголов называли также калмыками.
[Закрыть], сбежавшего в детстве из буддийского монастыря, куда отец отдал его в науку к ламам. Фома его воспитал и обучил даже русскому языку, вдвоем они совершили уже много путешествий, во время которых занялись также поисками разных кладов в развалинах древних городов. При моей помощи Фома отправлял свои находки в музеи Петербурга и Москвы и сделался знатоком этих древностей буддийского культа и китайской старины вообще.
Через несколько дней я снарядил свой караван и уехал в горы на юг от Чугучака, вернулся оттуда в июле и направился через северные горы в Зайсан, где и закончил в этот раз экспедицию, не побывав еще раз в Чугучаке. Список и карта Кукушкина почти не касались той части Джунгарии, которую я изучил в этом году.
В начале лета 1906 г. я снова приехал в Чугучак, чтобы продолжать исследования и в этот раз в той части гор, которые были на карте Кукушкина. У консула я спросил, как он поживает.
– Кукушкин умер нынче весной, – сообщил Боков. – Перед смертью он вызвал меня и передал толстую тетрадь с описанием своих путешествий. Последние годы он все время писал их, вспоминая старое.
«Возьмите это сочинение, – сказал мне старик, – жена моя по-русски неграмотна и у нее тетрадь пропадет. А вы, может быть, найдете в ней интересные вещи, поправите и напечатаете рассказы о том, как Фома Кукушкин в пустынях Азии искал и находил клады. Ведь я больше искрестил глубину Азии, чем генерал Пржевальский, хотя не побывал в Лхасе, столице Тибета, куда и Пржевальского не пустили. А разных кладов я вывез немало, как вы хорошо знаете».
Записки Кукушкина заинтересовали меня, я взял их у консула, просмотрел и нашел, что после литературной обработки они могут быть опубликованы. Они содержали много сведений о природе, людях и приключениях кладоискателя в разных частях обширной Внутренней Азии.
Возможно, что он кое-что присочинил, кое-что приукрасил, восстанавливая по памяти встречи и события за двадцать лет своих путешествий.
Я сообщил Бокову свое мнение о записках Кукушкина.
– Возьмите их с собой, – сказал он. – Вы опытный путешественник и умеете описывать свои наблюдения, как показывают ваши труды А я, кроме консульских донесений в министерство и протоколов по разбору торговых тяжб и мелких преступлений, ничего никогда не писал и писать не умею. Вы обработаете эти записки и какое-нибудь ученое общество напечатает их.
Таким образом записки Кукушкина попали в мои руки. Я начал обрабатывать их в свободное время. Но такого времени у меня было очень мало, и обработка затянулась на много лет. Наконец, она завершена, и я передаю это произведение молодым советским читателям в надежде, что оно заинтересует тех, кому нравятся описания путешествий и приключений в малоизвестных странах в глубине Азии.

ЗОЛОТО НА СТАРОМ РУДНИКЕ
Это было мое первое путешествие не по торговым делам и недалеко, верст 150 от Чугучака в Джаирские горы.
Я незадолго перед тем рассорился с московскими купцами, у которых служил приказчиком по торговым делам с Монголией. Они были недовольны тем, что я слишком мало продавал их красного товара и написали мне выговор с предупреждением. А я сгоряча отписал им, что их товар плоховат и дорог, что в Монголию стал поступать товар из Индии, цветистее и дешевле московского. Советовал улучшить качество и снизить цену, иначе конкуренции не выдержать и сбыт из года в год пойдет на убыль. Ну, толстосумы обиделись: привыкли сбывать монголам всю свою заваль. Прислали мне отставку и приказ сдать остаток товара и лавку приказчику, которого назначат вместо меня.
Ну вот, сижу я в своей лавке в ожидании приезда преемника, которому должен сдать дело. Все привел в ясность, подсчитал наличность, подвел баланс, и больше делать нечего. Сижу и думаю, как быть дальше, чем заняться? Самому начать торговлю в Монголии не под силу. Накопил я за семь лет торговой службы тысчонки две. Этого мало, чтобы снарядить караван хоть из пяти верблюдов. А взять в кредит московскую заваль – новый приказчик, пожалуй, откажет и будет обидно вдвойне. Лицо потеряешь, – как китайцы говорят. Самому наняться к нему в подручные и вести его караван – еще обиднее.
Сижу и ломаю голову. Другого дела не знаю, с молодых лет по торговому делу работал на Алтае в Усть-Каменогорске и в Чугучаке десять лет.
И вот пришел ко мне монгол Лобсын, который не раз водил наши московские караваны по Монголии и заслужил полное доверие. Он, так сказать, мой воспитанник. С юных лет он отцом был отдан в монгольский монастырь в ученики к ламам. Но так ему тибетское богословие опротивело, что он накануне посвящения в ламы сбежал из монастыря и в Чугучаке нищенствовал.
Я его приютил, взял подручным в лавку, приучил к работе; оказался понятливым и прилежным. Потом стал брать его рабочим при торговом караване. Он скоро запомнил все дороги и начал заменять проводника. Помирился с отцом, вернулся в свой улус, женился, но службу у меня при караване не оставил. Полюбилась ему кочевая жизнь: полгода дома, полгода в дороге.
Так вот, Лобсын, узнав, что я получил расчет и больше не буду снаряжать караваны, очень огорчился:
– Пришел конец моим странствиям! – говорит он со вздохом.
– Вот приедет новый приказчик, – говорю ему, – поступишь к нему, я тебя хорошо аттестую.
– Какой будет человек еще? С тобой у нас никогда ссоры не было. Всегда все в порядке, и я, что полагалось, получал без спора. А другой обсчитает и еще обругает или побьет.
Я его уговариваю, обнадеживаю.
– А сам ты что будешь делать? – спросил он. – Уедешь к себе на Алтай, что ли? И мне грустно будет. Сдружились мы с тобой, Фома, ты меня человеком сделал.
И предложил он мне работать сообща так: я должен достать товар, а он в улусе наймет верблюдов.
– Денег у меня мало! – говорю.
Он ушел огорченный. Дней пять спустя пришел опять и показывает мне старую китайскую книжку.
– Вот, – говорит, – здесь написано, где найти деньги, чтобы купить товар и снарядить караван.
Я повертел книжку.
– Ничего не понимаю, по-китайски читать не умею. Объясни толком.
Лобсын показал мне последнюю страницу. На ней что-то нарисовано и сбоку написано на тибетском языке. И написано, говорит, вот что:
«Горы Джаир, старый рудник, здесь закопано золото».
– Я знаю, что в горах Джаир были золотые рудники. Сам могу написать такое, – говорю ему.

– Нет, – отвечает, – тут и место указано точно. Вот, смотри. Нарисована китайская фанза [5] [5] Фанза – китайский однокомнатный домик с земляным полом, земляной или черепичной крышей, камышовой дверью и окном с бумагой или бычьим пузырем; жилище китайской бедноты.
[Закрыть]; от одной стены ее идет стрелка к надписи насчет золота, а от крыши в две стороны идут стрелки к горным вершинам. По этому рисунку можно найти фанзу, в которой золото спрятано.
– Откуда достал ты эту книжку?
– У отца взял. Вспомнил, что у него во время дунганского восстания спасался китайский чиновник, бежавший от дунган из Джаирских гор. Жил он у отца лет пять, все ждал, когда восстание кончится, да так и умер, не дождавшись. Он говорил, что на руднике у него осталось золото. Это его книжка. Я тогда учился у лам, и отец велел мне написать по-тибетски об этом золоте. «Покажи, научился ли тибетской грамоте?» Вот я и вспомнил об этой книжке и нашел ее. Не поможет ли она приятелю Фоме, думаю.
– И ты уверен, что там в горах у какой-то фанзы золото закопано?
– Наверно так. Для чего китаец берег эту книжку и отцу велел хранить ее? – «Пригодится тебе когда-нибудь, как настанет мирное время», – сказал он как-то.
– Золото, пожалуй, было закопано, но давно уже взято, дунгане искали, горнорабочие вернулись за ним. А фанза-то, наверно, сгорела или развалилась.
– Чего ты боишься? – рассердился Лобсын. – Судьба тебе клад посылает в самое нужное время, а ты сомневаешься. Поедем, поищем. Работа твоя кончена, делать тебе нечего. Я приведу коня, возьмем припасу на неделю. Я дорогу знаю, старый рудник недалеко от нашей джайляу (так летняя кочевка называется).
– Ну, ладно, убедил! – говорю ему. – Приедет новый приказчик, сдам ему лавку и товар, тогда буду свободен и поедем твое золото искать. Наведайся через две недели.
Недели не прошло, – прибыл новый приказчик и привез пять телег с московским товаром из Зайсана – города, откуда хозяева перевели его мне на смену. Ну и склоку он завернул мне. Весь товар, оставшийся у меня в лавке, он собственноручно перемерил, моим записям не поверил. Даже штуки с московским ярлыком, нетронутые, на выбор проверял. Аршин тридцать недостачи у меня обнаружил, и пришлось мне полностью заплатить за них. Квартиру, которую я занимал при лавке, велел освободить, хотя другая рядом, где жил подручный, которого я уже уволил, была свободна.
– Не полагается, чтобы при лавке жил посторонний человек, – объяснил он. – Или нанимайтесь ко мне в подручные сопровождать караван, или выселяйтесь.
Пришлось мне перебраться по знакомству в плохонькую фанзу во дворе одного китайского купца.
Едва мы покончили все дела по сдаче остатков, приехал Лобсын и насилу разыскал меня на новой квартире. Зашел ко мне в фанзу и говорит:
– Вот ты где приютился, Фома! Грязно, темно, очага нет, окна нет, кровать на кан поставил от тесноты. Видишь, так жить нельзя, нужно поехать и счастье свое искать. Запас готов ли?
Я за это время уже заготовил сухарей и баурсаков [6] [6] Баурсаки – шарики из теста, зажаренные в бараньем сале, – вкусное и удобное для перевозки в вьючной суме дорожное печенье, заменяющее хлеб.
[Закрыть]на 10 дней, кирпич чаю, топленого масла, сахару. Наскоро собрал одежду. Лобсын привел мне хорошего коня. Привязали за седлами весь припас. Я взял двустволку с патронами и револьвер на всякий случай. Котелок, чашки, конечно, и каелку, чтобы землю ковырять.

Выехали из города на восток по дороге в Дурбульджин степью по долине реки Эмель. Местность здесь такая: на севере слева по дороге темнеет хребет Тарбагатай, гребень у него ровный, склон на юг крутой, весь зеленый от кустов; снегов на вершинах нет. На юге подальше хребет Барлык ступенями поднимается, на них леса темнеют, а вдали на главной цепи Кертау белеют снега по морщинам. Долина Эмеля между тем и другим хребтом широкая, зеленеет еще, лето в начале, трава не выгорела. Впереди долину замыкают горы Уркашара, тоже зеленые, крутые. Простор, солнце печет, небо чистое, жаворонки взлетают, заливаются.
Ехали мы то шагом, то хлынью [7] [7] Хлынь – сибирское обозначение верховой езды небольшой рысцой.
[Закрыть] до заката. Ночевали на речке Марал-су; она из гор Уркашар бежит, в Эмель впадает. Вдоль нее лужайки, хорошая трава. Стреножили коней, отпустили на корм, собрали аргалу [8] [8] Аргал (монг.), кизяк (казах.) – помет рогатого скота и лошадей, употребляется в безлесных местах Монголии, Центральной Азии как топливо и в смеси с глиной как строительный материал.
[Закрыть], развели огонек, сварили чай, закусили. Стемнело. Мы коней привели, возле себя к колышкам привязали, травы на ночь нарвали им немного и легли спать. Я, конечно, городской житель, сильно устал, целый день в седле, ноги ломит, уснуть не могу. Лежу с открытыми глазами и любуюсь; небо чистое, звезды мерцают, друг с другом перемигиваются. И все это, как ученые люди полагают, солнца, подобные нашему, а вокруг них незаметные глазу планеты кружатся, и какие-то живые существа на них обитают. Но я издавна при виде звездного неба о великой загадке мироздания подумывал. И начинаешь соображать, где же тот рай, о котором попы рассказывают, где он приютился – на звезде или на планете? Звезды – это солнца, на них должно быть страшно жарко, там уж скорее мог бы быть ад для грешников, где их поджаривают. А рай, может быть, на какой-нибудь планете? Но все они страшно далеко. Ведь до нашего солнца считают сотни миллионов верст. Сколько же времени души умерших должны лететь до рая или ада – целые столетия? И начинаешь сомневаться в достоверности библейского сказания о сотворении мира, о всемогущем и вездесущем творце. И вспомнил я своего отца, который был неверующим, и попа, который изредка приезжал в нашу глухую деревню из далекой станицы для похорон, крестин и бракосочетаний, но к нам не заходил и называл отца безбожником. Отец говорил, что, если бы на небе был всеведущий и вездесущий творец, он не потерпел бы, чтобы на сотворенной им грешной земле происходило столько преступлений и господствовало неравенство людей.
Наша Русь, рассуждал отец, все еще стоит на трех китах – самодержавии, православии и народности. Мы, декабристы, задумали было низвергнуть самодержавие, но это не удалось нам, потому что было преждевременно. Православие само захиреет и упразднится, когда народ сделается образованным, а народность останется как единственный наш кит, когда народ проснется и сделается хозяином своего государства и своей судьбы, самодержавным и всемогущим. Я, конечно, не доживу до этого времени, размышлял он, а ты, может быть, доживешь.
Долго лежал я, размышляя об этих трех китах. Слышал, как кони траву жуют, как на недалекой китайской заимке собаки лают, а еще дальше в степи волки воют. Подумал даже, не подберутся ли они к нам. Но собака Лобсына лежала спокойно возле нас. Наконец, сон пришел.
Проснулись, конечно, на заре, потому что под халатами продрогли. Вскочили, развели огонь, коней отпустили на росистую траву. Сидим у огня в ожидании чая, греемся.
И вздумалось мне спросить Лобсына.
– Что тебе говорили ламы в монастыре о душе человека и будущей жизни?
– По нашей вере, – ответил он, – душа человека после его смерти переселяется в другое существо – в новорожденного младенца, если покойник был хороший, или в животное – быка, барана, собаку, змею, червяка, если он был плохой. И сам Будда, творец мира, перевоплощается во многих людей одновременно. Ты ведь знаешь, Фома, что почти в каждом монастыре есть гэген [9] [9] Гэгэн – по верованию буддистов и ламаистов Будда и другие святые перевоплощаются после своей смерти; такие перевоплощенцы называются хубилганами, а за гражданские заслуги называются – гэгэнами, что означает «светлый, блестящий и святой».
[Закрыть], почитаемый как новое воплощение Будды, как духовный глава монастыря. А хамбо-лама в Лхасе – самый главный из этих воплощенцев. И когда какой-нибудь гэген умирает, ламы [10] [10] Лама – служитель ламаистской религии; имелись различные ступени – от послушников – детей (с 7-летнего возраста) до высшего ламы – далай-ламы.
[Закрыть] его монастыря по тибетским книгам и разным приметам узнают, в какого младенца душа гэгена переселилась, отыскивают его и привозят в монастырь.
– Знаю я это! Привозят младенца, а пока он вырастет, старшие ламы сами управляют монастырем, как вздумается. И после взрослый гэген у них больше как кукла, для показа народу, а управляют ламы.
– Правду говоришь! Вот потому я и убежал из монастыря. Видел, как старшие ламы обижают учеников, заставляют работать на себя, а гэген ни во что не входит, ест, спит, молится и народ благословляет.

Позавтракали, оседлали коней и поехали дальше голой степью на юг, повернули между горами Уркашара и окончанием Барлыка хребта. По этому проходу невысокие горки разбросаны, Джельды-кара называются, это значит «черные, ветреные».
– Почему их так окрестили? – спрашиваю.
– Потому что зимой здесь по временам страшный ветер дует, Ибэ-ветер, холодный. От него весь снег на этих горках тает, и стоят они голые, черные. А рядом на Уркашаре и Барлыке снег лежит себе, белеет. Про Ибэ-ветер ты; наверно, слышал.
– Слышал рассказы. Говорят, что он дует не только здесь, но еще сильнее за горами Барлык, в проходе, где озера Ала-куль и Эби-нур лежат. Там, говорят, ни киргизы, ни калмыки не живут потому, что летом очень жарко, травы плохие, корма мало, а зимой Ибэ часто дует, такой сильный, что устоять нельзя, завьюченных верблюдов уносит словно сухие кусты перекати-поле, а люди замерзают.
– И еще говорят, – сказал Лобсын, – что на озере Ала-куль есть остров с каменной горой, а в горе большая пещера. Из этой пещеры Ибэ-ветер с страшной силой вылетает. Однажды киргизы целым аулом собрались в тихий день, вход в эту пещеру заложили бычачьими шкурами и завалили камнями, чтобы Ибэ больше не вылетал оттуда. Очень надоел им этот Ибэ. Но пришло время и Ибэ рассвирепел, вырвался, камни отбросил, шкуры разметал и дует попрежнему.
– Ну, это уже басни! – говорю ему. – Мне консул как-то рассказал, что лет сорок назад какой-то ученый из России приехал, чтобы осмотреть эту пещеру на острове, про которую такие слухи ходят. И никакой пещеры в горе не оказалось, гора каменная сплошная. А Ибэ вовсе не с острова начинается, а дует по всей широкой долине от озера Эби-нура. Это холодный воздух из Джунгарской пустыни по долине между горами Майли и Барлык с одной стороны и Ала-тау с другой на север стекает в виде Ибэ.
– Здешний ветер называют Кулусутайский Ибэ, – пояснил Лобсын. – Из-за него в горах Джельды кочевники также не живут. Только у самого подножия Уркашара прячутся китайские заимки. Там и идет зимняя дорога из Чугучака, чтобы путник, застигнутый Ибэ, мог укрыться от него. Только непонятно мне, почему люди от Ибэ замерзают, а снег тает.
– Потому что ветер хотя не морозный, но холодный и при своей силе пронизывает человека до костей; человек не замерзает, а коченеет, – пояснил я в свою очередь Лобсыну.
Часа два мы ехали по этому проходу черных ветреных горок, а затем выбрались в широкую долину, где трава стала выше и гуще.
– Это место называют Долон-турген, – сказал Лоб сын.
– Здесь зимние пастбища хорошие. Как только кончится Ибэ и сгонит снег со степи, – сюда со всех окрестных улусов пригоняют скот кормиться.
– А я думал, что Ибэ дует всю зиму.
– Нет, он дует в холодные месяцы день, два, три, редко неделю, а потом несколько дней погода тихая.
Впереди уже выступал хребет Джаир в виде длинной почти ровной стены, далеко протянувшейся с востока на запад. Справа от нашей дороги вскоре показался длинный красный яр; вдоль его подножия серебрилась речка.
– Это Май-кабак, – пояснил Лобсын.
«Сальный откос», мысленно перевел я и спросил, почему его назвали так.
– Не так давно здесь погибло целое стадо баранов. Они паслись в степи над этим яром. Налетел сильный буран, стадо бросилось по ветру вниз по откосу, завязло в глубоком снегу и замерзло. Весной снег стаял, солнце пригрело трупы, из курдюков стало вытапливаться сало и пропитало всю землю. С тех пор и зовут это злополучное место Май-кабак.
– Что же, многие калмыки потеряли всех своих баранов и обнищали? – спросил я.
– Нет, стадо принадлежало богатому баю. Разве у рядового кочевника может быть столько баранов! А бай заставил своих пастухов, когда снег стаял на откосе, снять с дохлых баранов шкуры с шерстью и подобрать протухшее мясо, чтобы кормить своих собак.
По мере того как мы приближались к Джаиру по степи Долон-турген, его ровная стена начала распадаться на отроги, разделенные глубокими долинами. Мы спустились в одну из них. По дну струился чистый ручей; вдоль него росли кусты тала, черемухи, боярки, кое-где тополя. Одна лужайка манила к себе для отдыха. Развели огонек, повесили чайник; коней, немного выдержав, пустили пастись, а сами прилегли в тени переждать жаркие часы.
Потом поехали дальше вверх по этой долине. Местами она представляла ущелье между красно-лиловыми скалами. Одна скала походила на огромную голову с пустыми глазницами, из которых вылетела пара диких голубей. Дальше на склонах появился молодой лес, подъем стал круче, и долина превратилась в широкий плоский луг с хорошей травой и журчащим ручейком. Пологие склоны представляли хорошие пастбища. Это были джайляу – летовки.
Впереди несколько киргизов развьючивали верблюда. Женщины в белых колпаках ставили решетчатые основы кибитки (юрты). По склону уже рассыпалось стадо овец, несколько коров и лошадей. Кричали и бегали дети, лаяли собаки.
Когда мы подъехали к киргизам, прибывшим на летовку, пришлось начать обычный разговор, обмен новостями, спросить о здоровье скота, сообщить, откуда и куда едем. Я, конечно, не сказал, что мы едем искать золото, а сказал, что едем на охоту за архарами в горы Кату.
Из верховьев этой долины мы выехали на поверхность Джаира. Я был удивлен, что этот хребет имел совершенно ровный, широкий гребень, сплошь покрытый мелкой, но довольно густой травой. Нигде не видно было скал, и по этому гребню можно было ехать не только верхом, но даже в телеге в любом направлении. Лобсын повернул на восток, и мы ехали около часа по гребню, местами представлявшему плоские холмы и ложбины. Потом гребень свернул на юг, и мы спустились в плоскую широкую долину, подобную той, на которой застали прибывших на летовку, но только расположенную на южном склоне Джаира.
В этой долине стояли три юрты, и Лобсын направился к ним.
– Вот и мои перекочевали на джайляу, – сказал он. – Мы у них переночуем, а завтра поедем на ближний рудник. Но, Фома, не говори, зачем поехали!
– Само собой, болтать нечего! – согласился я.
Одна из юрт принадлежала семье Лобсына, другая – его родителям. Нас встретили приветливо, окружили, засыпали вопросами.







