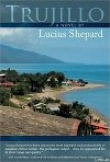Текст книги "Поединок с гестапо"
Автор книги: Владилен Травинский
Соавторы: Мария Фортус
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Глава четвертая
«ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ…»
Он у нас заговорит!
Грузовик с грохотом ворвался во двор тюремного госпиталя Сент-Катерин. Из сопровождавших машин высыпали эсэсовцы. Автоматы к животу, короткая команда. Несколько десятков здоровых, вооруженных мужчин напряженно следят, как из кузова грузовика переваливают через борт многократно раненное тело Порика. Он настораживает их и таком – этот живучий, удивительно живучий человек, два года водивший их за нос и едва схваченный четырьмястами солдатами.
А он еще жив, он пытается опять что-то кричать, пытается оторвать чужие руки, несущие его через двор, но сил уже нет, откидывается назад голова.
Так, в беспамятстве, его вносят в госпиталь. Водворяют на рентгеностол. Гаснет свет, врач склоняется над экраном рентгепоскопа, а четверо эсэсовцев кладут в темноте руки на молчаливое тело – тут ли он?
Врач оттирает ваткой тонкие зябкие пальцы. Да, четыре пули: левая нога, левая рука, оба плеча. Будет ли жить? Врач пожимает плечами. Очень крепкий организм, сердце и легкие не задеты, но – четыре пули…
А он опять на миг приходит в себя. Он, рыча, сдирает с левой руки повязку, рывком спрыгивает со стола на пол, касается раненой ногой пола и вновь падает без памяти.
Побледневший врач снова пожимает плечами… Вы же видите – весьма сильное тело. Может, и выживет.
Под него подтаскивают носилки. Санитары и гурьба эсэсовцев медленно тянутся по коридору. Начальник гестапо Арраса, высокий энергичный фашист с властным холеным лицом, указывает дорогу. Нет, не на первый этаж, выше, на самый верх, к крыше, чтоб никаких путей к побегу!
И в камере-палате гестаповец лично наблюдает, как укладывают Василия на специальную койку, как к ней приковывают руки, бессильные, окровавленные руки, приковывают толстой звонкой цепочкой с черным блестящим замком.
Раненый в беспамятстве, он сипло, громко дышит, по избитому, забрызганному кровью лицу быстро-быстро скатываются к подбородку капли пота.
«Молчит, – гестаповец засовывает пистолет в кобуру. – Ничего, он у нас заговорит!»
Гремят двери, гурьба эсэсовцев шумно удаляется по коридору. Они идут в буфет, они проголодались, они спешат подкрепиться – их ждет новая работа.
От грохота двери Порик приходит в себя. Воспаленными глазами обводит потолок, стены, взгляд опускается на спинку кровати, на цепочку, тянущуюся от спинки, прослеживает ее – и упирается в руки, лежащие под черным блестящим замком. Откуда-то издалека наплывает какая-то странная мысль, мучительная, навязчивая, непонятная мысль. И вдруг он ощущает ее: это его руки, они лежат у него на животе, это он прикован к кровати. И мгновенно – Дрокур, пронзительно кричит Колесников, бег по двору, крыша, пулеметная очередь, и мостовая, стремительно приближающаяся к нему, падающему с крыши.
Он – у гестаповцев. Сейчас будет допрос.
Василий закрывает глаза. Болит все тело, остро, жгуче, беспрерывными рвущими вспышками. Конвульсивно дергается голова, – он тянет на себя цепь, и от боли в левой руке падает опять в обморок.
Но его приводят в себя. Они вернулись из буфета, они подкрепились перед работой, и высокий немец («начальник гестапо Арраса», – проносился в голове) о чем-то спрашивает громким требовательным голосом. «Ты – коммунист, специально присланный для коммунистической работы?» – наконец слышит Василий.
Очень не вовремя, но он слегка улыбается. Вот как – меня прислали специально? Они уверены, что имеют дело с профессиональным разведчиком, они не допускают мысли, что их переиграл он, Вася Порик, парень из Соломирки. Что ж, пусть боятся нашей разведки.
– Да, я коммунист, специально присланный для коммунистической работы, – громко, как ему кажется, отвечает Вася.
Гестаповцы переглядываются. Так и есть, этот неуловимый Порик – разведчик. Он заслан из Москвы, из спецшколы МГБ, понятно.
– Террорист, – не то спрашивает, не то утверждает высокий немец.
– Нет, террором не занимаюсь. Я – советский патриот!
Высокий делает движение рукой. Два солдата отделяются от стены. «Пятьдесят», – говорит высокий.
И его бьют, пятьдесят раз бьют шомполами, бьют по ранам, прямо по ранам, бьют по всему телу, с оттяжкой, размеренно, аккуратно считая вслух.
А он кричит. Он ругается на русском, немецком и французском, он проклинает их и смолкает внезапно.
Но его опять приводят в себя. «Поговорим, патриот», – улыбается высокий. Василий медленно двигает головой. «Нет, – говорит он, – нет, не поговорим, нет, не поговорим, нет, не поговорим», – натягивает цепь, упирается ногами в спинку кровати и полувскакивает, сейчас же сдернутый назад цепью.
Высокий делает движение рукой. «Еще десять».
А потом – еще десять, и еще, и еще, и уж счет потерян, и тело не чувствует ударов, они уже не могут прорваться через всеобщую огромную, всепоглощающую боль. Он уже не открывает глаза, он только дергает головой и шепчет распухшими, потрескавшимися губами: «Нет, не поговорим…»
Офицеры в черных мундирах вдумчиво рассматривают голое исполосованное тело. Они знают пределы человеческой выносливости не хуже, чем знал Лайола. Тело-ключ к мозгу. Рвать тело, жечь его, вгонять в него иглы, резать его мышцы, чтобы болевые центры мозга отключили бы все остальные, чтобы ни мысли, ни принципов не осталось ни в единой клетке мозга, чтобы вопль болевых центров наполнил бы их все, наполнил бы незадавимым телесным «Бо-оо-льно!!!»
И в этом вопле растворяются принципы и убеждения, мировоззрение и мораль, растворяется воля, – и ни о чем, кроме как об избавлении от боли, не думая, тело спасает себя предательством.
Но вот это тело били железными палками по открытым ранам, по живому больному мясу, а оно сопротивляется. Воля не отступает, воля жива, принципы и убеждения продолжают властвовать над плотью, не подчиняясь ей. Как выносливы эти русские! Какой стойкий враг!
О, они еще не знают, эти специалисты-изуверы, с кем они имеют дело. Воля Василия Порика еще не раз поразит их. Они и подумать не могут, что ночью у него хватит сил сломать замок у цепи. Да, ранеными руками он будет гнуть и мять стальной замок, зубами помогая, полночи в абсолютной тьме растягивать, ломать сталь, и, наконец, раздавит замок о железные ножки кровати. Он снимет цепь, встанет в темноте с койки, он сумеет дойти до окна, дотянуться до него, вцепиться в решетку и трясти, трясти, всем телом наваливаясь, рвать железные прутья из кирпичных пазов, пока не подогнутся ноги и он не упадет у стены на пол.
Так его и найдут утром гестаповцы: раскованного, у почти выломанной решетки, без памяти. И они станут пороть его шомполами опять, долго, несколько человек зараз. И только к вечеру высокий аррасский гауптштурмфюрер пнет ногой неподвижное тело Василия Порика и прикажет: «Он еще жив. Тут его не оставлять. В крепость Сен-Никез, в камеру № 1».
Гвоздь
Два метра длины, полтора ширины. Под потолком – узкое отверстие, затянутое частой решеткой. Параша в углу. В противоположном – топчан, на топчане – солома.
Он лежит на соломе седьмые сутки. Первые три дня давали миску вареной моркови, но вот уже четвертый день ничего не дают. В камере почти темно, только стена с окном чуть посветлее других.
Он лежит в крепости Сен-Никез. Отсюда не убегают: два ряда стен высотой в шесть метров, вдоль них – патрули с собаками. Второй этаж…
Он лежит – сидеть он уже не может. Его не перевязывали, его не лечили никак и ничем. Дважды его пытались допрашивать, но он почти сейчас же теряет сознание.
Бред его радостен. Он бредит Соломиркой, он сажает березы, поит лошадей, ныряет в пруд с берега… Он жив в бреду, наяву он уже почти мертв. Одесский парад, море внезапным синим горизонтом, море и солнце… Спортзал училища, и он, сильный, ловкий Вася-Вася-Василек, взлетает на турнике под самую крышу… Худой юркий физрук впервые улыбается: «У вас наладится, Порик, у вас хорошие данные». И надевает значок ГТО прямо на левое плечо, большущий, тяжеленнейший значок ГТО. Как он давит грудь, этот значок! Прожигает гимнастерку, жжет кожу, все прожигает, давит, душит… скорее сорвать, а он, как прирос, не снимается…
…Полумрак. Вася слышит свое дыхание. Что-то теплое течет по груди. Это не значок, откуда взяться значку, это болит рана, он сам в обмороке разбередил ее.
За стеной опять крик – каждую ночь за стеной кричат. Там камера пыток?
На второй день, когда он еще мог передвигаться, Порик выглянул как-то в окно. Через двор брела кучка заключенных, их подгоняли автоматчики. Вскоре из-за стен докатились автоматные очереди.
Вот лежишь ты, Василий Порик, в темном, набитом измученными людьми здании, вокруг тебя бьют, пытают и расстреливают людей, работает, работает машина смерти, вши ползают по твоим ранам – раздолье здесь вшам! – и не вырваться тебе, Вася, не вырваться!
Неужели конец? Неужели они возьмут верх? А что можно сделать?
Опять наползает забытье, и он вдруг поет Интернационал, он громко говорит с матерью, он кричит: «Смерть немецким оккупантам!» И часовой у двери с суеверным ужасом оглядывается на этот хриплый клокочущий голос и покачивает головой: «Ох, русские, ох, русские!»
Скрип двери. Долговязый гауптштурмфюрер склоняется над топчаном. «Плох», – по-французски отвечает на немецкий вопрос чей-то голос. И ломаная французская фраза немца: «Через двое суток, если не придет в себя, расстрелять».
Расстрелять…
Двое суток, сорок восемь часов осталось тебе, Вася! Двое суток. Ребята, франтирёры мои, через 48 часов вашего командира убьют!
Так вот и убьют? Поставят к стене и – убьют? И он побредет через двор, как те, недавние? Или его понесут? И он покорно двинется к смерти? Как овечка? Как агнец божий? Как сломленный раб?
Но что делать? Хоть бы оружие, хоть какое-нибудь оружие, пусть палку, камень, он бы ударил, пусть бы только ударил, но не овечкой плестись на расстрел!..
А за стенами Сен-Никеза через агентурную службу Сопротивления уже знают: через двое суток – расстрел Громового. За стенами Сен-Никеза от поселка к поселку, от городка к городку на велосипедах несутся связные. Там многоопытные подпольщики, сжав виски, лихорадочно перебирают все варианты. Нападение на Сен-Никез? Невозможно, невозможно! Охрана утроена, немцы начеку, пулеметы сухо осматривают с вышек окрестности. Не подойти, не подползти: пикеты, обходы, разъезды… И даже если проникнуть в камеру, Порик прикован и цепью и слабостью, он не уйдет, его придется нести на глазах у пулеметчиков…
Так, значит, погиб Базиль?
Пусть спорят психологи о пределах способностей человеческих. Пусть спорят философы о возможности или невозможности возникновения безвыходных ситуаций. Василий Порик, приговоренный через 48 часов к расстрелу, доказал, что воля человеческая неисчерпаема, что главное – не сдаваться, ни в коем случае не сдаваться, вопреки логике, здравому смыслу, вопреки себе самому, не сдаваться, и тогда стихия событий уступит, раздвинется перед напором воли, воля переорганизует, переиначит ее – и щелочка выхода распахнется!
Порик увидел гвоздь. Вернее, видна была только шляпка. Судя по ней, гвоздь должен был быть длинным и толстым. Зачем его вбили в стену, в старинную стену крепости? Когда его вбили, кто? Но его вбили, вот торчит его ржавая шляпка, это не бред, это в самом деле шляпка гвоздя, настоящего железного гвоздя! Смотрите, Василий закрывает глаза, открывает – шляпка на месте, опять зажмуривается – шляпка на месте, здесь на самом деле, взаправду есть гвоздь!
Порик откидывается на топчан. Голова свежа и чиста, удивительно чиста и свежа. Ясные, точные мысли, как в лучшие дни учебы. В камере есть гвоздь. Гвоздь есть оружие. Оружие есть надежда. Гвоздь – против тюрьмы Сен-Никез, пулеметов, ста автоматчиков, двух этажей, двух стен? Да, да, да! Теперь – не торопиться. Беречь силы.
Он долго лежит на спине, ровно и ритмично дыша. Он готовится встать, он собирает уцелевшие атомы своих сил. Встать – это первое.
Только без резкостей… Физрук хвалил его брюшной пресс, ну-ка, брюшной пресс, ну-ка, ты нынче главный работник, подыми мой торс, брюшной пресс, усади меня, я не могу помочь, у меня руки закованы.
Так… Теперь поворот на месте и опустить ноги на пол. Опираться надо на правую, но и левой не избежать… Раз! Он стоит, качаясь, ничего не видя от боли, но стоит – и делает первый шаг. К счастью, их нужно немного.
Да, тут шляпка большого, великолепного, могучего гвоздя. Он гладит ее пальцами, звякают наручники. Он обшаривает камень вокруг гвоздя и внимательно смотрит на ногти. У него только ногти – единственный инструмент.
Шаги часового останавливаются у двери. Шаг, шаг, шаг! Приговоренный к расстрелу франтирёр лежит без движения. Не поет, не кричит. Кончается. Не доживет до расстрела. Дверь затворяется.
И опять – шаг, шаг, шаг. Порик снова встает. Вот он, гвоздь, он уже чуть-чуть приоткрылся, шляпка уже не прижата к камню, шляпка сидит на крепкой железной шее, ее можно пощупать, можно лизнуть – железное тельце оружия.
День угасает. Откуда берутся силы?
Где-то около одиннадцати ночи он последний раз потянул гвоздь зубами – и тело, как гибкий умный рычаг, спружинило, напряглось, – и пошел, пошел гвоздь, с тихим шорохом вылез из каменного гнезда, длинный, холодный, прямой.
В нем было сантиметров девять, старый, солидный гвоздь, слегка проржавленный, – на такие вешают тяжелые полки, колуны, большие картины. Гвоздь – домашняя вещь, уютная, удобная. Сегодня он заменит трехлинейку, карабин, парабеллум, гранату, сегодня гвоздь станет шпагой, мечом, кинжалом, орудием спасения.
Порик отдыхал около часа. Покричал часового. Попросил пить. Тот включил из коридора свет, принес жестянку с водой. Порик, держа жестянку обеими скованными руками, короткими глотками тянул воду. Рассматривал. Высок, значит, надо, чтобы нагнулся. Автомат через грудь – скинуть сразу нельзя. Кинжал у пояса – это удачно. Пистолета нет, часовым не положено.
Пора. План ясен. В соседней камере весь день тихо, она пуста. Надо, чтобы этот здоровенный нагнулся. Надо! Что ж, нагнется. Больно, конечно, хотя и не очень: болевые центры погашены волей. Василий, кривясь, сдирает тряпку с развороченного пулей плеча. Нагнется, – как не посмотреть на такую рану.
Пора. Помогая зубами, Порик отжимает гвоздем защелки наручников. Сгибает и разгибает правую руку. Он спокоен, он совершенно спокоен.
Часовой мнется у двери. Русский смертник зовет опять, неугомонный дьявол. Воды, воды, – скоро тебе не надо будет воды. Конец смены далек, сколько еще раз он станет кричать, русский бандит!
Вот он – часовой. Вот его недовольное лицо. Ну, в чем дело? Какая рана? Я не доктор! Плечо? Немец чуть отшатывается: ему не часто приходилось видеть подобное. Он нагибается совсем немного, слегка лишь склоняет голову, – и правая рука Порика бьет гвоздем в белый, беззащитный, открытый висок часового.
Удар верный!..
Часовой падает прямо вперед – и рука Василия зажимает его мычащий рот. Другая рука выдергивает кинжал из чехла. Тело – на топчан… Прикрыть одеялом… Ключи от камер… В коридоре пусто. Будто делая что-то привычное, интуицией понимая, какой ключ – к чему, Порик запирает свою камеру. Замирает на мгновение перед соседней дверью, она почему-то даже не заперта. И вдруг слышит снизу маршевую немецкую песню. Какое счастье – у них, кажется, пьянка! Он проскальзывает в камеру, запирает ее изнутри и сейчас же спохватывается. Автомат! Он не снял с часового автомат! Поздно. Кинжал с ним. У него гвоздь, кинжал и не меньше получаса времени. Может быть, час. Гвоздь, кинжал, час.
Мертвые спасают живого
То, что он уже совершил, – выше нормальных человеческих сил. Четырежды раненный, много раз пытанный, измученный, голодный, безоружный… А он – на ногах, он ступает сильно и мягко, его мозг логичен и скор, мускулы ощущают беспрерывный приток энергии. Но то, что ему еще предстоит совершить, выходит за всякие пределы нормы.
Есть нечто в действиях героических необъяснимое обычным путем именно потому, что героические действия необычны. Это нечто – уникальное состояние духа героя, взлет слитых воедино и друг друга подстегивающих умственных, нравственных и физических сил к их самому высшему небу; если хотите – в их космос, а космос, как известно, бесконечен. На этом взлете арифметический отсчет человеческих способностей, выражаемых обычно в килограммометрах физического или умственного напряжения, исчезает, тут входит в силу иной счет, высшая математика душевных и телесных прозрений. И мы останавливаемся изумленные, мы с искренним недоумением разводим руками – как же может Василий Порик совершать действия, непосильные даже для очень здорового, очень сильного человека!
…Решетку он вынул быстро. Там, где остались пазы от нее, камень крошился легче. Дальше пошел «основняк», спрессованная за долгие годы глыба. Он вгрызался в нее кинжалом, он бил концом сверху, потом подпиливая выщерблины с боков, сдувал, сгребал пыль, мелкие камешки, и они падали под ноги, больно прокатываясь под стопой. Василию казалось, что камень просто упрямится, камень дурит – ну что ему, жалко, что ли, ну какое ему дело! Он разговаривал шепотом со стеной, как с животным, то ласково, то зло: «Ну, скорей, не задерживай, не дури, ломайся же, сволочь, ломайся!» А камень равнодушно молчал, медленно, лениво обсыпаясь на ноги под неумелым нажимом кинжала, приспособленного для резания людей, но не крепостей.
Дважды какие-то пьяные охранники протопывали к его недавней камере, хохоча, кричали через дверь непристойности, описывали, к какому рву они скоро поставят русского бандита и как его там будут жрать черви. Василий замирал, – без испуга, страха не было, нисколечко не было страха, а просто следовало не шуметь. «Где это Вилли запропастился?» – спросил кто-то. «Надрался, наверное, с ребятами и пишет письмо своей девке в Бреслау, что ты, его не знаешь!» – ответили ему.
«Какое счастье, что у них пьянка! Ко рву вы меня не поставите, ко рву не поставите, несите ко рву вашего Вилли, – он больше ничего не напишет своей девке в Бреслау. Еще сантиметра два, хотя бы еще два сантиметра… Кинжал затупился, эрзац-сталь, немецкая дрянь, режь, собака, я не встану у рва, режь, еще бы немножко шире!»
Расползалась, расползалась дыра, разъезжались углы и простенки, неровный четырехугольник, вырезанный ножом в камне, в ширину уже почти равнялся плечам.
Решетка была ржавая, прут выдернулся и согнулся легко. А выдержит он? Э, да что там, другого нет. На топчане одеяло, в дело одеяло. Брюки, куртка, рубашка, кальсоны… Ну, кинжал, напоследок!
В темноте он резал на длинные полосы все матерчатое, что нашлось. Резал и связывал, связывал и сплетал. Одеяло – старье, гниль, кальсоны тонки, черт! В два раза все равно не хватит. Хоть бы кусок веревки!
Была середина ночи, густая предрассветная темь. Он закрепил свой ржавый крюк из решетчатого прута в ямку, выдолбленную в подоконнике, намотал на правую руку «канат». Коротко вздохнул. И втиснул плечи в отверстие.
Когда в обыденный мир врывается необычность, в мире начинаются странные ошибки, неожиданные срывы. Предосторожности, выработанные в расчете на средний уровень, оказываются никчемными, препятствия – бессильными, охрана – парализованной. Поэтому отчаянным предприятиям часто сопутствует поразительная удача, – просто потому, что те или иные «предохранители» не рассчитаны на «отчаянный режим» и просто-таки не успевают сработать. Вот он болтается в воздухе на фоне тюремной стены, Вася Порик, скрипя зубами от боли, перебирает руками по «канату» – где же ты, охрана? Где прожектора, где собаки, где постовые? Сто охранников, вы не видите? Он спустился на землю, вот он стоит, полуголый, открытый, хватайте его, ему некуда скрыться! Он даже не слишком торопится, он дергает за «веревку», он хочет сорвать свой крюк с подоконника и никак не сорвет! Несколько долгих-долгих бесконечно страшных секунд он теребит «канат», крюк отцепляется, крюк падает и ударяется о землю, громко ударяется о землю, – неужели вы ничего не слышите? Он перебегает ваш двор, так вот, в открытую берет и перебегает ваш укрепленный и неусыпный двор, он подбегает к стене, останавливается, широко размахнувшись, кидает на вершину стены свой крюк, а крюк падает обратно, второй раз падает обратно, в третий раз ни за что так и не зацепляется наверху… Учтите, идут ваши последние минуты, это очень упорный человек, Василий Васильевич Порик, он опять бросит свой крюк, он все-таки зацепит свой крюк за верх, он лезет по «канату» на стену, – ну, где же вы, великие специалисты Гиммлера, чему вас учили в подберлинских школах, он же уйдет, Порик, уйдет с четырьмя ранами в теле, взберется ранеными руками и ногами на стену, – где же вы, гестаповцы, где ваши ищейки?
Вот они. Вася пластом лежит на гребне стены и смотрит вниз на свою приближающуюся смерть. По внутреннему проходу между стенами идет патруль – два эсэсовца и собака. Они подходят, они весело болтают о пустяках, они прямо под Пориком, он заглядывает сверху в чуть блеснувшие от фонаря черные промоинки дул, и они проходят, неспешным шагом проходят под ним, даже не взглянув вверх, не увидев, не услышав, не почувствовав Васю над своей головой! Они заворачивают, у них за спиной Вася сползает по «канату», опять сдергивает крюк и опять кидает его наверх – на вторую стену. Он ползет теперь долго, он по сантиметру продвигается выше, пальцы его не слушаются, они отказываются сжиматься, они работали сегодня за двадцать, за пятьдесят, за сто пальцев! И Порик, упираясь ногами в стену, немножко отдыхает и карабкается вверх в обхват, обнимая «веревку».
И на последнем спуске, уже с той, с нетюремной стороны, в последнюю минуту побега не выдерживает окончательно гнилое одеяло в «канате», пальцы ли, – и Василий летит вниз, в черноту, падает и теряет сознание.
Сколько он пролежал там? Уже светает. Нечто холодное между пальцами. Порик поворачивает голову. Его рука конвульсивно сжимает черные окровавленные волосы трупа. Он упал в ров для расстрелянных. Тела убитых приняли на себя живого, – и спасли его, спружинили, иначе он бы разбился, падая со стены. И привели его в себя – известью, негашеной известью присыпанные сверху; она, обжигая голую кожу, вывела Васю из обморока. Последним посмертным вкладом товарищи по оружию послужили ему.
К этому рву его и хотели поставить. И он здесь, он во рву, он лежит среди мертвых, но – живой, все-таки живой, он ушел, он победил, спасся. Нет, еще не спасся, светает, он еще у самой стены, в двух метрах от Сен-Никеза, в восемнадцати километрах от Энен-Льетара, ему идти восемнадцать километров, почти нагишом, восемнадцать населенных, застроенных, охраняемых километров! И – погоня, вот-вот начнется погоня!
Порик встает. Поскользнувшись на чьей-то ноге, выходит из ямы. Что-то шепча, судорожно полукивает-полукланяется рву с расстрелянными.