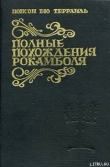Текст книги "Крылатый Острог"
Автор книги: Влада Ладная
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Влада Ладная
КРЫЛАТЫЙ ОСТРОГ
Антиутопия
Он был дельфином, вредным, святым, саксофонистом. Потомок Чингисхана и бога Ярилы. Корабел, чернокнижник, гейзеропоклонник.
У него был перебитый боксёрский нос, походка балетного танцора, руки мясника и вокруг рыжих, безумно-наглых жреческих зрачков – сладчайшая радужка глаз одалиски – жемчужины гарема.
Помимо всего этого он был ещё и сволочью.
Я была его третьей женой. Я – Джейн Сеймур и старая карга. Вас это не касается, но мы даже были счастливы. Целых два дня. Потом прошло.
Сообщаю подробности. Проживаю в городе Крылатый Острог. Несколько после смерти. То есть померла как-то раз, да так и оставила.
Ах да, город.
Поначалу: воздушная Венеция, лабиринт ветра. Дощатые песочницы и вороньи гнёзда – в родстве и соседстве. Не трамваи – лифты. Не переулки – этажи. Горные реки стрекочут по подоконникам, козьи тропы – на карнизах, клумбы – на сваях, как эскимо на палочках. Танцплощадки в гондолах под воздушными шарами. Мёртвых хоронят прямо в облака, прямо в святые.
Над городом парят бродячие собаки, порхает у самых губ перелётный мусор, на зиму его в жаркие страны несёт, окольцованного.
Лестницы брошены в провал, как лассо. И мосты – бамбуковые, бронзовые, дождевые – вонзаются в спины зданий, как предательский нож.
Весь город – сплошные корабельные снасти. Наш дом – на самом верху, как корзина вперёдсмотрящего на каравелле Колумба.
Город – Околонебо. Город – призрак будущего. Стреноженный скиталец. Город – предвестье. Летучий Голландец поднебесья, пророчествующий гибель всем, кто не достиг его высот, но одинокий, как перст Божий.
* * *
– Ты хочешь мне рассказать что-нибудь, ты, которая моё «ты»?
– Да, очень хочу, но не знаю что.
– Миленькая, может тебе запить? Или повеситься? Что ж так мучиться?
– Да кто сказал. Я просто поболтать хотела. Ведь: необитаемый остров, а не мир вокруг. А может, я сама необитаема. Безлюдна. Степь да степь.
– Лапочка, полоумная, что ж ты бесишься? Что тебе с собой делить, что ты на себя взъелась? Виноват всегда крайний, стрелочник, а ты при чём?
– Стоп. А может, я псих? Вот так да: одним своим «я» я давно сдохла. Другое – сошло с ума.
* * *
Я голоса слышу. Они визжат, блефуют, притворяются, будто знают всё.
Трепло они все, эти голоса потусторонние.
Изо всех них только эта стерва. Она в мои дела не суётся, не пичкает дурацкими пророчествами, не виляет, не бражничает.
Мы с ней, со стервой, живём душа в душу. Она насаждает сад моего отчаянья.
Стерва-богаделочка. Жалеет меня. Нянчит.
– За что?
Отчаянье – не повод для жалости и не призыв к ней. Отчаянье – форма существования, как и счастье. Конечно, я мёртвая и ненавижу. Но с кем не случалось.
Впрочем, мои отношения со стервой слишком интимны. Довольно о ней.
* * *
Меня зовут Гадёныш. – Кто я? – Дом. Где-то ведь был у меня. Кто-то меня родил, хотел как лучше. – Не помню ничего.
Пристаю к стерве внутри меня: как хоть выглядела?
И она рассказывает сказку про меня:
– Были алые волосы, пышные, как цветок клевера, глаза Кончаковны, но того оттенка, что имеют цветные сны. Высокая, лживая, с лихорадкой на губе, а губы – цвета волчьей ягоды. Между пальцами – чешуйчатые перепонки. То ли ископаемое пресмыкающееся, то ли русалка в проказе. – Гадёныш.
* * *
Но я – пусть себе. Скучно.
А вот я прошу:
– Стерва, стерва, расскажи мне сказку про него.
И тут начинается.
То его зачали ведьма и доблестный разведчик, выполнявший ответственное задание в потустороннем мире. То это плод неравной любви инфанты и экскаваторщика. То алкогольное зачатие уборщицы общественных туалетов и профессора, доктора философских наук.
* * *
Он умел понимать язык птиц и зверей, язык камней. Он умел и развязывать им языки.
Он торговал рабами и дельтапланами и путешествовал за золотом в страну Пунт.
Работал на барахолке крупье, вышибалой в баре, банщиком в холодильнике, шпагоглотателем, расклейщиком афиш, оплёванным пророком.
Он грабил могилы фараонов и насиловал инопланетянок. Он брал Бастилию и основывал монастыри.
Брачный аферист, беспутный расстрига, сочинитель детективных романов, крестоносец и оборотень, погрязший в поисках философского камня, он был человек-всё. Он – Золотая рожа, Единовзрыв, Ярило, мученик, мошенник и поэт.
Но ведь должно же, должно быть в нём то самое главное, что делало его совершенно невыносимым.
Быть может, это – Крылатый Острог?
* * *
Мильтоны с крыльями бабочек. Стеклотара в дирижаблях. Вулканы, сизые, как голуби. Трактористы и заклинатели змей. Золотоискатели и ссыльнопоселенцы. Паспортистки, канатные плясуны, флибустьеры, рикши, архиреи. Торговцы соболями и попугаями. Подъячие, китобои, райкомовские думные бояре, перебинтованные мехами, как революционный матрос – пулемётными лентами.
Смешалось: северное сияние и ловцы жемчуга, пагоды на вечной мерзлоте, рубленые избы, китайские фанзы, яранги. Фаэтоны и вездеходы. Джонки, частоколы, плетни, нефтеналивные танкеры. Рисовые циновки и оленьи шкуры.
И Тихий океан.
* * *
– Дальше. Давай дальше сказку. Мы встретились с ним. Расскажи.
– Молодой олень с волшебными глазами, с рогами крутыми, как горные вершины, с неприступными кручами рогов, покрытых вечными ледниками и посещаемых лишь изредка снежными барсами да горными орлами.
Он вышел мне навстречу из бора, где солнце похоже на красноногих цапель с зелёными перьями.
Я целовала его белый лоб и драгоценные копыта. А в чаще бились птичьи испуганные сердца и пробивались на солнечный свет, как узники, закопанные заживо клады.
* * *
Жили-были царь Ирод и вечная пионерка. Очаровашка-жулик и Христова невеста в стадии маразма. И они полюбили друг друга.
Как встречаются с мошенником? – В деле.
Он добывал мне эликсир вечной молодости и красоты, оказавшийся средством от тараканов. Он устраивал для меня конкурсы скоростного выворачивания карманов, где я неизменно ходила в чемпионах.
Это ему я носила взносы на переоборудование земного шара в рай земной и на организацию музея дураков, где я была центральным экспонатом.
* * *
– Стерва, миленькая, ведь должны быть смотрины. Съезжаются принцы со всего света, а я изо всех выберу Ярилу.
– Обязательно принцы.
Полосатый болтун из Союза писателей, народный печальник и старый сексуальный долдон. Он был весел, как холостой сперматозоид, и после провала секретарша со стерилизованными глазами-ампулами цвета новокаина увезла его в Париж, исследовать костромской период в жизни Некрасова.
Были ещё: заслуженный ретроград и ишак из полного собрания географически престарелых пердунов, с архитектурными излишествами вместо ушей.
Художник по унитазам, помесь скопца с фокстерьером.
Бродячий гипнотизёр, этот лечил меня экстрасенсорным методом от похабели с давлением, ободрал меня в преферанс и выкрал мой ученический гербарий.
Печник-авангардист. Ассириец, чистильщик сапог, владелец собственной будки с гуталином и шнурками. Псарь-антисемит, заработавший на «Волгу» торговлей собаками. Бывший афганец с бесплатным протезом. Цыганский барон, ныне покоящийся на скромном деревенском погосте в собственном Тадж-Махале.
Разве кто из них Яриле гож в подмётки?
Свадебным подарком мне стало колье из мыльных пузырей, вместо бриллианта у меня в кольце свила гнездо шаровая молния, а в свадебное путешествие мы уехали верхом на рыжем коте по прозвищу Золотое Руно, всесильном фаворите бога Ярилы, отравлявшем мне своими гнусными интригами дни любви.
* * *
Существует общество защиты жён Ярилы, где я состою почётным членом. Там мне удалось выведать, что его первая жена, уличённая в неверности, была обезглавлена. А вторая сослана в дальний монастырь за строптивый и дерзкий язык и бесплодие чрева её.
* * *
Роман о ненависти.
Я преданно его ненавидела.
Между нами не должно быть недоговорённостей: мне всё в нём нравилось. Уродство выразительнее красоты, и мне нравилось это тело, соблазнительное, как крем-брюле, и стремительное, как аллюр кентавра.
Мне нравился его идиотский противный смех, его никотиновый жёлтый оскал в червоточинах пломб, его рекламные губы – губы сфинкса-убийцы, его клешни лешего, которыми он грёб и грёб под себя, мне нравилось его прекраснейшее рыло стареющего херувима с драгоценным чеканным лабиринтом морщин, с разбойничьим глазом цвета ведьмина крыла.
Мне нравилось, что он меня предал и использует, мне нравилось, что он морочит меня и дурачит.
Мне только не нравилось, что по всем законам рассудка я должна была от него стремглав бежать.
* * *
Я – мизантроп. Отвращение к окружающим – источник живейшего наслаждения для меня.
Вместо того, чтобы носиться с тем: «Что со мной? Я болен? Меня удавить надо?» – скажите: «Ненависть – моё лицо. Лицо. И я никому его не уступлю».
* * *
Благостность религии мне не подходит.
Я всегда буду существовать так, как хочу. Никто мне не указ.
И я буду бить этого гада, любимого мужниного кота, хотя бы для того, чтоб в пору очередной господней пакости точно знать: за что. За что бьют меня.
Я бью кота и этим честно зарабатываю господне наказание и всякие напасти. Праведникам они достаются бесплатно. В этом есть что-то жульническое.
* * *
Вот все мы и в сборе, действующие лица. Я, эта стерва внутри меня, молодой олень, рыжий кот Золотое Руно. Крылатый Острог. И – Господь Бог.
Но если есть действующие лица, потребно действие, а что оно? Сотворение сюжета труднее сотворения мира.
* * *
Кстати, о мире.
Мы так и не помирились с творцом. Мне он не угодил. Меня его творение не устроило. Меня оно раздражало, как любимый мужнин кот: беспричинно, но систематически.
Жаль, что нельзя развестись с Господом Богом, бросить его. С мужьями проще.
Так вот, я их – не прощаю, ни Господа Бога моего, ни моего мужа.
* * *
Я о сюжете, о действии.
С декорацией всё просто.
Крылатый острог: город, нанизанный на вертикальные склоны, как чётки. Узкогорлые широкобёдрые амфоры вулканов, в шнурованных корсажах снежных ущелий. Зелёные пагоды елей. Крутые, как этажерки, лестницы. Сопки, похожие на ободранных песцов.
Но что значит: сюжет?
Что значит вообще писать, и зачем оно, если самые блестящие озарения превращаются вскоре в докучливые поучения на устах хрычей и зануд?
Стоит ли сходить с ума, грезить и воровать у мирозданья блёстки истины, чтобы человечество спокойным стадом прошествовало мимо, не выказав желания хотя бы пожевать это.
* * *
Мы с Ярилой работали музыкантами в кукольном театре и в цирке, лепили на продажу глиняных божков, вытравливали кислотой надписи на надгробных плитах – это гораздо быстрее и доходнее, чем вырезать традиционным способом, – организовывали хоровую капеллу духовной музыки при штрафном батальоне, выкармливали драконов, стригли породистых сук.
Браконьерствовали: добывали запрещённого лосося, а по Новый год воровали в заповеднике ёлки.
За надгробные плиты – за новую технологию – мафия организовала мужу автокатастрофу.
На рыбной ловле он дважды уходил под лёд.
Со срубленными ёлками его ловили и лупили егеря.
Разбежались куклы из кукольного театра, как от Карабаса-Барабаса.
Одичали цирковые звери, и цирк превратился в джунгли. Вопили попугаи в отрепьях радуги; лязгал вставной челюстью дрессированный страх.
Глиняные боги тихо спивались или преследовали нас местью, клеветой и сплетнями.
Ярило дважды спускал всё до нитки на бегах, а однажды проиграл и меня. Потом организовал пиратское нападение на шулера-счастливчика и отбил трофей обратно.
Мы жили в теплице, под мостом, на чердаках и в дуплах деревьев.
* * *
Мы с Ярилой дрались друг с другом на дуэлях. Кормили один другого из рук, мазали друг другу бутерброды и обгорелые спины.
Разбегались, ночевали на вокзалах и на пожарных лестницах.
А назавтра снова дрожащими губами тянулись друг к другу и любили – до синевы в глазах.
Он был мой белый мёд, и чёрное вино, и красный хлеб мой.
Послушайте, он же бил меня!
Правда, он кормил меня с ложки, когда я подыхала в онкологическом центре, и выносил за мной горшки, и нянчил меня, когда я кричала от боли и страха. Он выносил меня в одеяле, как куклу, гулять и таскал меня на руках вокруг отделения реанимации.
И потом, когда поднял на ноги, переводил за руку через дорогу, как первоклашку, и лез за меня в каждую драку.
Он сам причёсывал меня, и обучал искусству макияжа, и вставал в пять утра, и носился по городу, чтобы купить для меня сногосшибательное платье.
Но при этом он бил меня – по голове, и по позвоночнику, и стеком по ступням.
Я швыряла в него чайником с кипятком и мясорубкой.
Когда мы разводились, он нанял молодчиков, чтобы те меня изуродовали, если я подам на раздел имущества. Он ограбил меня, я не получила ни копейки.
Но это бы ещё ничего.
Хуже всего то, что когда профсоюзный комитет пытался меня гильотинировать, Ярило спас меня.
* * *
Я вам говорю: декорация – уже сюжет, уже роман. Она сама организует действо и судьбу.
Когда я вошла в эту землю, в Крылатый Острог, мне открылось, как Христофору: вулкан, расписанный крылом альбатроса, похожий на бабушкин зонт, увитый мозговыми извилинами снегов.
Линия горизонта, словно выкроенная консервным ножом. Фуражки пограничников, зелёным бильярдным сукном.
Шаман в джинсах, поп в камилавке и кожаной куртке. Автобусы с турьими рогами во лбу. Мусорные урны в форме лотоса – символа чистоты.
Часовни, аэромачты, поленницы, сигнальные огни. Кривые каменные берёзы в позах танцующих Шив, в холщовых галифе. Птичьи базары.
Заборы, набитые, словно обручи, на холмы-бочонки. Сено в хлев развозят на «тойотах», серебристых, как плотва.
У каждого сорняка на прополке между крыльев написано: «Здесь был мой дед, и отец мой тут вырос. Мы открывали эту землю, как истину. А ты кто такая, чтобы нас судить?»
Здесь женщины носят в волосах, как флорентийки, тонкую браконьерскую сеть, а названия учреждений пишутся вместо вывесок на спасательных кругах, ибо конец света настаёт здесь систематически и обыкновенно, как в других краях настают понедельники.
* * *
Тайфун пригонит дождь из толстомордых апельсинов, или перетасует чемоданы, ворвавшись в камеру хранения, или выбьет витрины молочных магазинов и зальёт молочными реками странный город.
Смерч гнёт гордые выи светофоров, взламывает канализационные люки, как сейфы с драгоценностями, обрывает крыши, как лепестки ромашек для гаданья, делает негодяев крылатыми.
* * *
Слушайте, я жила достаточно долго в тех краях, про которые мечтательные мальчики лишь читают в авантюрных романах.
И вот что я вам про это скажу: нет ничего на свете скучнее романтики.
Вся эта экзотика – гнусное захолустье, предательски отдающее на туристических плакатах то Джеком Лондоном и Клондайком, то Рерихом и Тибетом, то Рокуэллом Кентом или Хемингуэем.
Но в естественном состоянии прёт от него ассенизацией, провинцией и плесенью.
* * *
Ледники, папоротники, помойки.
Вертикали закопчённых труб и хрустальных костылей сосулек. Дома, пёстрые, как арлекины, и отечные, как алкоголики.
Сараи с курантами. Архипелаги лысин. Спившиеся шкипера.
Седобородая, бородавчатая, с металлоконструкцией во рту.
Татуированный с веником, в шляпе с плевком вместо страусового плюмажа.
Баба в окладе толстостенного платка, обсыпанная стиральным порошком и с двойней на сворке.
Толкота, общаги, нагноения.
Развлечения: бани и дегустация солдатской каши из походной кухни.
Но тут меня берёт сомнение: может, я говорю это просто из ревности?
Ведь я так и осталась чужой в этом причудливом мире, и, если отбросить те сказки, которые всё норовит рассказывать мне моя нежная стерва, со мной здесь ничего так и не случилось, я даже не умерла.
Этот мир отторгнул меня и оставил всё в тайне, и мне остаётся лишь бродить неприкаянной в потёмках фантастических догадок.
* * *
Я знала, что Здесь и Это должно стать моим Таити, моей судьбой, землёй обетованной.
И я честно ловила признаки того, что это Судьба или событие.
И я обнаружила, что к светофорам здесь прислонены стремянки, как к старинным фонарям, которые возжигали фонарщики. Я видела перила мостов с коваными лососями на решётках. Я провожала взглядом лесовозы, в них стволы проплывали толстые, как бочонки, и розовые, как фламинго.
Я видела белые защипы на вулкане, как на огромном пельмене.
Но мне это почти ни о чём не говорило. Я тщетно допрашивала себя, как когда-то при встрече с очередным поклонником: «Он? – Не он? Он ли судьба?»
Но не было никакого отзвука о Крылатом Остроге, и я соскучилась.
Ещё немного погодя это место стало для меня просто местом, где нет даже кино и туалетов и где местные модницы вынуждены обивать каблуки своих французских туфель консервной жестью, чтобы они не истрепались в считанные часы по сопкам и расщелинам.
* * *
Но вот уже много времени спустя я читала приключенческий – приключенческий! – роман о севере Канады и там наткнулась на: посёлки обозначались милями.
А у нас безымянные посёлки и улицы назывались километрами. Говорили: отправили на восьмой километр, то есть в психушку. Рыбу дают на двадцать шестом. И просто: на километрах задувало.
* * *
У своего дома я, исправно платившая за свет и воду, однажды обнаружила следы медведей и рыси.
Но всё остальное я проморгала.
Я так и не поняла, чем я провинилась перед этим краем. Может быть, писать о нём нужно только авантюрные романы, а я пишу вот это.
Или тем, что на такой земле полагается ходить на охоту, а я даже за грибами не выбралась. Следует штурмовать глетчеры и ледники, а я составляла план-отчёт.
Здесь бы быть первопроходчиком, а я коллежский регистратор и делопроизводитель.
Что бы мне стоило в тех краях мыть золото и пристрелить кого-нибудь при дележе участков. Или держать ездовых собак, и потерять упряжку в тундре, и выбираться ползком в пургу на Большую землю. Или хоть просто купить себе карабин и повесить его на стену, чтобы он не стрелял.
Но признаюсь и раскаиваюсь: у меня его вовсе не было.
* * *
Но может быть, судьба имела в виду вот это.
Обыкновенная зима здесь длится девять месяцев, как у аиста.
Потом весна, и на дворе устраивается бестолочь. Снег тает на деревьях и милиционерах. В душе – бедлам и трепыханье. В гигантских вазах заводских труб – благоухающие букеты дымов. Женщины к профессиональному празднику 8-е марта распускают грозди задниц и подбородков.
Но где-то в конце июля рождается лето дней на пять. И тогда город этот – не север и не запад, не юг и не восток, а – сам. Центр Вселенной.
Извержение зелени. Цветы размером с затмение солнца.
Тело реки мерцает, как золотой Будда, реки прорастают вверх, как сталагмиты.
Усечённые конусы вулканов в белых уздечках снегов вскачь несутся над городом, словно всадники без головы.
И вулканы эти в белых жабрах и плавниках, в петушиных серых гребнях, в волчьих хвостах осыпей, с татарскими сотнями кос и в бунчуках.
Дрова зацветают. Человеческая кровь ликует и претворяется в весёлое вино, пушной бесценный зверь домогается рук человеческих, драгоценные рыбы войдут в умывальник, но не прольётся кровь. Никто не смеет – и ни к чему. Все пьяны любовью.
Все бродят, не смыкая глаз, из объятий в объятья. Безумно и легко здесь дышат о любви.
Мы все нанизаны на солнечные лучи, и от тепла всё: земля, камни и женские грёзы – вдруг начинают источать такие ошеломляющие, мудрые запахи, что можно позабыть, на каком ты свете, и вдыхать аромат земли, как наркотик, и видеть сны.
Благоухание камней.
И люди запросто расстаются с жильём, с семьёй, с самими собой.
Можно поменяться своим опостылевшим, осквернённым телом с нежнейшим цветком, с грузовым автомобилем, с блуждающей звездой – и всё начать сначала.
И вдруг догадаться, что космос цветной, а не чёрно-белый, и в джунглях цвета нам суждено скитаться, и биться, и объезжать бесноватые, яростно хрипящие галактики.
Цвет – это воздух сущего. Яркость – это цемент бытия.
И пыль в Крылатом Остроге – божество.
И если сюда швырнуть умершего – воскреснет в радости. Несть ни смерти, ни воздыхания.
Карнавал плоти. Золотой век. Сумасшедший рай. На пять дней.
А после год – тоска, и смута, и бездействие, и ты – конченый человек. Сумрачно, будто тебя и весь мир сварили на холодец, и вы мутны и зыбки, без вкуса, без цвета и запаха.
Сопки в тумане оплывают, как свечи. Бродяжничают одичалые дожди и нагрядывают орды снегов.
Великое переселение снегов, когда город заносит по самые небеса.
И люди не помнят и не узнают друг друга, не подают руки, не делают детей и беспокойно поглядывают в небо, как в календарь, ожидая, когда фейерверк любви и красок омоет серые иссохшиеся скальпы бессмертных и жалких душ.
* * *
Мой солнцерогий олень не имел права быть положительным героем, не смел спасать меня от гильотины.
Он был существом-всё, и только за это я сходила по нём с ума.
Он был моделью мира, где есть место всему, моделью гармонии, где даже зло имеет право на существование.
Иначе какая же это гармония, если что-то подлежит уничтожению.
* * *
Это всё – Крылатый Острог. Резервация для аферистов и неудачников. Химическая лаборатория, где в ретортах воздушных гондол плавились сволочи, обращаясь в святых, как мой смуглоглазый олень, где все благие намерения ведут в ад, а крылаты только негодяи, сорняки и остроги.
Но как случилось это?
Превращение произошло. Я подалась в стервы. Единовзрыв – в солнцерогого оленя.
Но как мы с ним так обмишурились, механизма этого я так и не поняла, как никогда не понимала, почему, если собрать в резервацию всех чистеньких, между ними автоматически заводится грязь. Как у магнита, у которого отрезают отрицательный полюс, а он снова тут как тут. Как отрастают головы у гидры.
* * *
Олень не смел разрушать мой идеал гармоничного поддонка. Я предала его за то, что он исправился, как и полагается герою соцреализма.
Я столкнула его во время обхода фермы в бассейн с белоснежными аллигаторами, чтобы они разорвали его на куски.
Но хищники не тронули его. Они не тронули новоявленного святого.
Тогда я сама вцепилась в тело оленя зубами, и от моего укуса, как от укуса кобры, он почти мгновенно умер.
* * *
Пришёл новый воевода – энглизированный революционер с оглядкой и со ставропольским выговором.
Я знаю лишь, что когда он приезжал в Крылатый Острог, коров к его приезду мыли французским шампунем. Из Норвегии пригнали караван срубленных елей, как на Новый год. Их навтыкали прямо в вулканическую пыль вдоль дороги с кортежем. От содроганий тягачей ёлки тут же покосились и попадали. Рейсовые автобусы одолжили в соседней Японии и бросили их к нам вертолётом.
Входит воевода в магазин – прямо перед его носом раскатывают персидские ковры и заносят в голые витрины невиданные в нашем тлене продукты – артишоки и кулебяки.
А уходит – его свита вместе с ним выносит драгоценную бутафорию. Выносят, как край его мантии.
Это вам не потёмкинские деревни. Потёмкин надувал Екатерину. А этот – самого себя.
Воевода, видите ли, был так раним, что соорудил себе башню из слоновой кости и таскал её всюду за собой, как улитка свой домик.
Декорация – уже действо. Уже мир. Он происходит по своим законам.
Стоит поставить картонный ясень, и он полон дриадами и лешими. А в картонном раю поселяются ангелы и племенные голландские хряки.
Главное – создать картонную атмосферу.
И воевода созидал, как Саваоф, и картонный рай его населили живые твари и гады, и сексуально раскрепощённая Ева пустилась во все тяжкие.
* * *
Между тем за декорацией, как за щитом, произошло ограбление века: разворовали целую страну.
И вот когда бяки и шлюхи заполонили нашу картонную атмосферу так, что нечем стало дышать, а во время образцово-показательной дегустации воеводина рать чуть зазевалась, и толпа, пройдясь по воеводе и свите, расхватала в экзотично заваленном продуктами магазине весь реквизит, и нечем стало делать обстановку сытости, воевода решил, что что-то здесь не так и что-то нужно изменить.
Хорошо быть спасителем. Вообще хорошо быть хорошим, но на халяву и исподтишка. И народную любовь снискать, и чтобы флажками махали, и в историю войти, и подарки получать, и всё изменить, и всё как есть оставить.
И невинность соблюсти и капитал приобрести.
Воевода устроил в картонном раю картонный потоп. Решил немного пополоскать нас, как рот после обеда.
Но картонный Ноев ковчег, и картонные звери, и греховодники – всё размокло, размылось и потекло – по-настоящему.
* * *
И рассеял их Господь оттуда по всей земле.
И они перестали строить город.
Бытие. Кн. Х1, ст. 8.
Расползалась не только скабрёзная маска, разъедалось под ней увядшее, но ещё живое лицо.
Волшебный и паскудный город, который нёсся вскачь вверх по склону, чтобы только оставаться на месте, пополз вниз всё стремительнее.
Вертикальный город, город-башня рухнул, как в бреду о Вавилонском строении.
Господь покарал нас за то, что мы слишком долго отирались у его небесного порога, без приглашения и с наглыми хозяйскими рожами. А главное – низачем, из чистого озорства, просто так, натаскали грязь сапожищами на небо, но никого не осчастливили в итоге.
Мы ведь все жили, как и я: жили, как хотели, ничьих советов не спрашивая и не нуждаясь.
Господь таких не звал к себе и разбил нас на двунадесять языков.
Башня повалилась, и все её внутренности раскатились, как шайбы или колёсики: все эти Никиткины дворцы, Кухаркин мост, и храм святого Слесаря-водопроводчика. Переулки – Киношников, Кладоискательский, Ограбительский и Фортранный.
Проспект Алкоголиков. Проезд Идиотов. Потаскушкин монастырь и Поломойкина слободка.
Улица Одного и Того же Гения, парк культуры Святой Основополагающей Троицы, забегаловка имени Чаяний и Плодов Революции.
* * *
Воздушная Венеция обратилась в воздух. Прихоть, каприз царственных не то апостолов, не то остолопов развеялся, как пыль по ветру.
Лопались воздушные шары над танцплощадками. Как эскимо, растаяли клумбы.
Мильтоны, как и положено мотылькам, летели на огонь и сгорали. Те, что пришли после них, интересовались только разгоном старух с семечками и демонстрантов.
Заклинатели змей переквалифицировались в заклинателей народа.
Чётки города перетёрлись, рассыпавшись.
Взрывались, словно бомбы, мыльные пузыри в моём свадебном колье.
Шаровая молния из обручального кольца вырвалась, обезумев, шарахнула по развалинам.
Наши покойники и мертвецы посыпались из святых, из саркофагов облаков на наши головы, и прах, и тлен, и разорённые кости, как смертоносный дождь, обещанный Апокалипсисом.
И вечная Огненная земля, на которой ютился недальновидный, скоротечный Крылатый Острог, ответила гулом и грохотом и разверзлась до самого дна.
Она поглотила нас всех без остатка, и мы полыхаем в её неигрушечной пасти, и единственное, что делает эту геенну для нас ещё выносимой – привычка.
Ведь концы света на этой земле – не новость, и прежде они наставали у нас систематически и обыкновенно, как в других краях – понедельники.
Я скажу вам, чего мы все ждём, даже здесь, в аду.
Лета. Карнавала плоти. Золотого века. Сумасшедшего рая на пять дней.
Когда можно воскрешать мертвецов – и всё начинать сначала.
* * *
Мы действительно так замечательно жили, или эта стерва опять сочиняет?
Я не рассказывала про дом, который Ярило построил своими руками. Дом был – плавучий бот, из пальмового дерева и моржового клыка. Он был увит диким виноградом, коралловыми бусами шиповника и разноцветными флажками, как волчья охота или крымская веранда.
В нём был зверинец, где обитали золотистые, как леденец, львы, белоснежные аллигаторы, саранча и креветки, и зебры, пёстрые, как радуга.
Мы размалёвывали кринки птеродактилями, коллекционировали необитаемые острова и топили камины павлиньими перьями.
В доме был купол из китового уса и парашютного шёлка, и если правда, что в соборе купол знаменует собой небеса, то у нас было своё небо, и оно пахло рыбьим жиром, йодом, виноградом и облаком.
* * *
Ну, мы же все договорились у себя в Крылатом Остроге, что всё хорошо, все мы душки и счастливы.
Даже если вам не очень, не портите нам настроение в этой весёлой игре: всеобщее счастье.
Но как же мы ухитрялись, нагло хихикая, смаковать похабную истину из заграничных «Голосов» и сдержанно, но всем сердцем презирать родную и естественную общегосударственную ложь!
Похабная истина была шлюхой. С ней было сладко: умеет, тварь. Щекочет нервы. Не надо притворяться. Каков есть, чего уж.
Родная ложь была законная супруга. В засаленном переднике, визгливая отвратная баба. От её истерик и ультиматумов мутило. При этом баба моя – не как та, заграничная, не за деньги. Баба-то, тетеря, любит меня и наследников моего дебилизма мне самоотверженно рожает. Жирная, тупая, потом воняет, и это – настоящая любовь, и её лоно – моё бессмертие.
А та, заграничная, неотразимая – острые ощущения, риск, страсть, короткая вспышка. Но после того, как я сверну себе башку в погоне за этой страстью, должен же быть угол, где законная супруга, клуша нелепая и бездарная, меня обогреет, утешит и приголубит.
* * *
Ведь мы же действительно хорошо жили.
У моего мозга был дом: великое «можно».
И были чужие страны: необъятное «нельзя».
И нас носило там, в экзотических странах, как джентльменов удачи за приключениями, но домой мы всегда возвращались.
Был дом. А теперь мой мозг – бродяга.
Ненавистная, набившая оскомину, скрутившая меня и загнавшая под каблук супруга – сдохла!
Да здравствует неотразимая шлюха Истина!
Но то, что было хорошо раз в месяц, тайно и урывками, ежесекундно и с ножом у горла – мучительно.
Тоска была, но был и порядок. Чашки перемыты, картошка нажарена, воротнички чистые, в уму – всё по полкам.
Эта, теперешняя – моя великая страсть – не сечёт, где я был вечером. Её самой по вечерам не сыскать.
Зато в доме – бедлам. Всё вверх дном. Муж голодный, неприбранный. О детях разговора нет, а прежние ей пасынки. Лишь бы в наряды наряжаться, на людей глядеть и себя демонстрировать. А дети, будущее – это предрассудок.
Верните мою вислоухую оглоблю, мою ненавистную роднулю, законную тварь.
Меняю горячо любимую истину на чистые воротнички.
* * *
Слушать «Голоса», внимать этой головокружительной, незаконной развратной правде – в объятиях добродетельной и уютной лжи – всё равно что читать авантюрный роман.
Жить по этой правде – всё равно что самому участвовать в авантюре: гнить в джунглях, подставлять под пули и дубины голову, томиться от жажды в узилище, тонуть у неоткрытых берегов.
Я же вам докладывала. Нет ничего скучнее, тошнотворнее, неудобоваримее, чем романтика, когда она становится твоим бытом.
И нет ничего унизительнее возвышенного, когда оно берёт тебя за горло.
* * *
Тут я попалась на глаза Господу моему, посетившему ад с инспекционной проверкой.
Я даже не испугалась, как на экзамене, когда всё равно ни хрена не знаешь.
Итак, я.
Я била кота смертным боем, главным образом, для оправдания Господа Бога, я ему подыгрывала.