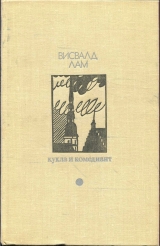
Текст книги "…И все равно - вперед…"
Автор книги: Висвалд Лам
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Висвалд Лам
…И все равно – вперед…

Висвалд ЛАМ родился в 1923 году в пригороде Риги, Милгрависе, где всегда жили моряки, грузчики и рыбаки, в семье портового рабочего. Рассказывать о его детстве нет нужды, так как оно описано в повести «Одну лишь каплю даруй, источник».
Рано потеряв отца, Висвалд Лам с детских лет привык своим трудом добывать себе хлеб. Вся его биография – это длинный перечень новых мест работы и освоенных им новых профессий: пастух, стекольщик, рассыльный, каменщик, электротехник, слесарь, дорожный мастер, лесоруб, сварщик, сантехник, бетонщик.
Законченного образования В. Лам так и не получил – помешала война. Но ничто не могло помешать ему читать: страсть к чтению не покидает его с детства до сего дня.
Наступил день, когда В. Лам решил испытать, как он владеет пером.
С 1949 года он пишет рассказы. А в 1953 году печатает свой первый роман «Дорога сквозь жизнь», с которым в латышскую прозу вошел новый писатель В. Эглон. Желание писать под псевдонимом автор объяснял тем, что собирается и дальше работать на строительстве и не хочет ничем выделяться среди рабочих. «Дороге сквозь жизнь» были присущи недостатки первой литературной работы – автору на хватало опыта, лаконизма и умения отбирать существенное.
В 1955 году В. Лам уже обращает на себя внимание романом «Неуемно гудящий город». В нем автор резко, сурово и правдиво рассказывал о судьбе рабочего в послевоенной Латвии и в период больших исторических перемен.
Наибольшие споры и противоречивые критические оценки вызвали два последующих произведения – повесть «Белая кувшинка» и роман «Полыхание зарниц». В первом ставится проблема «поисков жизненного пути» молодыми, во втором автор говорит свое слово о «реакции маленького человека» на такие сложные события, как гитлеровская оккупация…
Связь В. Лама с рабочей средой никогда не прерывалась. Бывали периоды, когда одну его книгу от другой отделяли два-три года, во время которых писатель держал в руках только разводкой ключ или газовую горелку.
Писатель считает, что без этих уходов от письменного стола не появились бы его романы: «Минута на раздумье», «Профессия – выше некуда», «Итог всей жизни».
В 1968 году выходит повесть «…И все равно – вперед…», суровая, яркая картина – люди военных дней, живущие под угрозой смерти. Гибель ждет их всех, но «настоящие люди идут вперед, пусть и навстречу смерти». С этой книгой писатель печатается уже под своим настоящим именем – Лам.
Всего им написано восемь романов и четыре повести.
Первым на русском языке вышел роман «Кукла и комедиант» (журнал «Дружба народов», 1973 г.), сразу же обративший на себя внимание не только советского, но и зарубежного читателя. Сейчас он переводится на эстонский, литовский, болгарский, польский, словацкий и испанский языки. В 1975 году в журнале «Дружба народов» печатается роман «Итог всей жизни».
В романе «Кукла и комедиант» В. Лам рисует Латвию военных и первых послевоенных лет. Но это книга не столько о войне, сколько о роли и позиции человека, «посетившего сей мир в его минуты роковые». Человек не должен быть безвольной куклой в руках любой силы, заинтересованной именно в безвольности, пассивности управляемых ею существ, будь эта сила бог, фюрер, демагог или молох взбесившейся цивилизации. Какой ценой дается эта независимая позиция, в какой мере человек сам творец своей судьбы, – вот о чем этот роман.
Примерно эта же мысль выражена и в повести «…И все равно – вперед…», включенной в данную книгу.
… и все равно – вперед…
повесть

Было промозглое, туманное утро. Над мшарником тянулся косяк журавлей. Резкие голоса… как в мучительном сне, наполненном страхом. Ничуть не похоже на далеко разносящиеся клики, как бывало раньше осенью, – так казалось Янису Цабулису, который, устремив в небо посиневший от холода нос, следил за птицами. Журавли скрылись. Цабулис потер кончик носа тыльной стороной ладони и вжался в воротник. Весь он был волглый и прозябший. Ладно еще, что ночью не было заморозка, что есть спички, есть полкаравая хлеба и немного курева. Голодный пост по сравнению с теми давними временами, когда, послушав журавлиные клики, Цабулис возвращался в теплую кухню, впивался зубами в обильно намазанный жирным творогом ломоть и, отхлебнув дымящегося кофе, торжественно провозглашал: «Журавли улетели – и день на полдник короче».
От приятного воспоминания рот наполнился пресной слюной. Он сплюнул и той же тыльной стороной ладони вытер рот.
Все время державшись с усталым упрямством, Цабулис вдруг почувствовал, что сдает. Оборванные жалобные клики журавлей почему-то привели его в отчаяние. Птицы выглядели всполошенными беглецами из того мира, где все отчетливее слышалось артиллерийское громыханье. Все время устремлявшийся туда, Цабулис уже не верил, что в этом есть смысл. А вдруг неизменно являющаяся ему в снах родная сторона уже вся в развалинах! Он горестно вздохнул…
В минуты отчаяния человек отрешается от окружающего. Раненая душа страдает в одиночестве – все равно, устремлены ли на тебя сочувствующие или равнодушные взгляды. Цабулис забыл о примостившихся на соседних кочках товарищах, с которыми проделал долгий путь от подножья Альп. Они ухитрились пройти всю Германию, переплыли Вислу, потом еще какие-то реки, три дня назад перебрались через Неман, и теперь вот, когда уже достигли границ Латвии, ноги Цабулиса отказывались шагать. Он словно увяз в эту мокрую землю.
Молчание нарушил резкий, но с хрипотцой голос:
– Только по куску.
Двое повернулись, протянули руки. Цабулис сидел все так же, вжав голову в плечи. А тот, кто произнес эти слова, раскрыл нож и откромсал четыре более или менее одинаковых ломтя хлеба. Он положил их на заплечный мешок и выждал, когда останется кусок, который никому не приглянулся. Так уж оно повелось в течение всего пути, и именно потому остальные доверяли этому человеку. По внешности он не казался сильнее прочих. Фамилия – Гринис, а имени товарищи и не знали. Самый суровый и жилистый, он постепенно взял на себя самое тяжелое. Слова его слушались, наверное, потому, что он никогда не говорил попусту. Двое, схвативших, как им казалось, кусок побольше, были из другой глины. Модрис – и его имени никто не знал – был высокий парень с пышными кудрявыми волосами. В общем-то неотесанный, но красивый. Пацан еще – пренебрежительно аттестовал его Альфонс Клуцис, который хоть и был немногим старше, но от чрезмерной приверженности к самогону рано обрюзг. Клуцису не нравилась ни забота Модриса о своей внешности, ни постоянное охорашивание волос – одна эта красота теперь и осталась, – ни хвастовство успехами у девиц. Хотя скитания по лесам и замызгали Модрисову форму, все же она выглядела куда чище одежки Клуциса – остатки шуцманского величия и тюремные штатские обноски. Цабулис с Гринисом были в куртках и штанах из самотканого сукна. Жизнь по кустам, роса и речная вода изгваздали их почти одинаково. И что этот Модрис вечно охорашивается – будто петух на столбе свиного загона!

Клуцис был вечно зол, этот крупнокостный и крупнотелый трус. Может быть, ему было еще труднее, чем Цабулису, но злость делала его сильнее. Обильная желчь заменяла ему кровь. Одна беда, Клуцис не знал толком, на что ему злиться, кто виновен в его невезении. Именно поэтому он и не ладил ни с кем, а больше всего схватывался с Модрисом, потому что это был самый мягкий кусок для его ядовитых зубов.
Но пока что и Клуцисовы и Модрисовы зубы были заняты хлебом. Еще два ломтя лежали на мешке: Цабулис все еще плутал где-то в чаще своего отчаяния, а Гринис спокойно ждал. Нельзя сказать, чтобы взгляду Гриниса была присуща особая сила, глаза у него были спокойные и самого обычного цвета – что-то среднее между синим и серым, необычными были лишь густые, кустистые брови, нависающие над веками. От дорожных тягот и вечной голодовки глаза запали еще глубже. Гринис смотрел и молчал. Щуплое тело Цабулиса время от времени вздрагивало. Модрис с Клуцисом жадно ели. Клуцис вдруг покосился на нетронутый хлеб… а вдруг… Проглотив пережеванный кусок, он проворчал:
– Ишь, неженка!
Модрис ухмыльнулся. Гринис продолжал смотреть на Цабулиса. Самый сильный и самый слабый, самый молчаливый и самый болтливый. А ведь еще совсем недавно Цабулис выглядел и самым расторопным и кое-где доказал это на деле, тогда он был заводилой, а не болтливым нытиком. И Гринис был благодушнее: во время опасного следования из Мюнхена в Бреслау безмятежно болтал в вагоне с жандармами и спас всех от провала. Гринис здорово лопочет по-немецки и по-польски соображает, так что он и был главным переводчиком. Вначале он много рассуждал, что будут делать, когда дойдут до Латвии. Вот тут-то и возник холодок между ним и товарищами. Остальные не очень ломали себе голову, рассуждения Гриниса казались им умствованиями. Они просто хотели укрыться и спастись. У Альфонса Клуциса весь Чиекуркалн – сплошные дружки-собутыльники, уж кто-нибудь да спрячет у себя на чердаке, где можно переждать, пока прокатится военная гроза. «Да хоть в конюшне у моего прежнего хозяина, там я на самого черта-дьявола плевал», – заключал он свои соображения. Модрис уверял, что уж ему-то насчет убежища меньше всего придется заботиться. Да если дзегужкалнские девицы узнают про его возвращение, они друг дружке юбки обдерут за право его опекать.
– Чего ж ты тогда дал себя упечь в строительную часть? – спросил сердито Гринис.
– На мир поглядеть была охота, – глупо ухмыльнулся Модрис. Нагляделся теперь, вот и по дому стосковался. Цабулис слово «дом» только и твердил, но для него «дом» был нечто иное, чем для Модриса или Альфонса, которому лишь бы укрыться в конюшне и пить самогонку. Но как бы ни были различны их желания, что-то все же единило их, это «что-то» и охладило Гриниса. Он замкнулся, уже не участвовал в разговорах, становился все угрюмее и молчаливее. В мыслях у него было только одно – как бы побыстрее сказать «Ну, дай бог не свидеться» – и повернуть в свою сторону. Но то, что Цабулис сник, как-то взволновало его. Переждав еще минуту, Гринис наклонился вперед и положил руку на вздрагивающее, покатое плечо:
– Тебе нехорошо?
Цабулис облизал губы. Какое-то время растерянно смотрел на Гриниса, потом заметил хлеб и, не выбирая, взял кусок.
Клуцис со своим уже управился.
– Нечего мыслями заноситься, того и гляди уведут твой кусок. – Чувствовалось, что слова эти были не только шуткой. И это заставило Гриниса отломить от своего ломтя и добавить Цабулису.
– Что ты… – даже смутился тот. – Ну, если уступаешь, тогда…
– Не хочется мне, – прервал его Гринис. Поймав взгляд Модриса, он без промедления переломил и остаток. Этот не стал особенно ломаться, буркнул: «…сибо!» – и жадно впился в корку. Гринис, точно оправдываясь, добавил: – Еще по такому есть. Но я думаю, надо приберечь на ужин, чтобы были силы для перехода.
– Найти бы какого-нибудь литовца и выпросить у него «айн кляйн бисхен дуонас», – хмыкнул Клуцис.
– А как нарвешься на фрицев и схватишь айн кляйн бисхен свинцового гороха? – бросил Модрис и взъерошил свою роскошную шевелюру.
Цабулис ел без всякой охоты. Гринис молчал. Что зря пустое молоть. Им это нравится, а его уже мутит. Какой прок тарахтеть о поисках хлеба, когда вся округа забита солдатами, и в эту поросшую кустами болотину они забились на рассвете, после тяжелого ночного перехода, не найдя более надежного места. Фронт уже близко, поэтому идти здесь куда опаснее, чем по лесам западной Польши или Восточной Пруссии, где можно смело шагать среди бела дня. В Литве лесов не так много, как в Латвии, но, может быть, они уже достигли границ Курземе? Пышные брови Гриниса сдвинулись и еще ниже опустились на глаза. Ну и что, если они действительно уже в Латвии? Там, в Австрии, или, как гитлеровцы называли ее, в Остмарке, далекая родина казалась им прибранной комнатой с накрытым праздничным столом, а Литва только порогом, который можно переступить в один шаг. Но последний день показал, что «порог» довольно широкий, да и на каждом шагу угроза – солдаты. А родина – она встречала пугающим гулом. Как там найти – не праздничный стол, а хоть бы почву под ногами? Эти… Модрис спрячется за юбку, Клуцис нырнет в бутылку, Цабулев Янис, опасливо дрожа, схоронится в кустах подле своей семьи. А может быть, все же поступят по-иному? Странно, как плохо мы знаем своих ближайших товарищей, хотя и пройдешь с ними сотни километров и всякого натерпишься.
Клуцис произнес:
– Закурить бы…
И здесь опять пришлось действовать Гринису. Ни слова не сказав, он достал жестянку с табаком и бумагу. Должность «хранителя табака» Гринис получил так же незаметно, как и «хранителя хлебных запасов», – так сказать, с ходом событий. Сначала у каждого припасы были свои, кто чем разжился. Гринис был даже беднее всех. Клуцис с Модрисом никакой экономии не признавали и дымили беспрестанно. У Цабулиса имелись сигареты, он был из «куряк по воскресным дням», которые охотно угощают других. Так и выкурили его «Königin von Saba»[1]1
«Царица Савская» (нем.).
[Закрыть], «Schwarze Staffa»[2]2
«Черная принцесса» (нем.).
[Закрыть], потом принялись за трубочный табак, потом за толстые сигары… Вскрывая последнюю пачку, Альфонс Клуцис таким похоронным голосом, будто читал некролог по любимому другу, произнес рекламный текст «Юно»: «Warum «Juno» ist rund? Auf dem guten Grund «Juno» ist rund…»[3]3
«Почему сигареты «Юно» круглы? Потому что у них хорошая основа» (двусмысленность: «Юно» – богиня Юнона).
[Закрыть] Гринис курил гораздо реже. Бывали моменты, когда он чувствовал, как словно крысы скребутся возле сердца, и сознавал, что табачный дым – вредная штука. А разве война, тюрьма, грозящий смертью побег – это что-то здоровое? И каким бы тяжелым ни было время, проведенное в неволе, он все еще крепкий человек, будто кремневый. Внутрь залезть никто не может, а снаружи ничего не заметишь. От этого бережного курения его небольшие запасы не очень убывали, а остальные свои уже извели. Тогда Гринис безо всяких стал по-братски делиться с товарищами по несчастью. Оделял он их скупо, но и себе брал не больше. Так и на этот раз. Каждому протянул по бумажке, – Цабулис отрицательно покачал головой, это уже не первый раз, но впервые этот пустобрех перешел на язык жестов, – и каждому насыпал по щепотке. Дух у немецкого табака был хороший, и клубы дыма вокруг голов курильщиков на миг создали настроение какого-то даже уюта…
Четверка пристроилась на самом сухом месте мшарника. Вокруг чавкала вода, и набухшие кочки выглядели чисто гадючьими гнездами. Здесь хоть вздулся небольшой желвак – песчаный взгорок с тремя сосенками. Можно хотя бы сидеть на сухом. Ноги у всех промокли, и все, кроме Цабулиса, поспешили переобуться. Ночной переход был тяжелый, но заснуть в этой сырости никто не мог. Может быть, потом туман разойдется и пригреет солнце. Костер зажигать опасно… того и гляди, появятся вооруженные люди. Любой куст, любой шум – опасность.
Утро светлело и наполнялось звуками. Болото было такое же тихое, но вокруг, за кустами, кипела жизнь. Донеслась петушиная песня, явно недалеко усадьба; еще ближе где-то брехал пес. Со стороны шоссе доносился гул моторов, с противоположной стороны взревел локомотив и лязгнул состав. Как в окружении.
Клуцис кончил переобуваться. Досасывая окурок, поглядел на отставшего от него Модриса и спросил:
– Где это ты такие шикарные носки отхватил?
Тот самодовольно усмехнулся:
– Хе-хе! И у немцев в сундуках хорошие вещички хранятся. – Гордо вздернув обтянутую тонкой шерстью ногу, Модрис ударился в воспоминания: – Уже не молодая, правда, солидная такая дама, какого-то вахмистра жена. Муж, понятное дело, на фронте. А тут я подвернулся, сам понимаешь. Домик у ней… Зазвала меня, сам понимаешь, обедать, яичницу с грудинкой на стол поставила, у фрицев это дорогая штука считается, сам понимаешь. А сама все уговаривает – ешь, дескать. На стол этак навалилась, а верхние пуговки расстегнуты. Сам понимаешь, еще тот вид! Ну, я ведь не больной какой, сам понимаешь. Подзаправился той грудинкой как надо и, сам понимаешь, на кровать!..
– Все на кровать!.. – Клуцис сплюнул. – Вот же телок, бес его задери! О чем ни заговори, как ни заговори, а Модрис тебе обратно на баб свернет – и на кровать. И долдонит, и долдонит, уши вянут. Хвастун – мочи нет. И вот такие девкам нравятся – бараны кучерявые.
Пока они плели свое, Гринис все наблюдал за Цабулисом. Неладно с ним. Нельзя давать ему сломиться именно сейчас, когда дальний путь уже за спиной, а опасности, которые требуют собрать все силы, еще впереди. Море переплыли, а теперь только переправиться через реку с горящим по ней маслом. На это нужны силы. Гринис еще раз встряхнул Цабулиса:
– Переобуться надо!
– Ох… бог с ним… – закряхтел Цабулис. – Потом… – будто спросонья от мухи отмахнулся.
– Что значит потом? Ноги сопреют, – Гринис принялся помогать ему, расшнуровал и стащил ботинки, нашел сухие портянки – перепеленал ноги, как младенцев. Модрис глядел и ухмылялся обычной дурацкой ухмылкой. Клуцис презрительно скривился, но промолчал. Над Гринисом не позубоскалишь, а Цабулис сейчас под его опекой.
Быстро приведя в порядок снулого Цабулиса, Гринис раскурил свою потухшую самокрутку и сунул ему в рот.
– Затянись! Бывает, что и помогает.
Цабулис вяло почмокал и проскрипел:
– Голова кружится.
– Лежи.
Чтобы уберечь Цабулиса от холодной сырости, Гринис прислонил его обмякшее тело к корявой сосне. Сам пристроился рядом, поднял ворот и вобрал голову в плечи. Глаза закрыты, а сон не идет. По спине пробегали мурашки – солнце хоть и поднялось выше, но нисколько не грело.
Те двое опять завели разговор. На сей раз говорил Клуцис, а Модрис слушал.
– Как мы ее жрали! К обеду полбанки – это уж законно, а иной раз и пивца пару бутылочек примешь. Немецкая эта водчонка, ею только нутро полоскать. Раз поймали одного спекулянта с бидоном самогона. Я его добром предупреждаю: не мути. Говори, сколько у тебя там, и я тебе скажу, сколько нам причитается. А тот хреновину порет. Дураком прикидывается! Думает, на таковских напал. Я и говорю: «Раз так – конфискуем весь бидон за твое вранье. А еще будешь мошенничать, все добро отнимем и протокол составим. Учти, и дальше по-честному орудуй!» Тот только белеет, пот утирает. А уж нам было что пожрать. Как купорос крепкая и горит, будто бензин! У кого нутро слабое – не принимает…
Клуцис даже облизнулся от полноты чувств. Гринис почувствовал, как в нем все переворачивается от злости. Еще тогда, во время отчаянного побега, Клуцис показался ему не особенно симпатичным. Никого близко не зная, он и не возражал, что делать – случай свел. Времени не было, приходилось полагаться только на доверие к человеку, на то, что все-таки это соотечественник. Уже в дороге Гринис узнал, что Клуцис служил шуцманом, хотя только, как он сам поспешил объяснить, всего лишь спекулянтов на Рижском вокзале ловил. «Помогал фрицам народ голодом морить», – зло отрезал Гринис. Клуцис продолжал оправдываться, что он всех отпускал, «попугав», только пустяковую пошлину взимал. Дружок его туда затянул, рассказав, что водки там хоть залейся. А в возчиках ходить уже никакого расчета не было. Клуцис до пятнадцати лет проторчал в четырехлетней школе, потом ограничился этим образовательным цензом, уйдя в ломовики. Вот была житуха – заработок десять латов в день, каждый вечер выпиваешь самое малое поллитровку. И по сей день бы еще честно правил своим овсяным мотором, не начнись эта «заваруха». Прельстившись шуцманской должностью с возможностью нить водку, «вляпался, как телок в дерьмо». Спустя год немцы его и еще таких же, повинных в подрыве экономики, посадили. Может быть, Клуцис и впрямь был не таким уж строгим «грозой спекулянтов». Из тюрьмы его отправили на работы в Германию, где он встретился с Цабулисом, который и привел его потом к Гринису. Нельзя сказать, чтобы проштрафившийся шуцман был злой человек, но порой в нем проступала явная подловатость. Немцев он ненавидел, но и о советской власти был не лучшего мнения. Вообще задушевным тоном он говорил только о довоенной водочной бутылке и папиросах «Спорт». В начале побега оружие было у одного Гриниса – сумел разжиться парабеллумом. В Польше наткнулись на немецкий караул. Одного солдата Гринис застрелил, другому Клуцис размозжил голову. Происшествие это укрепило их в сознании, что попадаться гитлеровцам они не смеют, но никак не уменьшило неприязни Гриниса к Клуцису. Захваченное оружие распределили так, что Клуцис завладел автоматом, тогда как Модрис с явной неохотой закинул за плечо винтовку. Волоки этакую железяку! Цабулис остался без оружия. Но он по нему и не тосковал. «Какой уж я воитель!..»
«Самому-то себя дай бог до дому дотащить, без фузеи», – подумал Гринис. И тут снова в ушах его загудели голоса собеседников.
Клуцис:
– Эта дурость никогда добром не кончается. Ребята говорили – все к дьяволу идет, и нам туда же дорога. Зато хоть погуляем. Один начисто сгорел. Говорю тебе, дым изо рта, из носа пошел, весь синий сделался и дух вон. Смотреть муторно было, будто говяжьи легкие…
Модрис тянул свое:
– И девок можно по вагонам щупать.
Клуцис презрительно:
– Которые так в мыле даже ходили. Меня на это бабье с самого начала не больно тянуло. Ну их к бесу. Я уж два года в ломовиках проработал, водку пил и курил не хуже других взрослых, а с бабами еще не знался. Только начни за юбку хвататься, оглянешься – уже жена на шее и поганец орет всю ночь. А старшие дружки все меня обхохатывают: «Дитеночек ты еще, да как тебя за мужика считать, если ты еще ни с одной не спал». Ну, коли такое дело, надо сделать все как положено. Пошли как-то вечером с дружком Густом, он вдвое старше меня был, закатились на Кузнечную. Подцепили двух. Одна старуха, другая смазливая. Я говорю, заплачу, сколько надо, но чтобы молоденькая была моя. Густ молчит, у него карман тощий, жена все выскребает. Купили по бутылке и айда в заезжий двор. Взяли комнату. Для начала, понятно, дернуть надо. Ну и дернули, так что все туманом подернулось. Такой туман, ничего не соображаю. Наутро голова болит, мутит. Весь день езжу и думаю: «Ну, правильный я теперь мужик или еще нет?» Ничего вспомнить не могу, что было, как было. Целую неделю голову ломал, а потом как начало резать! Побежал к доктору. Тот и запел: «Да как тебе не стыдно, такой молодой и уже такую болезнь схватил!» Тут я и понял, что, стало быть, уже не невинный, если больной. Старики меня хвалить, молодец, малый, говорят! Густу завидно стало, он смеется – подпоил меня, говорит, и подсунул старую ведьму, а сам за мои денежки с молоденькой. Уж и хороша, говорит, была. Ну, думаю, такое дело, надо одному распробовать, в трезвом виде. Вылечился, пошел и в точности такую же молоденькую сговорил.
– Ну, и как эта понравилась? – жадно спросил Модрис.
Клуцис понес похабщину.
Гринису хотелось заорать: «Да заткнись ты, боров!» Но он молчал, столько уж пакости навидался. Но свет ведь и в глубокой тьме пробивается, и человек, он нечто выше какого-то жалкого насекомого. Какие необъяснимые противоречия сплетаются в ходе жизни! Будто клубок разматывается день за днем, глядишь – в привычной серой пряже вдруг яркий гарус сверкает. Глаза обращены к солнцу, а ноги часто по топкой грязи бредут. А если человек совсем увязает, если душа его уже не взыскует света? Аристотель вон считал, что чувство прекрасного главное, что отличает человека от животного. Неужели в этом словесном потоке, в этом извержении нечистот, можно различить хоть крупицу прекрасного? А еще был философ, француз Блез Паскаль, так тот сказал, что человек немыслим без мысли – иначе это уже камень или скот. А может быть, все же в этих разговорах пробивается какая-то мысль – крошечная, чуть заметная, хоть вонючая, но мыслишка? Тогда они все же не камни, не животные, а люди.
Он вздохнул. В сердце что-то встрепенулось. Слух уловил и донес до сознания какие-то слова Клуциса:
– Ну, тут мы поддали…
Где-то поблизости замычала корова.
– Ух ты! – прервал свой треп Клуцис. – Если тут пастухи… так они на нас могут выйти!

Никто ему не ответил. Клуцису уже не хотелось громко балабонить, да и Модрис побелел от страха. Цабулис пребывал все в той же полудреме, полубеспамятстве, тогда как Гринис блуждал где-то в своих мыслях. Дни, годы, смена времен, идет к закату человеческая жизнь. И он когда-то видел рогатое стадо на краю болота, слушал, как журавли уносят и приносят полдник. Дни и годы – вёсны, лета, осени. Сияющим цветком расцветало солнце на тусклом сером небе, и с сырых лугов навстречу ему сияло золото калужниц. Одуванчики лезли из земли, наливались белым соком, задорно обнажали свою золотистую головку, седели и рассевали по ветру пушистые семена. Они летели высоко над полем и заносили жизнь далеко-далеко. Куковала кукушка, и пахло навозом. Как счастлив он был, когда ему доверили воз. Из хлева выехал так осторожно, что ступица телеги ни за что не задела, доехал до поля, а возвращаясь, пустил коня рысью, стоя в телеге. Так здорово, так лихо, будто пребывал на ристалище в древнеримском цирке, даже смех разбирал, когда взрослые кричали: «Эй, парнишка, упадешь под колеса!» Ах эти дни! Запах хлева, ноги вечно в цыпках, мыканье стада, и как трудно вставать рано утром! Любая мелочь казалась целым событием, любая песенка заполняла весь мир. Было нелегко, но было много солнца, много смеха и веселья почти из-за ничего. Маленький рижанин у большого хозяина. Первые тяжелые послевоенные годы, а в деревне уже белели стропила в усадьбах новохозяев. Старый Гринис был железнодорожным машинистом, зарабатывал прилично, но милее всего была ему бутылочка. Сначала пил, оплакивая жену, потом тоскуя, что сын не ухожен как надо бы, потом от обиды, получив от какой-то красавицы отказ, не захотела стать мачехой его наследнику, а под конец – по любому поводу; маленький Гринис рос сам по себе, а там пошла школа, а там пастушить. Определили его к настоящему серому барону. Человек это был богатый, но без часто встречающегося в деревне порока: владелец усадьбы «Малые Камуры» не был скупым. Кормил хорошо, но и работать заставлял. Масло всегда стояло на столе, по субботам пекли пшеничный хлеб. Парное молоко Гринис мог пить сколько влезет. Хозяйка была строгая, но спокойная, зря не бранилась. Сам хозяин разговаривал только со взрослыми работниками. Грузный, самоуважительный, резкий в разговоре. Маленький Гринис трепетал перед ним! Это был не просто страх, а нечто большее – хозяин казался воплощением мудрости, всезнания и всеведения, что он сказал, то было неоспоримо. Посреди своего двора он стоял во всем величии, как Цезарь в центре своей империи, это он был солью земли.
Одно-единственное горе угнетало этого почти совершенного человека – с детьми было плохо. Бренного богатства хватало, можно хоть полдюжины пустить по свету не с голой задницей гулять, а седьмому, который лучше всех себя в хозяйстве проявит, усадьбу оставить. Земли было с триста пурвиет, и земля-то какая, будто сало. Женился хозяин на своей двоюродной сестре с другого конца волости, тоже единственной наследнице большого хозяйства, и смог ее приданое обменять на хорошую землю подле себя. Так что у него было что-то вроде целого имения. С большой радостью ждали первенца. Вроде как появления престолонаследника, ведь со временем ему предстояло владеть просторами «Малых Камуров». Соседи из усадьбы на взгорье были голодранцы. «Большие Камуры»? Одно название, что большие. Владелец «Малых Камуров» переплюнуть мог через их владения. Потому-то в округе и перешептывались злорадно, что у гордеца с сынишкой не все ладно. «Не задался, умом тронутый». Хозяин знал, что люди болтают, хотя в глаза ему сказать этого никто бы не осмелился. Он ждал второго сына. У того была «водянка в голове», и врачи ничем не могли помочь. Хозяин привез доктора из дальних мест, – этот был широко известен, на язык и поступки несдержанный, но врач толковый. Вдруг поможет, хоть совет даст, чтобы с третьим все ладно получилось. И вот с этим доктором хозяин на своей половине жуть как повздорил. Гринис в саду яблоки собирал и слышал, как выскочивший на веранду врач еще обернулся и крикнул: «Скоты, выродки чертовы! Ради богатства кровосмесительствуете, а потом удивляетесь, что вместо детей крокодилы родятся!» Гринису показалось, что в этих Докторовых словах прозвучало что-то такое неприличное, что только рижские уличные мальчишки себе позволяли, но слова эти запомнились. Хозяйская половина показалась ему вдруг покойницкой, откуда в самый жаркий полдень веет холодом смерти и тлением. Он старался держаться от нее как можно дальше. До самого отъезда в Ригу спал в клети, хотя все уже перебрались в теплое помещение. Как-то в молотьбу, повозившись со снопами, он увидел ночью во сне, что из хозяйской половины вылезает страшный крокодил и хочет сожрать его. Вопя дурным голосом, Гринис вскочил и в страхе не знал, куда ему кинуться. Хозяин не утратил своей величественной выдержки, но на доктора подал в суд. Что это еще за слова! Он, владелец «Малых Камуров», не прелюбодействует, а живет в законном браке, священником венчанный. А если врач не большой умелец, чтобы вылечить несчастного ребенка, то и не смеет честить его крокодилом. Что там с этим судом было, Гринис не узнал, уехал в Ригу. Но он уже сумел заглянуть в самые темные глубины жизни – и получил отвращение к тому, что там таится…
Солнце уже било в лицо. Гринис встряхнулся. Стало теплее. Болтуны угомонились и задремали. Спокойно дышал и Цабулис, хотя время от времени постанывал. И Клуцис покряхтывал… знать, дорвался во сне до желанной бутылки. А Модрис блаженно улыбался. Странно, во сне с него как будто спадало все пакостное, лицо обретало дурашливое выражение – просто добродушный парнишка. На губе его пристроилась какая-то букашка. Модрис заморгал и вытянул пухлые губы, будто собираясь послать воздушный поцелуй. Гринис вздохнул. Что ему сейчас снится? Может быть, вновь переживает томление первой любви, бурный трепет молодого сердца? А у него сердце щемит. Но это не было болезненным. Бодрящий осенний воздух легко вливался в грудь, и мысли снова улетели куда-то далеко. Душа стала легкой, отрешенной, сладкая усталость охватила все суставы, но уснуть он так и не смог…
В такой вот полудреме Гринис пробыл несколько часов, пока не погрузился в глубокий сон и не проснулся от вечерней прохлады. Кусты уже отбрасывали длинные тени. Скоро закат, впереди новый тяжелый переход. Гринис принялся расталкивать товарищей. Те просыпались, дрожа от холода, злые. По-настоящему не отдохнули ни Модрис, ни Клуцис, но торчать в этом болоте радости мало, и они с готовностью стали собираться. Цабулис все был какой-то странный. Вот он скрючился и закряхтел, как это делают пожилые люди, когда надсядутся от тяжелой работы. Гринис стал делить хлеб, Модрис внимательно глядел на его руки, сразу видно, есть парню охота. Клуцис, позевывая, потянулся всем своим громадным телом.






